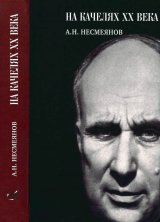
Текст книги "На качелях XX века"
Автор книги: Александр Несмеянов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Мои родители
Образы моих отца и матери будут вырисовываться лишь постепенно, по мере написания этих воспоминаний и в меру моего уменья.
Мать моя родилась в июне 1878 г., как уже было сказано, в Москве и еще в самом раннем возрасте оказалась с родителями в Киржаче. Она получила среднее образование во Владимирской женской гимназии (в Киржаче в ту пору и много лет спустя не было средних учебных заведений) и после нелегкой жизни дома, тотчас по окончании гимназии, уехала из дома, поступив учительницей в какое-то глухое село, местоположение и название которого я забыл. Учительствовала она там вряд ли более двух лет, так как осенью 1898 г. двадцати лет от роду уже вышла замуж.
Как можно видеть на фотографиях того времени и как я сам помню в свои восемь лет, мама была редкой красавицей, скорее польского, чем русского типа, она очень похожа на одну из мадонн Рафаэля. По-видимому, она уже тогда обладала известной независимостью и самостоятельностью, как показывает ее отъезд в дальнюю неизвестную деревню против воли ее деспотического отца. Жизнь с папой не давала оснований для проявления этих черт ее характера, так как это была жизнь полная любви, гармоничности и счастья. В семье, конечно, папа всецело играл роль головы. Играла ли мама роль шеи? Этого, во всяком случае, нельзя было заметить.
В первые годы жизни в Москве, в приюте, маму, очевидно, целиком поглощали маленькие дети и их болезни. Она и сама была не очень крепкого здоровья. Одно время у нее подозревали туберкулез. Дифтерией она болела вместе с нами. Период 1906–1909 гг. я вспоминаю как время моей уже осознанной безграничной любви к маме и боязни за нее. У меня был в папином садике любимый большой дуб, на который я мог легко взбираться – так были расположены ветки (я и сейчас помню их расположение). Там, на высоте, на развилке из трех веток, я сидел, с мучительным беспокойством ожидая маму, уехавшую зачем-то в город.
Несколько позднее, когда дети вышли из грудного возраста, и у мамы появилось больше времени, она стала брать уроки живописи и писала. С моей позднейшей точки зрения, больших способностей у нее не было, но кое-какие пейзажи и натюрморты удавались. Удачны были ее аппликации, которые она делала, наклеивая и нашивая лоскутки материи иногда по своим, иногда по чужим мотивам. Три такие большие картины-аппликации: Балтийское море, Иван-царевич и Ночь (в виде летящей восточной женщины на фоне звездного неба) украшали стены нашей квартиры в приюте и позднейших жилищ. Естественно, что мама и папа были постоянными посетителями выставок передвижников и Союза русских художников, а с 10-12-летнего возраста и я бывал их спутником. Некоторые поразившие меня картины помню до сих пор, например «Ведьму» Богданова-Бельского[25]25
Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945) – художник-передвижник, академик Императорской Академии художеств (1914).
[Закрыть] (это не ведьма, а просто украинка) или, по-видимому, позднее, «Весну» Степанова[26]26
Степанов Алексей Степанович (1858–1923) – художник-передвижник, живописец и график. Академик Императорской Академии художеств (1905).
[Закрыть].
К музыке мама была равнодушна. Лучше сказать музыка была к ней равнодушна: у нее было абсолютное отсутствие музыкального слуха, наследственное от ее отца. Впрочем, в период примерно 1910–1917 гг. у родителей был абонемент (два места) в Большой театр, так что билет частенько перепадал и мне, но если пел Собинов[27]27
Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) – оперный певец (лирический тенор), один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы.
[Закрыть] и особенно Шаляпин[28]28
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – всемирно известный оперный и камерный певец (высокий бас), режиссер.
[Закрыть] – шли родители. Сверх того, у меня примерно с 1910–1912 г. был свой детский абонемент (утром в воскресенье) в Большой, но это уже другая тема.
Свои художественные уменья мама широко применяла, организуя вместе с приютскими ребятами и некоторыми воспитателями подготовку к праздникам, обычно рождественским. Залы школьного здания с елкой, столами с угощениями, зал для танцев и т. д. превращались расписанными декорациями в русские терема или дворцовые анфилады. Делались декорации и для домашних спектаклей, игравшихся воспитанниками, из которых я помню великолепную постановку «Женитьбы» Гоголя и чеховских вещей – «Злоумышленник» и др. Все роли, и женские в том числе, игрались мальчиками (приют был мужской). Когда в приюте появился инициативный учитель пения Лебедев, то была поставлена и опера-попурри. Что касается лично меня, я был мальчик крайне стеснительный, та единственная роль, в которой я фигурировал, и то однажды, была роль суфлера.
Не знаю, получается ли из моего описания картина полнокровной, интересной для воспитанников и старших участников, дружной жизни приюта, но это было так, и мама играла здесь немалую роль, участвуя всей душой в жизни папиного детища – приюта. Из этих художественных забав «вышло и дело». Приют был нацелен на подготовку высококвалифицированных мастеров – слесарей, токарей, электриков. Однако выяснилось, что ряд воспитанников проявил себя одаренными художественно, но малоспособными к мастерству натурами. Были приглашены преподаватели-художники, и группа приютских «ребят» завершила свое образование по этой специальности. Некоторые другие, более склонные к учебной работе, были устроены в учительские семинарии, в частности в киржачскую. Таким образом, мои родители жили душа в душу не только в семье, но и «в деле». Они были неотделимы друг от друга.
Несмотря на то что мама целиком плыла в фарватере мужа, жила его делами, думала как он, она далеко не была обезличена, полностью сохранила индивидуальность. Это особенно ярко проявилось в переломный 1917 г. и в катастрофический 1933 г. – год папиной смерти, которая должна была бы, казалось, раздавить маму, но она, напротив, нашла силы плодотворно работать и одна. Об этом, впрочем, после. Эта интеллектуальная самостоятельность мамы сказывалась и в ее полном атеизме. Для нее просто не существовало вопросов религии. Она была вся земная. Папа, выросший в семье священника, не был безразличен к религии, и хотя был далек от исполнения всех обрядов или наивной веры, но принимал христианские идеалы любви и братства как нечто высшее, связывающее человечество.
Отец мой был худощавым, высокого роста, широкоплечим, с несколько опущенными плечами человеком, фигурой, как мне казалось, походившей на Минина на памятнике, стоящем на Красной площади. Он со студенческих лет носил бороду и усы и рано облысел. При взгляде на него прежде всего поражала крупная голова с довольно широко расставленными, глубоко посаженными, блестящими за очками (он был близорук) темновато-серо-зелеными глазами. Высокий лоб переходил в блестевшую на солнце двускатную голову как бы с хребтом до макушки и мощным полушарием затылка. Холод и тяжесть этого затылка, наполнявшего обе мои ладони, когда я с братьями в 1933 г. клал его в гроб, я и сейчас чувствую. При полном отсутствии сходства в форме головы и лица с Сократом и Лениным было сходное впечатление от мощности, доминантности этой головы мудреца, философа. Большая голова, сидевшая на сутоловатых широких плечах, делала незаметным его высокий рост, свойственный всем Несмеяновым. Рядом со своими очень высокими братьями, особенно гигантом Сергеем, он выглядел человеком среднего роста.
Из духовного училища отец, как я уже говорил, решил перейти в гимназию (во Владимире), так как схоластика ему претила. Может быть, какую-то роль сыграл и пример его любимого старшего брата Александра, окончившего духовную семинарию и поступившего в Варшавский университет (единственный, куда принимали семинаристов), где он вел полуголодное существование и скончался от туберкулеза. Непросто было выдержать экзамены, так как таким предметом, как математика, в духовном училище пренебрегали. Но отца спасли его исключительные способности, экзамены он блестяще выдержал, был принят и до окончания учебы шел первым учеником. В гимназии изрядное место занимали латынь и греческий. Папа всегда находил, что это прекрасная школа ума, и, действительно, впоследствии самостоятельно он справлялся не только с немецким и английским (с которого сохранились его литературные переводы), но изучил и санскрит. Жил во Владимире он у Виноградовых, родственников по матери, а существовал репетиторством. Оно, вероятно, отточило его природный педагогический талант, ставший, по моему собственному опыту и отзывам других, совершенно исключительным. Владимирский период он вспоминал с любовью.
Настало время поступления в университет. Как я жалею, что папа выбрал юридический факультет. Единственная причина этого была в том, что курс длился всего три года, тогда как на других факультетах четыре. Между тем, уже во Владимире образовался кружок товарищей – народников по целеустремлению, сговорившихся по окончании университета «идти в народ», то есть занять в одном из сел место учителя, врача, священника и т. д. Папа стремился осуществить это как можно скорее и действительно осуществил, единственный из всего кружка поехав на десять лет сельским учителем в село Бушово, которое находилось недалеко от Ясной Поляны, где, по его ироническому выражению, даже коров (от голода) не доили, а держали для навоза. Папа легко сходился с людьми, в Бушове у него завелись друзья, некоторые на всю жизнь. Природа там была прекрасная, среднерусская, и папе, привыкшему к более северной киржачской и шуйской, казалась ласковой. Кроме прямого своего дела – учительства, папа организовал там мастерские, имея в виду обучить ребят слесарному делу и таким образом развить кустарный слесарный промысел. Мастерские действовали долго и после его отъезда из Бушова. О его недолгой работе в Городской Московской управе я ничего не знаю.
Мои первые «приютские» воспоминания относятся к 1904 г. Я, например, помню известный буран в Сокольниках, градины величиной с яйцо в салатнике, прогулку с родителями по Сокольникам, осмотр разрушений и полосы вывороченных с корнем вековых сосен. Но воспоминания о деятельности отца относятся, конечно, к более позднему времени. Они имеют вполне «внешний характер». После утреннего чая папа уходил «в приют», по-видимому, совершал обход «домиков». Позже, когда было построено школьное здание, включавшее и контору, он заходил и в эту контору, тогда как раньше те же функции выполнял вечерами у себя дома, в «кабинете», где слышалось щелканье на счетах и куда заходили хозяйственные служащие.
Много времени он отдавал преподаванию, причем он вел арифметику, а когда ребята подросли, то алгебру и геометрию. Математику он всегда любил и глубоко чувствовал. В 1918–1922 гг. он преподавал математику уже в средней школе в Щелкове, а когда по возвращении в Москву принял участие в работе на так называемых Курсах особого назначения (КОН) для рабочих, то быстро постиг дифференциальное и интегральное исчисление, начальный курс которых и преподавал на этих КОН. Я всегда горько жалел, что не унаследовал его математические способности.
Но возвращаюсь к работе отца в приюте. В два часа он приходил домой, и мы обедали. Тотчас после обеда он уходил опять. Дел и кроме преподавания было много, потому что он входил во все – и в разбивку парка и посадку деревьев и кустов, что он очень любил, и в планирование и строительство, когда оно было, и во все крупные и мелкие дела жизни приюта. Постоянно была и общественная работа. То это была организация и участие в деятельности «Ростокинского общества средней школы» (целью была организация гимназии в нашем районе), то работа в каких-то попечительствах. Во время войны 1914 г. отец занимался организацией раздачи пособий семьям воинов, а с момента, когда хлынула волна беженцев из Польши и с запада России, на него была возложена городом огромная по трудности задача устройства многих тысяч беженцев в Москве, захватившая его полностью. В это время часто его не было видно дома не только за обедом и традиционным пятичасовым чаем, но и за ужином. Однако я опять забежал вперед. Возвращаюсь к годам моего детства.
В раннем детстве, помню, папа находил время заниматься со мной – и подкидывал на руках, и качал на коленях, произнося нараспев прибаутки, и катал на плечах. Затем времени для детей оставалось все меньше, и папа представлялся мне всегда занятым, озабоченным, строгим и даже суровым. Ничего не могло быть более ложного, чем это представление. Папа умел и любил работать, какая бы это ни была работа: урок он вел упоенно и увлекательно; копал и разделывал грядки так, что земля была как пух, без травинки, а форма – геометрически точная. Его большие руки неторопливо, ловко и точно делали любую работу, в которую он вносил свою разумную систему (вспоминаю, например, что в Щелкове, о чем речь будет дальше, он топил печи торфом и месил тесто для черного хлеба, как квалифицированный истопник и булочник). С такой же обстоятельностью он в 30-х годах писал отчеты Отдела народного образования Моссовета, где тогда работал. Это был работник с большой буквы.
Естественным логическим следствием была и его требовательность. Он органически не терпел плохой работы как подчиненных ему сослуживцев, так и детей. Не терпел он и недостойного поведения. В этих случаях он был гневлив. Отсюда и впечатление о его суровости и строгости. Между тем в душе он был созерцателем, даже мечтателем. Он нежно любил природу – леса и просторы, каждую травинку, пробуждающуюся весной, любил ранним утром выкупаться в еще подернутой туманом безлюдной реке и переплыть ее мощными бросками. Особенно любил он долгие пешие прогулки и переходы и в юности совершал с двоюродными братьями такие километров по тридцать прогулки. Эту свою поэтическую созерцательность сам он считал ленью.
С его педагогическими способностями и приемами я познакомился будучи гимназистом. Дошкольное мое обучение лежало целиком на маме. Я уже не помню, когда выучился читать, помню себя только грамотным, но писать и считать учился под ее руководством. Она же старалась знакомить меня и с природой. Названия многих полевых и лесных растений я знаю от нее. Я должен сознаться, что в гимназии был не слишком прилежным учеником, и бывали периоды, когда я очень запускал свои учебные дела. Папа не имел возможности систематически следить за состоянием моих дел, но изредка основательно прощупывал мои знания по тому или иному предмету. Результатом обычно бывало то, что ближайшие месяцы он посвящал занятиям этим предметом со мной и кардинально выправлял положение. Так было с алгеброй в начале ее изучения, так было с латынью в четвертом или пятом классе. Он так сумел в одну такую «сессию» вложить в меня логику латыни, что я до конца гимназии получал по ней пятерки, уже не уча уроков.
Он учил именно логике предмета, умея вскрыть ее так, что все становилось ясным: не запоминать, а понимать и овладевать логикой и развитием предмета, тогда запоминание там, где оно необходимо, придет само. Забыл – всегда можно сейчас же сообразить, следуя этой логике. И он это великолепно демонстрировал. Этот метод не вызывает удивления в применении к математике, но и в изучении языка у папы был тот же метод. Уже с первого-второго класса он заставлял меня читать по-немецки Шпильгагена[29]29
Шпильгаген Фридрих (1829–1911) – немецкий писатель. Один из первых романистов Германии, его романы входили в число наиболее читаемых.
[Закрыть] и вскрывал логику немецкой фразы. Да не подумает читатель, что для меня были радостны эти занятия (как радостны воспоминания о них). Во-первых, в период «сессии» они отнимали у меня в день часа по два. Во-вторых, отец отнюдь не отличался большой терпеливостью к проявлениям тупости или невнимания, и приходилось эти два часа (изо дня в день) проводить в состоянии полного напряжения. А оставались еще другие уроки!
Еще несколько слов о папиной памяти. Это в значительной степени, как я сказал, была логическая память. Все было связано воедино, одно вытекало из другого, и выпавшее звено легко восстанавливалось. Но не только логической была эта память. Однажды, когда папе было лет шестьдесят, а мне лет тридцать, мы проделали такой опыт. Был написан ряд цифр, и надо было установить, какой ряд цифр каждый из нас может запомнить, посмотрев на них определенное число минут. Папа запомнил примерно вдвое более длинный ряд цифр, чем я. В редкие свободные вечера папа читал нам вслух. У него был довольно низкий красивый голос (бас-баритон, вероятно). Он читал Пушкина, Гоголя, Гюго, Шекспира, Шиллера. Читал он хорошо. В драме совершенно не старался актерски подделаться под действующее лицо, а естественно интонировал фразу от себя. Чудесно читал стихи, гармонично сочетая ритм с интонацией. После его чтения мне одинаково неприятно было слушать и чтение поэтов с их ритмическим говорком, и чтение актеров с доминантой прозаической интонировки, с забвением ритма. Это были стихи Пушкина, Тютчева, А. Толстого, Фета, Вл. Соловьева, которого папа очень любил и, конечно, других поэтов.
Возвращаясь к прозе, отмечу, что одними из любимых авторов папы были Диккенс и Достоевский, которых он, однако, нам вслух не читал, поскольку последний, конечно, не подходил возрасту слушателей. Вообще, мне кажется, отец отдавал предпочтение произведениям тональности романтической и гуманистической. Конечно, он в полную меру оценивал романы Л.Н. Толстого, но самого Толстого не любил. Ему было чуждо христианство в толстовском понимании, а самого Толстого (другой вопрос, справедливо ли) он считал позером. Во время службы отца в Бушове (которое, как я уже говорил, расположено недалеко от Ясной Поляны) какой-то знакомый, вхожий к Толстым, уговорил папу съездить к ним. Из разговора папы с Л.Н. Толстым я запомнил по его рассказу только одно. Разговор шел о христианстве и Христе, и Лев Николаевич довольно резко сказал: «Что Вы носитесь с этим Христом, с этим пьяницей» (по-видимому, намекая на брак в Кане Галилейской)[30]30
Брак в Кане Галилейской – первое чудо, совершенное Иисусом Христом во время брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета – претворение воды в вино (Евангелие от Иоанна, 2, 1-11).
[Закрыть]. Папа услышал в этих словах подтекст: «Я вот вероучитель, я – это Христос», и это отца навсегда отвратило от Толстого. Он вообще органически не переносил зазнайства и чванства. Сам он был полностью лишен не только этих качеств, но и честолюбия. Не только я, но все без исключения близко знавшие его люди считали его интеллект превосходящим все, с чем приходилось встречаться. Это мнение у меня сохранилось навсегда, даже после того, как я повидал многих исключительных деятелей науки.
Позже мы совершали увлекательные путешествия по всем эпохам, но особенно хорошо папа знал Грецию и Рим. Это, конечно, были плоды не столько Владимирской гимназии, сколько университета и того, что университетские годы он отдавал не только юриспруденции. Я уже говорил о санскрите. Все, и прежде всего мама, бывало, удивлялись, что отец довольствовался в жизни столь скромной ролью и полем деятельности. В разговорах с мамой, происходивших при мне, папа ссылался на свою лень (читай созерцательность) и на отсутствие в нем творческого потенциала, говоря, что если бы он имел такое творческое начало, как мама, тогда бы из него вышел толк. Как бы то ни было, он, по-видимому, не жалел о той скромной роли, которая ему выпала, и с усердием и любовью делал свое дело. Он был труженик. Его двоюродные братья Виноградовы со свойственным им грубым остроумием прозвали его конягой.
Еще одной чертой отца, которую я должен отметить, было совершенно одинаковое, ровное обращение его с людьми всех рангов – от прислуги и дворников до властей города и миллионеров Бахрушиных. Это было проявление не только присущего ему чувства собственного достоинства и уверенности в себе, но и естественной для него способности вставать на место любого человека, понимать его и поэтому быть объективным. Эта хорошо известная родным и знакомым способность была для него и источником неприятностей: его часто просили быть третейским судьей в спорах самого разного характера. Его решениям всегда подчинялись.
Папа любил людей и общество. Во времена моего раннего детства, до 1910 г., в гостях у нас бывали папины приятели по Бушову, многочисленный клан Виноградовых во главе с папиным дядей – патриархом Петром Андреевичем и его женой Анной Ивановной. В прихожей вешалки ломились от гор шуб. Стол в нашей большой столовой раздвигался, на нем появлялись яства и пития, шли оживленные беседы, из которых в мой мозг ничего не запало. У нас постоянно (годами) жил кто-нибудь из папиных сестер или мамин брат, и одна из комнат так и называлась тетина Верина, затем она становилась тетиной Маниной, а в промежутках дядиной Володиной. На каникулах приезжали мамины сестры – институтки Наташа и Оля. По воскресеньям в гости приходили сначала братья папы – студенты Андрей и Сергей, позднее его племянники и племянницы, тоже студенты и студентки – Леонид, Борис и Вера (дети сестры Людмилы), Кира (дочь следующей за папой сестры Надежды), часто их сопровождали их приятели и приятельницы. При всей занятости папы жизнь в нашей квартире всегда шла с его участием, и у него для всех находилось какое-то время. Бывало и такое радостное время, когда гости были из Шуи (раза два приезжал и дедушка) или из Киржача (Никольские, бабушка). Словом, наша обширная квартира в Сокольниках была любимым центром общения, и жизнь здесь кипела.
Когда мне было лет шесть, папа и мама единственный раз в жизни позволили себе отправиться на лето за границу (впрочем, в другой раз, позднее, они ездили в Финляндию, но в то время это была не совсем «заграница»). Они побывали в Германии, Швейцарии, Северной Италии. Поднимались (тогда фуникулера не было) на Юнгфрау. Папа объяснялся по-немецки. Природа Швейцарии, музеи Мюнхена и Италии оставили сильное впечатление, но, несмотря на это, главным стремлением папы было поскорее вернуться в Россию. Претил меркантильный дух: плата за вид на водопад, плата за вход к красотам природы, в счете пункт: столько-то марок за то, что вы у нас не обедали. Насколько я помню, в последнем случае папа возмутился и скандалил.








