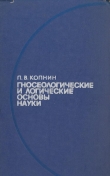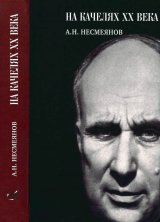
Текст книги "На качелях XX века"
Автор книги: Александр Несмеянов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Гимназия
Возвращаюсь к моему поступлению в гимназию.
Я уже говорил, что родители остановили свой выбор на частной гимназии Страхова[43]43
Дом № 6, стр. 1 по Садовой-Спасской.
[Закрыть] на Садовой-Спасской, между Красными воротами и Сухаревой башней[44]44
Сухарева (Сухаревская) башня – выдающийся памятник русской гражданской архитектуры, построена в 1695 г. Располагалась в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира). Несмотря на протесты архитекторов и историков, Сухаревская башня была разобрана в 1934 г. В принятии данного решения участвовал И.В. Сталин.
[Закрыть], напротив Спасских казарм[45]45
Спасские казармы (с 1920 г. Красноперекопские казармы) – памятник архитектуры на Садовой-Спасской ул., д. 1. Построены в 1798 г. После окончания Великой Отечественной войны в них разместились гражданские учреждения.
[Закрыть]. Плата в этой гимназии была 200 руб. в год – вдвое выше, чем в казенных гимназиях, и несомненно очень чувствительна для кармана родителей. Это была в то время месячная зарплата папы. Но П.Н. Страхов – владелец и директор гимназии – был раньше преподавателем мужской гимназии во Владимире. Дядя Володя у него учился, и его отзывы, которые он со свойственной ему экспансивностью и общительностью сообщал маме во время его учебы во Владимире, видимо, решили дело.
Экзамен был серьезный, но читать я «всегда умел», писал в то время уже без ошибок, со всеми ятями, легкий оттенок владимирского произношения у нас в семье делал для меня нисколько не затруднительным, в отличие от истых москвичей, различение безударных гласных; так, я органически не мог написать чирвяк, типерь, сежу – обычные ошибки москвича. Так что я даже не помню ничего о диктанте и чтении, кроме благополучного результата. Но арифметика запомнилась. Экзаменовал наш будущий учитель арифметики Андрей Кузьмич Голубков, который задал мне задачу в 12 вопросов. Возился я с ней долго, но решил благополучно и был принят. Помню сборище в зале в день открытия. Были и вновь принятые ученики с их родителями, я – с мамой.
Начались занятия. Ежедневно я вставал в 7–7.30 и после завтрака в 8 часов выезжал из дома, чтобы к 9 попасть в гимназию. Дело было организовано так, что из приюта отправлялась летом линейка, зимой – розвальни, и кучер Сергей доставлял всех детей служащих, учащихся в городе, до трамвая в Сокольники. Года через три-четыре, когда провели трамвай от Сухаревой башни до Крестовских башен, Сергей стал доставлять нас до Крестовской заставы[46]46
С 1947 г. – Рижская площадь.
[Закрыть]. Он и встречал нас обычно в три часа, но если к этому времени кто-то не успевал, тогда приходилось от трамвая до дома идти пешком. Через Сокольники это путь километра в три парком, очень приятный. От Крестовской заставы по Алексеевской улице[47]47
Алексеевская улица – в настоящее время Новоалексеевская.
[Закрыть] мимо водокачки путь был короче, километра полтора-два, но не такой поэтичный – предместьем города. Ездило нас сначала немного – 3–4 человека, потом больше, и экипажа не хватило бы, если бы не деятельность Общества Ростокинской средней школы, которое открыло гимназию (уже смешанную) вблизи приюта. Начиная с моего брата Васи, ребята пешком ходили в эту гимназию.
Мой рабочий день в гимназии длился обычно 6 часов, изредка 5, я приезжал или приходил домой к четырем часам, обедал, а в шесть уже должен был садиться за уроки. В первом классе я еще был добросовестен, да и мама систематически следила за мной, а дальше я все меньше занимался приготовлением уроков, по крайней мере, устных. Письменные-то нельзя не сделать, а устные спрашивают редко, в классе сорок человек, «пронесет». И занятия с папой, периодические «сессии», о которых была речь, помогали держать уровень. Тактика у меня была такая – не приносить двоек в четвертях. И действительно, за все восемь классов их в четвертях не было ни одной. А пятерки – я за ними не гнался. Иногда – по естествознанию, физике, химии, позднее – по русскому языку (литературе), латыни – они сами меня находили. С арифметикой на первых порах я был не в ладах и единственную за все время единицу получил в первом классе по этому предмету (в четверти была тройка). В общем, времени на мое «личное» естествознание (весной и осенью) и на чтение, игры, прогулки оставались крохи, и я чувствовал себя более или менее каторжным.
Я был настолько глуп, что не осознавал пользы от таких предметов, как география, русский язык (чего еще надо – читать и писать я умел безукоризненно), другие языки, латынь (правда, мне до сих пор жаль потраченное на нее время), химия (школьная!). Большая часть того, что преподавалось, была мне не нужна и чужда. Ну какой мне был интерес в Фридрихе Барбароссе или Хлодвиге и династии Каролингов, в войне обеих Роз?! Я считал, что распорядился бы своим временем куда рациональнее, не говоря уже о том, что интереснее. Но такое отношение было лишь к школьной истории. Уже в то время я с увлечением читал, не помню чью, книгу по истории Египта (Масперо?)[48]48
Масперо Гастон Камиль Шарль (1846–1916) – французский египтолог.
[Закрыть], меня пленяли Шампольон[49]49
Шампольон Жан-Франсуа (1790–1832) – французский востоковед, основатель египтологии. Расшифровал текст Розеттского камня, благодаря чему стало возможным чтение египетских иероглифов.
[Закрыть] и разгадка им письмен Розеттского камня, я читал о Сумерах и Аккадах, меня очень интересовала эпоха падения Римской империи и жизнь Византии, как будто отрезанного от Рима органа, пережившего свое тело на много столетий. Я старался понять удивительное мирное сосуществование славян и угро-финнов, с мозаикой их поселений, и т. д. и т. п. Лишь средневековая история была мне скучна.
Необходимость знания немецкого и французского языков была осознана мною гораздо позднее, поэтому попытки родителей завести немку «бонну» или – летом!! – преподавательницу-француженку давали минимальный эффект. С нашей стороны – моей и брата Васи – это была кампания гражданского неповиновения.
Не компенсировало мою «каторжную повинность» и общение с товарищами по классу. У меня в гимназии просто не было друзей. Почему?
Во-первых, я был совершенно удовлетворен друзьями в приюте. Кроме тех, о которых я говорил, у меня еще за год до первого класса появился друг – Борис Касперович, сын инженера Евгения Федоровича, приглашенного заведовать учебными мастерскими приюта. Четыре года Борис был моим близким другом, с которым мы совершали «путешествие»: я – в гимназию, он, начав учебу годом раньше, – в реальное училище. Борис был на год старше меня, но физически развивался еще быстрее. Это и была одна из причин, по которой мы разошлись, хотя и не ссорились.
Во-вторых, большинство мальчиков моего класса, как это часто бывало в дорогих частных гимназиях, принадлежали к богатой буржуазии со свойственными этому классу неприятными чертами, которые чувствовались повседневно. Были и задававшие тон оболтусы, исключенные из других гимназий и нашедшие приют в Страховской. Были, конечно, и мальчики с яркой индивидуальностью и будущим, но они или тонули в общем хоре, или ему подчинялись. Среди них могу отметить моих одноклассников Анатолия Викторова (будущий артист МХАТа Кторов), Виталия Зака (будущий литератор), Николая Прянишникова – сына академика Д.Н. Прянишникова (будущий профессор, трагически погибший в автокатастрофе еще сравнительно молодым), Бориса Михальчука (впоследствии химик, заведующий лабораторией НИУИФа). Как я узнал из книги авиаконструктора А.С. Яковлева «Цель жизни», и он учился в гимназии Страхова, года на четыре позже меня.
По названным причинам я не любил своего класса, не любил гимназии и настолько стремился домой, что и пяти минут лишних не отдал бы гимназии (фото 9). Характерно, что я всего один раз и то лишь в первом классе был в гостях у одного из своих товарищей, и у меня, насколько помню, лишь один раз за восемь лет был мой одноклассник Войтехов, сосед по Алексеевской водокачке, сын ее инженера.
Наши учителя в большинстве были квалифицированными, добросовестными, но педагогически бесталанными, скучными, как бы прокуренными скукой. Были исключения. Странный, огромный, носатый, черный, в учительском синем мундире Николай Иванович Нарский с четвертого класса преподавал древнюю русскую литературу и интересно, страстно, с чудными жестами, хватая себя то за нос, то за эспаньолку и взад и вперед раскачиваясь, рассказывал то о былинах, то о «Повести временных лет», анализируя и особенности стиля, и историческую обстановку.
В 5–6 классе у нас появился новый учитель французского – мсье Бертье, плохо изъяснявшийся по-русски, с трудом прочитывавший в своей книжечке мою фамилию – Веянеямяснов – и имевший, с моей тогдашней точки зрения, комическую наружность: широкое лицо, эспаньолка, пенсне, наружность, которую я мог похоже нарисовать в системе декартовых координат и затем, давая ряд XY координат последовательных точек, определяющих контуры лица Бертье, вывести тем самым его формулу. Физику у нас вел А.И. Анненков, с которым судьба свела меня позднее в университете как с ассистентом, у которого я проходил практикум по качественному анализу. Химию (был в нашей гимназии и этот предмет, что было редкостью в то время) преподавал также ассистент МГУ Е.С. Пржевальский[50]50
Пржевальский Евгений Степанович (1879–1953) – химик, доктор химических наук (1935). Один из создателей Института химически чистых реактивов (01.01.1917). Декан химического факультета (1939–1944). Директор Научно-исследовательского института химии Московского университета (1939–1953).
[Закрыть] (фото 13), но, в отличие от Анненкова, – педантично и на редкость скучно. Если бы не моя уже непреодолимая влюбленность в химию, Евгений Степанович, конечно, не зародил бы интереса к этой скучнейшей в его изложении науке. С ним я тоже долго, до самой его смерти, встречался на университетском поприще. Я не имел понятия о работе моих учителей в университете. Но независимо от них мой-то путь был определен ясно: университет, физико-математический факультет, естественное отделение, специализация по химии.
Яркой была личность Петра Николаевича Страхова. Он, действительно, был педагог божьей милостью. Однако он не преподавал, а только заменял в нашем классе того или иного заболевшего учителя. Замена была своеобразной: вместо того урока, который должен был быть по расписанию, он нам давал урок латыни. Впрочем, это одновременно был урок и римской истории. Мы переносились в эпоху, скажем, Юлия Цезаря, с языком того времени, обычаями, событиями. Часто он просто читал нам какие-то свои записки, написанные на отдельных листах с полями его, знакомым нам, четким прямым почерком. Читая, он вдруг зажигался, отвлекался и образно живописал эпоху. Слушали мы его, затаив дыхание. Сам он был невысокий, со стриженой седой головой, серой клинышком бородой и усами, сероглазый, немного пузатый, в куртке цвета хаки, с очками, сползающими на кончик носа. Он, единственный из учителей, называл всех нас на «ты» от первого до восьмого класса. Если бы он был и организатором таким, как педагогом!
Что сказать еще о школе? Нам очень везло с экзаменами. Я держал их только при переходе из четвертого в пятый класс. Но это были экзамены с наблюдателями из учебного округа, так как в то время гимназия Страхова еще не получила самостоятельных прав на их проведение, это произошло, когда я был уже в старших классах. Несмотря на то что весной 1913 г. я долго болел, перед экзаменами папа взялся за меня, особенно за мою математику, и я легко преодолел этот барьер. По математике получил пять и, кажется, не помню точно, остальные предметы сдал в основном на пятерки. Выпускной экзамен на аттестат зрелости должен был происходить весной 1917 г., он был повсеместно отменен, и мы получили голубые аттестаты «даром».
Перед окончанием гимназии меня вызвал к себе Петр Николаевич Страхов и сказал, что я бы получил серебряную медаль, если бы не старая тройка по чистописанию (писал я всегда как курица). Он предлагал мне пересдать чистописание, я отказался, сказав, что ни серебряная и никакая другая медаль мне не нужны. Тогда он что-то мне продиктовал – одну фразу. Позднее я увидел в своем аттестате по чистописанию высокий балл (уж не помню, четыре или пять) и приписку: награжден серебряной медалью.
Дала ли мне что-нибудь гимназия? Да, с гораздо большей затратой времени, чем нужно, со скукой, которая в интеллектуальной жизни эквивалентна трению в механике, но все же дала и уменье работать (и уменье избегать ненужной работы), и в дополнение к тому многому, что дала мне семья, кое-что необходимое для общего развития. Даже основы немецкого и французского языка (очень слабо, но все же гораздо лучше «поставленные», чем в современной средней школе) были заложены так, что эти языки, а затем и английский, после небольшой подготовки, не доставляли мне трудностей при чтении научной литературы в университете.
И все же самым светлым временем я считаю не гимназические, а ранние детские и университетские годы.
Вегетарианство
Я начинаю самый трудный для меня раздел моего рассказа. Возвращаюсь далеко назад, к моему пятилетнему возрасту. Раз, гуляя по нашему садику – от жилого корпуса по направлению к зданию бани и прачечной, я увидел знакомого мне дворника Матвея – маленького кривоногого мужичка с красивой уткой под мышкой и большим ножом в руке. Заинтересовавшись, я увязался за ним. Дойдя до прачечной и остановившись у обрубка бревна, стоящего вертикально, он положил утку на бревно и быстро отпилил ей ножом голову. Утка отчаянно махала крыльями и, вырвавшись, полетела без головы и упала шагов за двадцать. Карапуз, я отнесся к этому с философским интересом. Жалости не было. Просто это был интересный эксперимент. Но ретроспективно все это окрасилось и до сих пор окрашено в тона отчаянной жалости, глубокого возмущения и собственного бессилия.
Когда мне было лет 65, я узнал от Игоря Евгеньевича Тамма[51]51
Тамм Игорь Евгеньевич (1895–1971) – физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (совместно с П.А. Черенковым и И.М. Франком, 1958). Основные работы относятся к квантовой механике, физике твердого тела.
[Закрыть] (физика, академика), что его внук, Верещинский, тогда мальчик лет 13, – вегетарианец по убеждению. Я попросил Игоря Евгеньевича познакомить меня с его внуком. Они были у нас – очаровательный дед и очаровательный внук, и мальчик рассказал мне о своем «совращении» в вегетарианство: кухарка при детях свернула голову курице. Верещинский и сестра схватили ножи и бросились на кухарку. И я, 65-летний старик, завидовал их реакции и со стыдом вспоминал свое поведение.
Прошло несколько лет, прежде чем я начал осознавать, что живу в мире постоянного хладнокровного убийства. В 9-10 лет я категорически заявил родителям, что не буду есть мяса. Папа отнесся к этому спокойно и уважительно, а мама с крайним беспокойством (вероятно, за мое здоровье) и, будучи натурой властной, употребила всякое увещевание и власть, чтобы заставить меня есть «как все люди». В дискуссиях со мной она приводила много веских в ее глазах аргументов, и мне иногда трудно было их оспорить: куда же денутся животные, если их не есть; человек не может жить и быть здоровым без мясной пищи. Моя позиция была – «без меня», «я в этом участвовать не желаю, не могу и не буду».
На первых порах были все же достигнуты паллиативы: мама уговорила меня есть мясной суп (которому придавала какое-то особое питательное значение), рыбу (которую не жалко) и стреляную птицу. Последнее основывалось на том, что из наших дискуссий мама знала, что особенно меня «давила» безысходность, невозможность уйти от своей судьбы намеченному на убой животному. На охоте иное дело. Впрочем, эта часть паллиатива имела чисто теоретическое значение, так как никакой дичи у нас никогда не подавали. От супного паллиатива я быстро отказался, а рыбный паллиатив держался довольно долго, и лишь с 1913 г. я окончательно отказался и от рыбы.
Произошел такой характерный случай. На какой-то праздник у нас был сделан и подан к чаю «хворост». Я его ел как все. Какая-то из гостей спросила у мамы рецепт, мама забыла о моем присутствии и сообщила, что тесто окунают в горячее гусиное сало. Здесь она спохватилась и прикусила язык. Я встал из-за стола и ушел из комнаты. Я долго не появлялся и думал о самоубийстве. На другой день ко мне пришел папа и душевно и хорошо поговорил со мной, сказал, что мама обещала не делать подобных вещей, извинился за нее. И хотя я стал оттаивать, но значительная доля детской любви к маме была убита навсегда. Она до удивительности не понимала меня. Больше никогда она не пыталась меня угостить «человечиной», но в кухне я, бывало, находил утиные головы, а то и части тела «своего» теленка.
Мое активное «вегетарианское чувство», усиленное ее сопротивлением, форсировало то, что я видел везде следы крови и убийства, если не самые акты убийства. В приюте я постоянно натыкался на пеньки с прилипшими к разрезу перьями и лужицей потемневшей крови, слышал истошный визг убиваемых свиней. В Киржаче я видел мою бабушку, покупающую цыплят, по-людоедски ощупывающую их при покупке. В Шуе, встав рано, я наталкивался на прислугу, ощипывающую только что зарезанную курицу. Возвращаясь из гимназии по поэтическому 3-му просеку, я встречал караван саней или телег с наваленными на них ободранными и обезглавленными трупами коров и быков или разрезанными пополам трупами свиней. Все это было невыносимо, стояло перед глазами день и ночь, и самым невыносимым тогда, в детстве, и теперь была юридическая и фактическая беспомощность.
Если грабят или убивают человека, не только можно, но и должно любыми средствами вступиться за него. Если на твоих глазах (или заочно, не все ли равно) убивают животное, какой бы накал чувств ты ни испытывал, ты не имеешь права не только спасти животное, но не имеешь никаких прав. Неужели это не остаток юриспруденции каменного века? Позднее я убедился, что некоторый, вероятно небольшой, процент людей, чувствует все это так же как и я, но тогда я был вполне одинок. Более того, я начал видеть в родной матери врага, заступника и участника этой кровавой системы, насильника. Жестокость была (и есть) кругом. Ее демонстрировали на улицах ломовые извозчики, смертным боем бившие перегруженных лошадей, живодеры, уничтожавшие непригодных для работы лошадей, санитарная служба, ловившая и убивавшая собак, охотники из корысти или гораздо чаще из «любви к природе» (!!), стрелявшие «дичь». И самая большая жестокость проявляется по отношению к домашним «съедобным» животным.
Мне до сих пор больно ездить летом по Каширскому шоссе, потому что я встречаю гурты быков и телят, гонимых в Москву навстречу своей участи. Вероятно, если бы не моя в общем глубоко оптимистическая натура, совершенно не склонная к меланхолии, я бы сошел с ума. Я был в детстве склонен к фантазерству и в фантазиях расправлялся со всеми мясниками, попадавшимися на пути. Я изобрел особый звук, производимый боками языка, он обозначал выстрел, притом не пулей, а маленькой отравленной иглой, и, встречая караван ободранных трупов или проезжая мимо мясоторговли, или видя ломового извозчика, истязающего лошадь, я мысленно расстреливал всех участников этих кровавых дел. Хоть и в плане фантазии, это все же уменьшало кошмарную беспомощность. Позднее, в старости, из писем ко мне я узнал, что не одинок в мире с такими чувствами. Так я и нес этот свой крест через всю свою жизнь.
Ясно, как мало способствовали эти мои настроения сближению с одноклассниками. Что касается приютских приятелей, то я помню разговоры с одним лишь Генераловым, который стоял на практической точке зрения: «Сколько скота пригонят на бойню, столько и убьют, будешь ты или не будешь есть мясо. Так что от этого ничего не зависит, и это ничего не изменит». Все такие разговоры мне давались нелегко. Я чувствовал, что на них у меня нет ответа. Я тогда пришел к выводу, что надо считать главным, первичным чувство и убеждение, руководившие мной, а все остальное выводить из них. Это давало какую-то почву под ногами. На заявление мамы и ее единомышленников вроде дяди Володи, заявление, свойственное вообще-то естествоиспытателям, что, мол, «животный мир так устроен, что одни существа питаются другими и что это закон природы», я уже с детства знал возражение: «На то человек и овладевает наукой, чтобы устанавливать в природе свои порядки и законы, а не следовать слепым законам природы. По закону природы человек не летает по воздуху, а, используя другие законы природы, он ниспроверг этот закон и полетел. Цель человечества преодолеть и кровавый закон попирания одних другими, в первую очередь человеком». Многое становилось мне ясно позднее. «Куда же денутся домашние животные, которых человек разводит сейчас в таком огромном количестве, если их не убивать и не поедать?» – «А зачем же разводить такое количество животных в нарушение естественной эволюции? Они вымрут и их не будет вовсе». Это в известной мере оправдалось позднее на примере лошади, которую теперь встречаешь все реже. «А дикие животные, если их не истреблять, они заполонят мир?» – «Дело обычно обстоит как раз наоборот. Если их не охранять и не поддерживать, и не подкармливать, эти дикие животные имеют тенденцию вымереть, как вымерли сокольничьи сосны». – «А как же с дорогой тебе наукой? Разве зоология, физиология, медицина могут обойтись без жестокости с животными?» – «Не подменяйте главного вопроса второстепенным и сравнительно малым. Впрочем, физиология и медицина обходятся без массовых и жестоких опытов на человеке, значит, надо идти по аналогичному пути и с животными». – «Где же граница запрету на убийство – малярийные комары, которых относят к животным, комары, клопы, насекомые-вредители и т. д. и т. п.?»
Конечно, во всем есть результат постепенности и градации, не вечные, но разные в разные эпохи. Убийство человека было когда-то повседневным явлением. Убийство человека с корыстной целью в моих глазах еще более тяжкое преступление, чем убийство животного, а убийство животного более тяжко, чем, скажем, рыбы. Без уничтожения насекомых в нашу эпоху, мы, очевидно, обойтись не можем, но отсюда никак не следует вывод, что следует разрешить убивать животных, а далее и человека. Вот примерная канва моих дискуссий с родными и с самим собой.
После 1910 г. я на протяжении всей своей жизни совершенно не ел мяса, а после 1913 г. и рыбы, что, между прочим, было нелегко в голодные 1918–1921 гг., когда существенным продуктом питания были вобла и селедка. Если я говорю нелегко, то это касается лишь голодного организма, а не воли. Я не мог и представить себе, чтобы я стал есть что-либо мне по убеждениям не положенное. В 1919 г., совершая путь в канцелярию отдела изобразительных искусств Наркомпроса[52]52
Наркомпрос – народный комиссариат просвещения – государственный орган СССР, контролировавший в 1920-1930-х гг. практически все культурно-гуманитарные сферы.
[Закрыть] на Остоженку и обратно на Домниковскую, где я жил тогда в семье Сергея Виноградова, я предавался голодным мечтам о гречневой каше и других таких же изысканных блюдах, но не мог и подумать о мясе или рыбе. Когда я входил в квартиру, меня тошнило от запаха конины, которую варила для своей семьи Анна Андреевна Виноградова. Я, несомненно, пошел бы на смерть, если бы пришлось, лишь бы не съесть мяса. Так возникает фанатизм. Так родится сектантство. Эту опасность я всегда сознавал и старался ее избежать, то есть старался не противопоставлять себя всем людям. Не считать символ, протест, каким, в сущности, является отказ от мяса, за существо дела.
Уже после Октябрьской революции меня посетила мысль, что если безубойное существование человеческого общества возможно, то никоим образом не иначе, как в условиях социализма. В частновладельческом буржуазном обществе с убоем ничего нельзя сделать, и положение может только прогрессировать в сторону чикагских боен. Читая книги по марксизму, я убеждался, что решающим фактором в борьбе за освобождение должны быть не сентиментальные рассуждения и чувства, а экономика. Если приблизить такое время, когда можно будет производить пищу более дешевым способом, чем кормление и убой животных, тогда все получится само собой. Но наука 40-х и 30-х гг. была еще слишком слаба, чтобы ставить конкретно такую задачу.