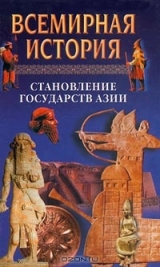
Текст книги "Всемирная история в 24 томах. Т.5. Становление государств Азии "
Автор книги: Александр Бадак
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
ОБ ОСАДЕ ГОРОДА ГУ.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ЧЖАО ГУНА (527 Г. ДО Н. Э.).
Сюнь У из государства Цзинь с армией напал на варварское государство Сяньюй и осадил город Гу. Некоторые люди в Гу предпочли взбунтоваться и передать город осаждающим. Сюнь У не согласился на это. Его приближенные говорили: «Вы можете получить город так, что это не потребует никаких усилий от ваших воинов; почему вы не сделаете этого?» Сюнь У ответил: «Я слышал от мудрого человека Шусяна, что если те, кто наверху, не смешивают хорошее и дурное, то народ знает, к чему он должен стремиться и все дела удаются. Если бы у нас кто-нибудь взбунтовался и сдал врагу наш город, я бы считал это дурным поступком; что же хорошего в том, что кто-то приходит ко мне, предлагая мне чужой город? Если я дам награду за очень дурное, что я должен обещать за хорошее? А если я приму у кого-то город и не дам за это награду, получится, что мне нельзя доверять; как же я тогда могу охранять народ? Когда сил достаточно, надо идти вперед, иначе надо отступать; надо действовать, оценивая свои силы. Я не могу встать рядом с предателем из-за того, что желаю получить город: я потеряю на этом гораздо больше, чем получу». Он передал в Гу, чтобы там казнили бунтовщиков и усилили защиту городских стен.
Через три месяца после начала осады некоторые люди в Гу снова просили разрешения сдаться. Они прислали к Сюнь У людей из простого народа (чтобы показать, что они не бунтовщики и говорят от имени всего народа). Сюнь У посмотрел на них и сказал: «У вас вид людей, у которых еще есть что есть. Идите пока и укрепляйте городские стены».
Офицеры из его армии сказали ему: «Вы можете получить город – и не хотите взять его. Вы требуете лишних трудов от народа и лишних мучений от армии. Так ли вы служите государю?» Сюнь У ответил: «Именно так я служу государю. Если, захватив один город, я покажу нашему народу пример равнодушия к судьбам государства, то зачем нам этот город? Если за город придется заплатить равнодушием народа, пусть лучше город останется у старого хозяина. Тот, кто готов платить равнодушием народа, плохо кончит; того, кто легко отвергает старого господина, тоже ждет несчастье. Люди Гу могут служить своему господину, а мы – нашему. Я буду выполнять свой долг, не отклоняясь от него, я не буду смешивать хорошее и дурное, и тогда мы получим город, но и народ будет знать свой долг. Люди будут готовы умереть, выполняя приказ, и у них не будет даже мысли о чем-то другом. Неужели это плохо?»
Только когда люди Гу сообщили, что их припасы кончились и силы исчерпались, Сюнь У принял город. Победив Гу, он вернулся, не казнив ни одного человека, и увез с собой пленного Юань-ди, князя Гу.
ИЗ КНИГИ «ГУНЪЯН ЧЖУАНЬ»
ШЕСТОЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ СЮАНЬ-ГУНА (603 Г. ДО Н. Э.).
«Весной Чжао Дунь из Цзинь и Сунь Мянь из Вэй вторгались в государство Чэнь». Чжао Дунь злодейски убил своего государя. Почему же здесь вновь появляется в летописи имя Чжао Дуня? (Человека, убившего государя, летопись никогда больше не упоминает.) Лично убил государя не он, а Чжао Чуань. Если лично убил государя Чжао Чуань, то почему это приписали Чжао Дуню? Он не наказал злодея. Что значит не наказал злодея: «Чжао Дунь из Цзинь убил своего государя И хао». Чжао Дунь воскликнул: «О Небо! Я невиновен! Я не убивал государя! Кто сказал, что я убил государя?» Историограф ответил: «Ты считаешься гуманным и справедливым; человек убил твоего государя, а ты, вернувшись в столицу, не наказал злодея. Если не сказать «убил государя», то как это назвать?»
Что же было до того, как Чжао Дунь вернулся в столицу?
Князь Лин-гун (И-хао) не следовал правильному пути. Он приказывал, чтобы знатные люди являлись к нему во внутренний двор дворца (куда по правилам допускались лишь родственники князя, но не чиновники); потом он поднимался лишь на террасу наверху башенки, вынимал маленький лук для охоты на птиц и стрелял в людей глиняными шариками, а они должны были убегать и увертываться. Это он просто развлекался. (Ему было около пятнадцати лет.)
Однажды Чжао Дунь, уже явившись к князю и выйдя от него, стоял при дворе с другими знатными людьми. В это время из воротец, ведущих во внутренний двор, вышел человек с рогожным кулем на спине. Чжао Дунь спросил: «Что это? Почему несут куль с княжеского дворца?» Он окликнул того человека, но тот отказался подойти и сказал: «Мне велено никому не показывать; но вы – знатный человек, и, если хотите посмотреть, подойдите и посмотрите, как я могу вам помешать?» Чжао Дунь подошел и посмотрел: это было мертвое тело, разрезанное на куски! Чжао Дунь воскликнул: «Что это?» – «Повар. Медвежья лапа оказалась недоваренной; князь разгневался, ударил его черпаком и убил! Он разрезал труп и приказал мне выбросить его». Чжао Дунь сказал только «О!» и быстро вышел к князю. Лин-гун увидел его, испугался и, не дав ему ничего сказать, сам первый дважды низко поклонился ему. Чжао Дунь отступил назад, стоя лицом к северу (т. е. к трону), тоже дважды поклонился, коснулся лбом пола и так же быстро вышел.
Лин-гун в сердце своем устыдился. Он хотел убить Чжао Дуня. И вот он послал некоего смелого воина убить его. Воин вошел в ворота – при них не было стражи. Он вошел в покои – при них не было охраны. Он поднялся в зал – там тоже никого не было. Наклонившись, он заглянул в щель следующей двери; Чжао Дунь ел на завтрак рыбу. Воин воскликнул: «О! Вы истинно гуманный человек!
Я вошел в ворота Вашего дома – при них нет стражи; я вошел в Ваши покои – при них нет охраны; я поднялся в Ваш зал – там тоже никого нет. Это значит, что доступ к Вам легок. Вы занимаете важную должность в государстве Цзинь, а на завтрак едите рыбу: это значит, что вы не расточительны. Государь велел мне убить вас, но я не могу на это решиться. Однако, не исполнив приказа, я не могу показаться на глаза государю». И он перерезал себе горло.
Лин-гун, узнав об этом, разгневался и еще больше захотел убить Чжао Дуня; но он не нашел никого, кого можно было бы послать. Тогда он устроил засаду во дворце и пригласил Чжао Дуня на угощение. Телохранитель Чжао Дуня, на колеснице стоявший с копьем справа от него, Ци Ми-мин, был знаменитым в стране силачом; он дерзко вошел во дворец вслед за Чжао Дунем и бесцеремонно встал у ступеней, которые вели в зал. После того как Чжао Дунь поел, Лин-гун сказал ему: «Я слышал, что Ваш меч необыкновенно острый; покажите мне его, я хотел бы на него полюбоваться». Чжао Дунь встал и хотел было достать меч, но Ци Ми-мин снизу окликнул его: «Дунь! Если Вы наелись, то идите домой; почему Вы обнажаете меч в присутствии князя?» Чжао Дунь понял намек (его могли убить на месте, сказав, что он поднял оружие на князя) и побежал вниз, перепрыгивая через ступеньки. У Лин-гуна был дрессированный пес, который назывался «Ао»; князь позвал его и указал на Чжао Дуня. Ао помчался за ним вниз по ступеням. Ци Ми-мин бросился навстречу и ударом ноги переломил ему шею. Чжао Дунь, обернувшись, сказал: «Ваш пес, государь, не может тягаться с моим псом!» Между тем латники, сидевшие в засаде во дворце, поднялись по сигналу – удару в барабан. Неожиданно один из тех, кто вышел из засады, обхватил Чжао Дуня за пояс и посадил на колесницу. Чжао Дунь, обернувшись, спросил: «Почему Вы оказали мне эту услугу?» – «Я тот, кому Вы тогда-то и тогда-то спасли жизнь, накормив умирающего от голода под высохшей тутой». Чжао Дунь спросил: «Как Ваше имя?» – «Разве Вы не поняли, на кого государь устроил засаду? Поезжайте скорее, зачем Вам мое имя?» Чжао Дунь погнал лошадей и выехал за ворота; не нашлось никого, кто бы его задержал.
Позже Чжао Чуань (племянник Чжао Дуня), воспользовавшись недовольством народа, убил Лин-гуна, Потом он разыскал Чжао Дуня, вместе с ним вернулся в столицу и стоял рядом с ним при дворе.
ПОЭЗИЯ ЧУСКИХ СТРОФ
ЦЮЙ ЮАНЬ (340-278 ГГ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ)
Творчеством Цюй Юаня открывается в Китае история поэзии, имеющей индивидуального автора.
Стихи Цюй Юаня проникнуты высокой гражданственностью и истинным благородством души. У них звучит вера в конечное торжество добра над злом, честности над подлостью, вера в победу разума и совести. Им свойственны образность и богатство поэтического воображения, сила и чистота чувства. Некоторые его произведения, например «Девять гимнов», являются обработкой народных песен, в образном строе других сказывается влияние народной мифологии. Очень интересны так называемые «Вопросы неба», по-видимому имеющие прямое отношение к древним обрядам инициации, весьма схожие с одним из гимнов индийской «Ригведы». Цюй Юань положил начало новому поэтическому жанру – оде («фу») – и новому «свободному стилю» в поэзии («сао-ти»). Его поэма «Скорбь изгнанника» – одно из самых выдающихся произведений китайской классической поэзии. За аллегорическими и мифологическими образами поэмы легко угадывается реальная действительность того времени. Перед нами как бы лирическая исповедь поэта, в которой он вдохновенно и беспощадно разоблачает царский двор, зло и несправедливость, царящие кругом. Им он противопоставляет свое кредо: «чтить чистоту и умереть за правду». Он жаждет вырваться из окружения мелких людишек, которыми движут лишь алчность и зависть, тщеславие и низкий расчет. Но нигде не встречает поэт человека благородной души, способного понять его высокие устремления, – и отчаяние овладевает Цюй Юанем. В эпилоге Цюй Юань предрекает свой конец – «не понятый в отечестве своем», поэт решает покончить жизнь самоубийством.
ПЛАЧУ ПО СТОЛИЦЕ ИНУ[103]103
Плачу по столице Ину – город Ин, находившийся на территории современной провинции Хубэй (в нескольких километрах севернее нынешнего города Цзянлина), был столицей Чу, родины Цюй Юаня. По-видимому, речь идет о событиях 298 г. до н. э., когда войска царства Цинь, упорно стремившегося к господству над всем Китаем, разбили чускую армию, взяли в плен царя и, захватив пятнадцать городов, ворвались в столицу.
[Закрыть]
Справедливое Небо,
Ты закон преступило!
Почему весь народ мой
Ты повергло в смятенье?
Люди с кровом расстались,
Растеряли друг друга,
В мирный месяц весенний
На восток устремились —
Из родимого края
В чужедальние страны
Вдоль реки потянулись,
Чтобы вечно скитаться.
Мы покинули город —
Как сжимается сердце!
Этим утром я с ними
В путь отправился тоже.
Мы ушли за столицу,
Миновали селенья;
Даль покрыта туманом, —
Где предел наших странствий?
Разом вскинуты весла,
И нет сил опустить их:
Мы скорбим – государя
Нам в живых не увидеть.[104]104
Государя нам в живых не увидеть – имеется в виду не вступивший на престол Сян-ван, а его отец Хуай-ван (328 – 298 гг. до н. э. ), трагически погибший на чужбине. Долгое время воевавший с ним циньский царь Чжао ван предложил ему заключить мир и породниться. Побуждаемый советниками, после тяжелых поражений, Хуай-ван не посмел отказаться. Однако прибыв в назначенное место для переговоров, он попал в западню. Попытка бежать в соседнее царство не удалось – Хуай-ван был выдан врагам и умер пленником.
[Закрыть]
О деревья отчизны!
Долгим вздохом прощаюсь.
Льются, падают слезы
Частым градом осенним.
Мы уходим из устья
И поплыли рекою.[105]105
Мы выходим из устья и поплыли рекою – беженцы минуют место впадения в Янцзы притока (судя по всему, р. Ханьшуй) и продолжают свой путь уже по Янцзы.
[Закрыть]
Где Ворота Дракона?[106]106
Ворота Дракона (Луньмэнь) – восточные ворота столицы. Так же называлась одна из пограничных чуских застав – судя по некоторым реалиям, речь идет именно о ней.
[Закрыть]
Их уже я не вижу.
Только сердцем тянусь к ним,
Только думой тревожусь.
Путь далек, и не знаю,
Где ступлю я на землю.
Гонит странника ветер
За бегущей волною.
На безбрежных просторах
Бесприютный скиталец!
И несет меня лодка
На разливах Ян-хоу.[107]107
Ян-хоу – властитель легендарного царства Янго, после смерти превратившийся в могущественного духа речи. Он являлся людям в виде грозных водяных валов, губящих утлые суденышки.
[Закрыть]
Вдруг взлетает, как птица.
Где желанная пристань?
Эту боль в моем сердце
Мне ничем не утешить,
И клубок моих мыслей
Мне никак не распутать.
Повернул свою лодку
И иду по теченью —
Поднялся по Дунтину
И спустился по Цзяну.[108]108
Поднялся по Дунтину и спустился по Цзяну – огромное озеро (а точнее – целая система озер) Дунтин, расположенное в современной провинции Хунань, соединяется с рекой Янцзы (названной здесь просто «Цзян» – «Река»). Однако весь путь, здесь описанный, – скорее воображаемое путешествие. Именно так толкует его Ван И и другие комментаторы.
[Закрыть]
Вот уже я покинул
Колыбель моих предков,
И сегодня волною
На восток я заброшен.
Но душа, как и прежде,
Рвется к дому обратно:
Ни на миг я не в силах
Позабыть о столице.
И Сяпу[109]109
Сяпу («Берег реки Сяшуй»), или Сякоу («Устье Сяшуй») – место впадения в Янцзы нынешней реки Хань, которая считалась тогда продолжением своего притока – р. Сяшуй. На этом месте теперь расположен один из крупнейших городов Китая – Чхань.
[Закрыть] за спиною,
А о Западе думы,
И я плачу по Ину —
Он все дальше и дальше.
Поднимаюсь на остров,
Взглядом дали пронзаю;
Я хочу успокоить
Неутешное сердце.
Но я плачу – земля здесь
Дышит счастьем и миром,
Но скорблю я – здесь в людях
Живы предков заветы.
Предо мною стихия
Без конца и без краю.
Юг подернут туманом —
Мне и там нет приюта.
Кто бы знал, что дворец твой
Ляжет грудой развалин.
Городские ворота
Все рассыплются прахом!
Нет веселья на сердце
Так давно и так долго,
И печаль за печалью
Вереницей проходят.
Ах, дорога до Ина
Далека и опасна:
Цзянь и Ся протянулись
Между домом и мною.
Нет, не хочется верить,
Что ушел я из дома,
Девять лет миновало.
Как томлюсь на чужбине.[110]110
Девять лет миновало, Как томлюсь на чужбине – эти слова дали повод комментаторам утверждать, что стихи созданы позднее описанных событий. Однако скитанием на чужбине поэт мог считать и свое предшествующее пребывание послом в царстве Ци, которое по существу также было ссылкой.
[Закрыть]
Я печалюсь и знаю,
Что печаль безысходна.
Так, теряя надежду,
Я ношу мое горе.
Государевой ласки
Ждут умильные лица.
Должен честный в бессилье
Отступать перед ними.
Я без лести был предан.[111]111
Я без лести был предан – поэт намекает на свои предостережения столь печально закончившему жизнь царю. Эти предостережения и послужили причиной опалы Цюй Юаня.
[Закрыть]
Я стремился быть ближе,
Встала черная зависть
И дороги закрыла.
Слава Яо и Шуня,[112]112
Слава Яо и Шуня – Яо (XXIII в. до н. э.) и его преемник Шунь (XXII в. до н. э) – легендарные государи китайской древности, служившие в конфуцианской традиции образцом совершенномудрых правителей. Они бескорыстно пеклись о своих подданных, управляя посредством «недеяния» и отличались предельной скромностью и простотой.
[Закрыть]
Их высоких деяний
Из глубин поколений
Поднимается к Небу.
Своры жалких людишек
Беспокойная зависть
Даже праведных этих
Клеветой загрязнила.
Вам противно раздумье
Тех, кто искренне служит.
Вам милее поспешность
Угождающих лестью.
К Вам бегут эти люди —
Что ни день, то их больше.
Только честный не с Вами —
Он уходит все дальше.
Я свой взор обращаю
На восток и на запад.
Ну когда же смогу я
Снова в дом мой вернуться!
Прилетают и птицы
В свои гнезда обратно,
И лиса умирает
Головою к кургану.
Без вины осужденный?
Я скитаюсь в изгнанье,
И ни днем и ни ночью
Не забыть мне об этом!
С КАМНЕМ В ОБЪЯТИЯХ[113]113
С камнем в объятиях – считается, что ода «С камнем в объятиях» («Хуай ша») – последнее произведение Цюй Юаня. Как свидетельствует «Отец китайской историографии» Сыма Цянь в жизнеописании поэта, Цюй Юань, написав эти строки, положил за пазуху камень и бросился в воды реки Мило. Убедившись в тщете своих усилий изменить ход вещей, он предпочел лучше уйти из жизни, чем «принимать на себя мирскую грязь». Лейтмотив произведения – скорбь человека благородного, не нашедшего признания и применения, ибо скудные духом владыки этого мира не способны оценить истинный талант.
[Закрыть]
Прекрасен тихий день в начале лета,
Зазеленели травы и деревья.
Лишь я один тоскую и печалюсь
И ухожу все дальше, дальше к югу.
Все беспредельно пусто предо мною,
Все тишиной глубокою укрыто.
Тоскливые меня терзают мысли,
И скорбь изгнанья угнетает душу.
Я чувства сдерживаю и скрываю.
Но разве должен я скрывать обиду?
Ты можешь обтесать бревно, как хочешь,
Но свойства дерева в нем сохранятся.
Кто благороден, тот от злой обиды
Своим не изменяет убежденьям.
Нам надо помнить о заветах предков
И следовать их мудрости старинной.
Богатство духа, прямоту и честность —
Вот что великие пенили люди.
И если б Чуй искусный не работал,[114]114
И если б Чуй искусный не работал – Чуй – искусный мастер, судя по всему, плотник, который якобы жил в легендарные времена совершенномудрого государя древности Яо (XIII в. до н. э). Поэт намекает на то, что ему не дали возможности проявить себя.
[Закрыть]
То кто бы знал, как мудр он и способен.
Когда мудрец живет в уединенье,
Его глупцом слепые называют.
Когда прищуривал глаза Ли Лоу,[115]115
Когда прищуривал глаза Ли Лоу – согласно преданию, этот приближенный мифического «Желтого владыки» (Хуан-ди XXVI в. до н. э.) обладал таким острым зрением, что мог за сто шагов увидеть нить осенней паутинки. Однако люди обыкновенные, которым не под силу было увидеть то, что видел он, считали его полуслепым, поскольку вблизи Ли Лоу видел хуже и должен был прищуриваться. Цюй Юань хочет сказать, что к гению нельзя подходить с обычными мерками.
[Закрыть]
Незрячие слепым его считали.
И те, кто белое считали черным
И смешивают низкое с высоким,
Кто думает, что феникс заперт в клетке,
А куры – высоко летают в небе;
Кто с яшмой спутает простые камни,
Не отличает преданность от лести,—
Те, знаю я, завистливы и грубы,
И помыслы мои им непонятны.
Суровый груз ответственности тяжкой
Меня в болотную трясину тянет.
Владею драгоценными камнями,
Но некому на свете показать их.
Обычно деревенские собаки
Встречают злобным лаем незнакомца.
Чернить людей, талантом одаренных, —
Вот свойство подлое людей ничтожных.
Во мне глубоко скрыто дарованье,
Никто не знает о его значенье.
Способен я к искусству и наукам,
Но никому об этом не известно.
Я утверждать стараюсь справедливость.
Я знаю, честность у меня в почете.
Но Чун-хуа не встретится со мною,[116]116
Чун-хуа не встретится со мною – Чун-хуа – прозвище легендарного государя древности, Шуня. У Шуня от рождения было по два зрачка в каждом глазу («Чун-хуа» «двойной цветок», «двойное блистание»). Шунь отличался большой мудростью и проницательностью – в частности, свой престол он передал не легкомысленному сыну, а Великому Юю, основателю династии Ся и усмирителю потопа. Юй также считался совершенномудрым государем.
[Закрыть]
И не оценит он моих поступков.
О, почему на свете так ведется,
Что мудрецы рождаются столь редко?
Чэн Тан и Юй из старины глубокой
Не подают ни голоса, ни вести.
Стараюсь избегать воспоминаний
И сдерживать нахлынувшие чувства.
Терплю обиды я, но верен долгу,
Чтобы служить примером для потомков.
Я ухожу гостиницу покинув,
В последний путь под заходящим солнцем.
И скорбь свою и горе изливая,
К границе смерти быстро приближаюсь.
Юань и Сян[117]117
Юань и Сянь – две крупнейшие (после Янцзы) реки на родине Цюй Юаня. Они протекают по территории современной провинции Хунань и на севере ее впадают в озеро Дунтин. Река Сян (Сяншуй) не раз воспевалась Цюй Юанем, создававшим, в частности, гимны ее духам – Владыке и Владычице реки Сян. Река Мило, в которую поэт бросился, изверившись в торжество справедливости, – это та же река Сян, лишь по-другому названная.
[Закрыть] раскинулись широко
И катят бурные седые волны.
Ночною мглой окутана дорога,
И даль закрыта мутной пеленою.
Я неизменно искренен и честен,
Но никому об этом неизвестно.
Бо Лэ[118]118
Бо Лэ лежит в могиле – Бо Лэ («Радующийся мастерству») – конюший циньского царя Му-гуна (659– 621 гг. до н. э.), по-видимому был рабом. Прославился как несравненный знаток коней.
[Закрыть] лежит в могиле,
И кто коней оценит быстроногих?
Жизнь каждого судьбе своей подвластна,
Никто не может избежать ошибок.
И, неуклонно укрепляя душу,
Я не пугаюсь приближенья смерти.
Все время я страдаю и печалюсь
И поневоле тяжело вздыхаю.
Как грязен мир! Никто меня не знает,
И некому свою открыть мне душу.
Я знаю, что умру, но перед смертью
Не отступлю назад, себя жалея.
Пусть мудрецы из глубины столетий
Мне образцом величественным служат.
ОДА МАНДАРИНОВОМУ ДЕРЕВУ
Я любуюсь тобой —
мандариновым деревом гордым,
О, как пышен убор твой —
блестящие листья и ветви.
Высоко поднимаешься ты,
никогда не сгибаюсь,
На прекрасной земле,
где раскинуты южные царства.
Корни в землю вросли,
и никто тебя с места не сдвинет,
Никому не сломить
вековое твое постоянство.
Благовонные листья
цветов белизну оттеняют,
Густотою и пышностью
радуя глаз человека.
Сотни острых шипов
покрывают тяжелые ветви,
Сотни крупных плодов
среди зелени свежей повисли,
Изумрудный их цвет
постепенно становится желтым,
Ярким цветом горят они
и пламенеют на солнце.
А разрежешь плоды —
так чиста и прозрачна их мягкость,
Что сравню я ее
с чистотою души благородной.
Но для нежности дивной
тончайшего их аромата,
Для нее, признаюсь,
не могу отыскать я сравненья.
Я любуюсь тобой,
о юноша смелый и стройный,
Ты стоишь – одинок —
среди тех, кто тебя окружает.
Высоко ты возвысился, и, никогда не сгибаясь,
Восхищаешь людей,
с мандариновым деревом схожий.
Глубоко твои корни
уходят в родимую землю,
И стремлений твоих
охватить нам почти невозможно.
Среди мира живого
стоишь независим и крепок
И, преград не страшась,
никогда не плывешь по теченью.
Непреклонна душа твоя,
но осторожны поступки,—
Ты себя ограждаешь
от промахов или ошибок.
Добродетель твою
я сравню лишь с твоим бескорыстьем,
И, живя на земле,
как луна и как солнце, ты светел.
Все года моей жизни, отпущенные судьбою,
Я хочу быть твоим
неизменным и преданным другом!
Ты пленяешь невольно
своим целомудрием строгим,
Но за правду святую
сражаешься стойко и твердо.
Пусть ты молод годами
и опытом не умудрен ты,—
У тебя поучиться
не стыдно и старцу седому.
С поведением Бо И[119]119
Бо И – добродетельный муж древности, живший во времена чжоуского У-вана (XI в. до н. э.). Как гласит легенда, он и его брат, наследники князя Гучжу, столько раз уступали друг другу престол, что его в конце концов захватил другой. Они единственные осудили поход У-вана, предпринятый против его сюзерена, тирана Чжоу Синя. Когда же У-ван сверг и убил Чжоу Синя, они ушли в горы и, не желая есть хлеб нового владыки, питались одним папоротником. Когда им сказали, что папоротник тоже принадлежит У-вану, они предпочли умереть с голову, но не отступились от своих принципов.
[Закрыть]
я сравнил бы твое поведенье,
Да послужит оно
для других благородным примером.
СУН ЮЙ (ПРИМЕРНО 290-223 IT. ДО НАШЕЙ ЭРЫ)
Сведения об этом поэте отрывочны и противоречивы. Известно лишь, что он был младшим современником и земляком Цюй Юаня – правда, не столь знатным и, по-видимому, более бедным.
Сун Юй писал в том же одическом жанре, что и Цюй Юань, но из-под его кисти оды выходили иными. Поэт позволяет себе такие образы и сопоставления, которые его предшественник счел бы вульгарными. Достаточно вспомнить его знаменитую «Оду похотливости Дэн Ту-цзы». Защищаясь от обвинений недруга, посоветовавшего царю не брать поэта с собой на женскую половину дворца, Сун Юй рисует несравненный облик деревенской красавицы, против чар которой он держится уже третий год. И тут же обрушивается на своего противника: «Жена его с лохматой головой, с кривулей вместо уха, и зубы очень редкие, и боком как-то ходит, сутулая какая-то. Да ко всему тому парша у нее и геморрой!», а он льститься даже на такого урода – поистине похоть Дэн Ту-цзы не знает границ! И тому же Сун Юю принадлежит описание женщины божественной, красоты неземной, любовь к которой возвышает и очищает человека. «Не говоря уже о том, что в дальней древности таких никто не знал, но и средь нас живых таких не видывал опять-таки никто. То – красота редчайшего смарагда, то – вид какого-то алмаза дорогого. Не мне, не мне воспеть ее!» – восклицает поэт в «Оде святой фее», и не находит выразительных слов, чтобы нарисовать ее портрет. Портретные описания Сун Юя, детально изображающие внешность женщины, – первые в китайской литературе, а его оды породили крылатые выражения, которым суждено было жить в Китае тысячелетия.
СВЯТАЯ ФЕЯ
(Перевод В. М. Алексеева)
ПОЭМА
Чуский князь Сан с поэтом Сун Юем гулял по берегу Юнь-мэна и Юю повелел воспеть в стихах то, что случилось там, в Высокой горе Тан. В ту же ночь Юй лег спать и во сне имел встречу с той девой святой. Была она очень красива, и Юй подивился немало. Наутро он об этом князю доложил, и князь спросил: «Что ж это был за сон?» Юй отвечал: «Вечером, после обеда и ужина, моя душа пришла в смятение, неясное какое-то волнение, как будто бы мне предстояла какая-то радость... Я сам был не свой, весь в тревоге, в томленье каком-то, И не понимал, что творится со мной. В глазах у меня зарябили какие-то смутные, что-то рисующие очертанья, и вдруг мне как будто дающие что-то такое припомнить. Я как бы видел женщину, с наружностью причудливой, совсем невероятной. Заснул и во сне я увидел ее. Проснувшись же, вспомнить, что было, не мог.
Пропало, да пропало все, и было неприятно мне, так грустно-грустно. .. Чувствовал себя я потерянным каким-то, без души. Тогда я сердцем овладел, на дух свой волю наложил, и снова я увидел то, что было мне во сне».
Князь спросил: «Скажи, какою же она тебе предстала?»
Юй сказал: «О роскошная! О прекрасная! В ней все красиво—сполна! О великолепная! О красавица! Мне трудно до конца вам все о ней сказать! Не говоря уже о том, что в дальней древности таких никто не знал, но и средь нас живых таких не видывал опять-таки никто. То – красота редчайшего смарагда, то – вид какого-то алмаза дорогого. Не мне, не мне воспеть ее...
С ее появлением сиянье, сиянье такое явилось, как будто то белое солнце всходило, светя на стропила домов. Теперь, когда понемногу она ко мне начала подходить, вдруг стало ослепительно светло, как будто полная луна свои в меня направила лучи. Одно мгновенье, миг один – и красота ее лица вдруг зажила своею, новой жизнью. И стала так мила, да, мила, как цветок! От нее изошла теплота, да, да, теплота – как от светлого, редкого камня. Все краски, что есть, примчались и в ней воплотились... Нельзя, невозможно ее описать мне!
Когда всмотрелся б я в нее, то отняла б она собою свет очей моих...
И надет на ней был превосходный наряд: роскошные ткани, атласы, шелка и вышивки в лучших узорах. Нет лучшей одежды, пленительной краски – сияют они на весь мир наш. Оправила красивый наряд свой, закуталась в накидку, пелерину. Роскоши было немало, так тонок был вкус, что она не бросалась в глаза. Ее шаги были изящны и милы-милы. Сияла собой на все помещенья дворца. Мгновенье, да, лишь миг – она изменилась! Стала изящна, как ловкий дракон, летящий на тучах высоко.
Сняла пелерину свою, сняла и накидку из газа... Омытая настоем орхидей и пахнущая чудными духами, она была приветлива, мила и хороша в прислуживанье рядом, покорна скромным пожеланьям и душу умиляла мне».
Князь сказал: «Так вот она, скажи, какая великолепная! Попробуй мне ее изобразить в поэме».
Юй ответил: «Так, так. Извольте, хорошо.
Ах, как прекрасна и мила, мила святая фея! В ней – вся краса, которой полон мир с его двойной стихией сил. Она одета в наряд изящный, изящный, да, которым только любоваться. Напоминает колибри-птичку, когда расправит она крыло. Наружность ее себе равной не знает, ее красоте нет предела совсем. Мао Цян заслонялась своим рукавом, но не может ей служить образцом; Си Ши[120]120
Мао Цян... Си Ши – знаменитые китайские красавицы древности (V в. до н. э.)
[Закрыть] закрывала лицо, но в сравнении с нею – красоты бы лишилась своей. Она очаровательна вблизи, а издали внушительна она. Сложенья она примечательного, совсем государевой стати. Смотреть на нее – весь взор твой наполнит. И кто б мог еще к ней добавить красот!
Я в сердце своем уж любил ее сам для себя и ей восхищался без меры. Но дружбы не было у нас, до теплых чувств далеко было, и не было возможности мне ей все изъяснить. Другие – никто на нее не взглянул, и Юй любовался, смотрел на нее. А наружность ее, как высокие горы, была недоступной какой-то. Ну как я могу говорить до конца? Лицо, красотою насыщенное и полное, полное ею, но строгою женской красой. А яшмовый облик ее в себе заключал теплоту и живительно-сочное нечто. Зрачки ее глаз лучились каким-то духовным, духовным великим свеченьем, и взгляд блистал красотою – лишь любоваться на него! Брови красиво срослись и вздымаются бабочкой, бабочкой моли, а красные губы так ярки, что выглядят киноварью. Так все естественно в ней густой, как вино, как вино, красотою; воля же стремится к спокойному тону, который проникнут весь сдержанностью. Она так мила, хороша, затворясь в покойный, покойный чертог свой, но так же проста и свободна, когда она вновь на людях. По праву ей нужен высокий чертог, чертог, чтоб идею ее развивать в нас. Порхая, она свободна ступает, не зная стеснений, с открытой душой. В движеньях своих, как дымка, как дымка, легка, и шаг ее нетороплив и, касаясь крыльца, дорогими камнями позванивает. Направляясь к алькову, где я, она долго, да, долго, внимательно смотрит, и мне кажется – струи волны готовы стать валом. Стояла, качаясь, склоняясь в нетвердой походке своей. В бесстрастном и чистом спокойствии вся, в спокойствии вся; мила и чиста; и в сосредоточенности всего существа не знает она надоедливой позы. В походке свободной своей она двигалась, двигалась все слегка лишь; и что она думала, вряд ли я мог догадаться. Казалось, хотела приблизиться, да, но вдруг отходила подальше; как будто совсем подходила – и снова назад оборачивалась.
Я поднял свой полог, ее приглашал, приглашал для объятий, желая всю душу свою отдать на любовную страсть. Но в ней целомудрие было и чисто, да, чисто и строго, и кончилось тем, что ко мне обращен запретительный жест. Ряд милых слов, да, милых слов в ответ; и изошло тогда благоуханье от уст ее, что орхидеев цвет. И дух мой слился с нею, да, слился с нею, в таком общенье раскрылось сердце к радости в любви. Лишь бог, что у меня в душе, проник в нее, но почвы не нашел в ней: в душе живой – там еле-еле жизнь, и никакой нет нити. Уста готовы согласиться, чтоб не делить, чтоб не делить на ты и я, со вздохом громко прозвучали в ней жалость, скорбь. В лице был легкий гнев, да, гнев, натянутость виднелась; нет, не могла себя проступком запятнать...








