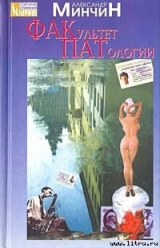
Текст книги "Факультет патологии"
Автор книги: Александр Минчин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– Злата Александровна сказала, что это лучшее вправление за всю ее жизнь, она говорит, никогда не видела, чтобы все так точно становилось на место, даже без рентгена уже знала.
Заводит меня в свой корпус, ведет на второй этаж, в маленькую операционную, вынимает тампон из-под губы, который мне положила Злата Александровна, и говорит:
– Терпи и не мешай только мне. Я думаю, два шва будет достаточно.
О Господи!
– Тетя Лиля, это же внутри губы, я не вынесу больше.
– Уж если ты нос вытерпел, небывалое, то это тем более. Молчи лучше, а то расходится шире. Ладно, я тебе местно заморожу.
Она заштопывает меня без единого звука. С моей стороны.
– Вот и все, вставай, теперь ты, как новенький починенно-залатанный.
Мы смеемся. Я-то только улыбаюсь, она мне запретила смеяться, пока шов внутри не срастется, не затянется.
– Пошли вниз. Злата Александровна сейчас придет, просила подождать. Пошла еще с одним рентгенологом советоваться, снимок показывать. Волнуется за тебя, как за своего, тем более знает, что твоя мама – ее коллега.
Спускаемся вниз, я сажусь в вестибюле и дико, впервые, хочу закурить, и нельзя. (Через нос дым не продохнешь, губами его не втянешь. Во, жизнь!) Тетю Лилю вызывают наверх, она говорит, что вернется, и уходит.
Я сижу и думаю. Так просто, ни о чем. И почему все в жизни случается. Или было написано на ней? Мне хочется увидеть ее, а где она? Хотя с такой физиономией вряд ли мне хочется, чтобы она увидела меня. Мне хочется вдруг, чтобы она меня пожалела, сказала что-то ласковое, например, что ее не пугает мой внешний вид. И разбитое лицо, с неработающей губой… я ее еще не чувствую. Но откуда ей знать, это же невозможно, какой бы она необыкновенной ни была. Или прозорливой, догадаться, что я… в Склифосовского. Занесло же, вечно у меня так. Я смотрю в сторону входа с тоской и ни о чем не мечтаю. И только я посмотрел… Я не верю, но в дверях появляется самая стройная фигура, которую я когда-либо встречал. Она влетает и, увидя меня, замирает. Потом быстро подходит. Плащ ее не застегнут, и полы разлетаются. Она чудесно одета, как всегда, думаю я.
Куда бы деть свое лицо?..
– Как ты узнала?
– Господи, – говорит она, опускаясь на колени подле меня.
– Как ты узнала? – повторяюсь я.
– Мой нос, – говорит она, – господи, мой драгоценный нос, что он сделал из тебя?
Она касается молниеносно моего лица, губы… и отдергивает руку моментально.
– Больно?!
Я приоткрываю ей рот и показываю подгубье.
– И там тоже? – Я чувствую себя героем дня, у нее прекрасные глаза, и они глядят на меня, а у меня бесподобное настроение. Вернее, у нее бесподобные глаза, а у меня прекрасное настроение. А совсем вернее: у нее все бесподобно, а у меня хорошеет внутри от одного ее вида. И бесподобия.
– Ужас, – тихо шепчет она, не сводя с меня взгляда. Ей совсем не весело.
– Это что, – говорю, – жаль, ты не видела до вправки, он вообще был на боку у меня. (Как отдельная часть лица.)
– Это вправду «жаль», – с болью говорит она и сжимает мою руку, целуя.
Я вздрагиваю, вся бравада падает с меня, и мне вправду становится жалко своего лица. (Сука боксерская!)
– Наташ, это действительно ужасно? Она впервые отвечает вопросом на вопрос:
– Ты не видел?
– После – нет, только до того.
Она горестно улыбается, и тут она говорит это:
– Но меня не пугает твой переломанный нос… и разбитое лицо. Обалдеть! Все то, о чем не мечтал, мечтая, я.
Я наклоняюсь к ней, и мы целуемся.
– Аи, – вскрикиваю я.
– Что случилось? – Лицо ее встревоженно.
– Губа проклятая, там же шов, я забыл.
Она встает с колен, я не могу поднять ее руками, и садится рядом. Садится и осторожно спрашивает:
– А в щеку можно? – И целует. – Так не больно?..
– Комедия, – смеюсь, пытаюсь я, – до чего дожили, чтобы больше всего волновало «не больно». – Она натянуто улыбается, а я быстро смыкаю свой рот, так как, расплывшись в смехе, он сделал мне больно.
Вихрем влетает в вестибюль Злата Александровна и затормаживает около меня.
– Ну, все в порядке, радуйся, три лучших рентгенолога подтвердили: все стало точно, которым я верю, как себе и даже больше.
– Это мой доктор, – говорю я Наташе.
– Очень приятно, – молвит она.
– Ну, как вам его нос, а? Загляденье, позавидуешь, хоть пляши на нем.
Я дергаюсь всем телом, невольно.
– Нравится? Очарование сплошное!
– Да, – грустно говорит Наташа, – чересчур.
– Эх, милая моя, вы до того не видели, меня ужас объял. А теперь – чудо, я еще за всю мою жизнь не видела, чтобы так точно вправлялся.
– Он же у него раньше как греческий был, – с болью говорит Наташа.
– Ну, подумаешь, великое дело, теперь римским станет, эпохи ведь менялись. Даже тогда, в древности. – Она улыбается.
– Ну, мне пора, и так из-за твоего носа все дома ждут меня, некормленые. Теперь свою еду – с меня начнут. Что называется: будут есть поедом.
– Спасибо большое. Злата Александровна, я вам очень благодарен.
– Покажись через неделю, – и она уносится, но вдруг возвращается: – И запомни, ты, прекрасный юноша с греческим, переходящим в римский носом, еще одна драка или кто-нибудь тебе попадет в него сильно в течение следующих двух лет, – ты ляжешь на операционный стол, но не ко мне, потому что я тебе такого – уже не сделаю. И я тебе обещаю: что у тебя никогда не будет прямого носа. Ты все понял?
– То есть вы хотите сказать, что мне два года драться нельзя? – говорю я, как будто теряю любимое.
Она удивленно смотрит на меня:
– …Ладно, нет времени, прощай, я не думаю, что ты такой ненормальный (и совсем безумный) – полезешь снова драться; и, кстати, у тебя очень хорошая девочка, не доставляй ей огорчений… из-за своего носа, драчливого, – и она скрывается на сей раз окончательно.
«Хорошая девочка» с тревогой смотрит на меня.
– Ну, улыбнись, а то мне нехорошо как-то.
– Конечно. – Она через силу улыбается.
– Наташ, а ты можешь осторожно, только осторожно поцеловать меня в одну нижнюю губу и не очень сильно. А? – и я закрываю глаза.
Она целует, и я вырываюсь от боли, все отдается в верхнюю, даже от нижней. Она смотрит расширенными глазами, и я боюсь, только бы у нее не началось это. Я не могу переносить этого у женщин, мне очень больно.
– Какой кретин, что он с тобой сделал…
И вдруг она отворачивает голову, вскакивает и быстро уходит. Далеко от меня. И там у нее начинается это, плечи трясутся, у колонны. А я не иду за ней, этого не могу видеть я.
Появляется тетя Лиля.
– Санечка, звонила твоя мама…
– Как она узнала?! Я же просил…
– Она ничего не узнала. Она мне звонила.
– Вы ей что-нибудь сказали?
– Нет, это твое дело, а я тебе обещала. Но завтра она все равно узнает.
– Почему?
– Тебе завтра нужно идти к ним.
– А что случилось?
– Праздник завтра, 1 Мая, я поэтому и дежурю в ночь сегодня. Много травм и происшествий будет. Как и всегда накануне.
О Господи, я вообще забыл, что еще и этот праздник существует. Завтра.
– У вас собираются гости, она очень надеется, что ты придешь, и ждет.
Она появляется обратно из-за колонн, с сухим лицом, ничего не видно, как быстро она умеет приводить себя в порядок, ни следа, а может, это французские умельцы косметических изделий такие?
– Познакомьтесь, – говорю я.
Она уже улыбается, вернее, она пытается.
– Наташа.
– Лиля Некерман.
– Мне очень приятно, я уже о вас слышала.
– Да? От кого, если не секрет?
– От Торнике, с его пальцем.
– А-а! – Она смеется. – Забавный и приятный человек. Его вся больница после того грузинского угощения вспоминала. И ты знаешь, Саш, что он звонил мне, приглашал куда-нибудь сходить.
– Да, ну! Обязательно скажу Нане, аи да Торнике.
– Может, это и не всерьез, а просто так, не будь доносчиком, а то сниму швы обратно!
Мы смеемся – смех это полезное дело? – и мне нравятся медицинские шутки…
– Ладно, Наташа, забирайте своего героя, и не дерись так больше. А на лицо прикладывай холодные компрессы или просто тряпочку. – Она улыбается. Потому что с тряпочкой у нас анекдот связан. – Скорей отек и припухлость сойдет. Ну, счастливо, до завтра.
– Если я приду; но ничего не говорите, ни слова.
– Ладно уж, боец-конспиратор.
Мы целуемся в щеку, как обычно, Наташа вздрагивает. Она прощается с ней и уходит. Тетя Лиля ведь абсолютно молодая, это я ее в шутку так зову.
– А почему ты вздрогнула? – Я улыбаюсь.
– Я никогда не видела, чтобы тебя целовали в моем присутствии меня…
– Это софокловская трагедия, – шучу я. Но она не улыбается.
Мы едем в такси.
– Я завезу тебя, – говорю я, – мне все равно на Фрунзенскую надо.
– Как?! Ты разве не едешь домой?
– Нет.
– Ты не хочешь, чтобы я осталась?
– Нет, у меня дела, мне надо.
Она немного, но обижается, лицо ее грустнеет, но она старается этого не показывать.
Я привожу ее, не говоря ни слова; я уже не здесь, а там, меня подергивает всего внутри от ожидания и нетерпения.
Она выходит молча, я наклоняюсь: – Завтра, в час дня, я буду ждать тебя у Новодевичьего кладбища, – и вздрагиваю от совпадения и слова. Она кивает, такси трогается. – Сколько времени, шеф?
– Четверть десятого.
«Еще не поздно», – думаю я. Мы останавливаемся у их дома через пять минут.
– Подожди здесь, я сразу же…
Я стучу в дверь, забывая позвонить и что есть звонок. Все в голове уже плывет. От предвкушения.
– Кто там? – спрашивает ее голос.
– Это я.
– Ой, Санечка. – Она открывает дверь и сразу прячется в ванну. – Я голая.
– Прекрасно, – вздыхаю я, кого это волнует.
– Э-э, дорогой мой, кто это тебя так отделал, – говорит Юстинов, появляясь.
– Случайно. Послушай, ты помнишь, я тебе давал мой нож на кнопке, когда ты жил на Энтузиастов, у парка? Где он?
– У меня, в сохранности.
– Давай мне его обратно. Я спешу.
Он выносит нож, я проверяю, как выскакивает лезвие.
– Ну, ты, я надеюсь, Саш, глупости делать не будешь?
– Да ты что, я просто должен отдать его брату… – и осекаюсь, не к месту вспомнил; хотя он знает, что тот существует у меня. Но так правдоподобней звучит. Хотя какое мне дело до правдоподобия или до звучания.
Я скрываюсь на лестнице, скатываясь по ней. И думаю, что уже пришел в себя. Это хорошо.
– На Герцена, к консерватории, – говорю я таксисту, который даже не выключил мотора.
Я сижу в такси, которое едет, и думаю, напрягаясь. Я не знаю, смогу ли я, и нос здесь вовсе ни при чем, а нация. Я ненавидел, когда ненавидели меня. Ни за что. И мстил, когда оскорбляли. Это с Кавказа. Но я не знаю… Я этого никогда раньше не делал и ненавидел, когда видел это в руках других. И бил раньше, чем это доносилось до меня. Но иначе мне не справиться, у него ломовые удары, а я должен.
Я расплачиваюсь и знобко-нервно, но спокойно поднимаюсь по лестнице, взбегаю. Открываю дверь, и одновременно с отмычкой щелкает кнопочная рукоятка моего ножа.
Только не при детях, не при мальчике, думаю я, а на нее положить, еще скажет спасибо (потом)…
Мое тело напрягается внутри до последнего нерва. Я слышу не стук, а грохот, мой, по их двери.
Открывает дверь она.
– Где он, пусть выйдет. Так будет лучше, чем зайду я. Ну, быстро.
– Что ты, его нет! Он заскочил, похватал вещи и умчался, сказал, что на несколько дней… – Она с тревогой смотрит на меня.
– Отродье, – говорю я, – я ему все равно жизни не дам. Тварь! – шиплю я.
И вдруг выскакиваю на кухню, размахиваюсь и распарываю до «мяса», до самого нутра, с одного удара, его боксерскую грушу; которая даже не рыпнулась. И потрошу ее, потрошу, потрошу, не в силах остановиться.
Я не знаю, что со мной.
И только когда я опускаюсь, усталый, плюхнувшись, на кровать, совсем обессиленный и пустой, я думаю: какое счастье, что его не было, – мой бы отец не пережил этого никогда. Его не волновали бы причины.
Глаза мои смыкаются.
Я не помню, сколько я сплю, мне кажется, что не-долго, я как будто проваливаюсь. Кто-то трясет потихоньку меня. Она, нет это мне снится, я смыкаю глаза плотнее, едва разомкнувшиеся. Но запах-то не снится. Сны не могут пахнуть, запахи не могут сниться.
Я открываю широко глаза:
– Наташа? Как ты здесь оказалась? Она смотрит встревоженно на меня.
– Сколько времени?
Смотрит на свои маленькие золотые часы:
– Три часа.
– Не может быть, я же должен был… мы должны были встретиться в час дня.
– Поэтому я и приехала, я прождала до двух, позвонила, сказали, что ты еще не выходил из комнаты, я испугалась и, взяв такси, приехала, примчалась, – поправилась она.
– И ты даже не обиделась?
– Ну что ты, милый, я же поняла.
– Ты моя умница, извини меня. Иди сюда, мы поцелуемся.
– А тебе не будет больно?..
Она выжидающе смотрит на меня.
– Я потерплю. Дожили, ох дожили.
– Видишь, теперь это не радость, а терпеть приходится…
– Ну, ты же знаешь: «пытки любви». Или муки любви, как там поэты слагают?
– А разве это – это слово? – и она замирает совершенно. Абсолютно вся.
– Не знаю, – смущаюсь я и вдруг сбиваюсь на чушь: – Кто что знает в этом мире, в этой жизни, поди сюда.
Она подходит и опускается рядом, целуя мои глаза, – это я научил ее, моя привычка. И они не поранены.
– Их хоть можно? – Она улыбается.
– Да, моя прекрасная маркиза. А что это ты сегодня так одета?
– Праздник вроде какой-то…
– Ах, да, так давай праздновать, веселиться. – Я пытаюсь, встаю, и слегка шатает. Я иду чистить зубы.
Везде тихо, и в коридоре ни звука. Я возвращаюсь.
– А где она? Соседи, я имею в виду.
– Она уже выходила, когда я приехала: детей к матери на два дня увезла, в Подольск, кажется.
– Это она тебе все рассказала?
– Да, вчера, когда я приехала. Без звонка, хотела удивить тебя. Вот и удивила…
– Ладно, давай забудем об этом, все, навсегда, надоело, как будто и не было ничего. Садись за стол, и будем твое вино любимое пить.
Она сама ставит бокалы, перед этим идет, их моет. И садится рядом.
– Ты посмотри, почти сорок бутылок, что мы с ними делать будем?
– Пить! – радостно говорит она.
– А скажи мне, прекрасная пивунья, – я делаю вид незамечающего мальчика, – почему ты меня никогда не называешь Саня или Санечка? – Она молчит. – Ну!
– Ты хочешь, чтобы я ответила?
– А как ты думаешь своей умной головкой, для чего ж еще я этот вопрос задавал?
– Наверно… потому, что она тебя так называла.
– Кто она? – не понимаю я, уже понимая. И это действительно так, поразительно, она меня только Саней и Санечкой звала, мне так нравилось.
– Разреши, я тогда спрошу у тебя: а почему ты никогда о ней не рассказываешь, о той, с которой у меня одинаковое имя?
– Это никого не касается, мое частное дело и личная жизнь. И ты права, она меня именно так звала.
Я завожусь, ну вот ответь что-нибудь не так! – Поэтому я и хочу быть приятным исключением. Хоть в этом. Не повторяться и звать тебя Саша. И ни в коем случае не вмешиваться в твою личную жизнь.
И вдруг я смеюсь, какой дурак! Она и так уже замешана в нее. Вся. Я делаю вид, что дуюсь:
– А мне не нравится так!
– У тебя сейчас потрясающее лицо, жаль, что ты не видишь. – Она наклоняется и чуть не целует в нос меня. Я вовремя отдергиваюсь: хей! У меня появилась реакция – где она была раньше…
– Хочешь, чтобы я звала тебя Сашенька?
– Да, очень, так мне нравится.
– Хорошо, Сашенька. Ты капризный, избалованный мальчик.
– Да? – поднимаю брови я. – Что вы говорите, неизбалованная девочка!
– Но иначе ты бы мне не нравился.
– Спасибо. Но я не избалованный, а просто больной сейчас.
– На какое место? – шутит она.
– На все места. Ты не смейся, кстати: все мы больные. И эта анормальность считается нормальной, а эту нормальность называют – люди. А теперь убери все и между «люди» и «больные» поставь тире, и это даст тебе знак равенства и тождественности.
– Я обожаю твои рассуждения такие философские, глубокие…
Мы смеемся отчаянно. Она обнимает мою шею и шепчет:
– И я рада, что твоя мама избаловала тебя. Это незаметно, но лишь иногда, чуточку-чуточку, совсем немножко – проступает, – но без этого что-то не хватало бы в тебе – очень важного, нужного – и ты не был бы таким, какой ты есть.
И сразу просит:
– Поцелуй меня, если сможешь. Я смеюсь и не могу остановиться.
– Что, что такое?
– Наташ, ты прелестная. И мне нравятся твои переходы и слова.
– Но я же волнуюсь о твоей губе и твоем здоровье.
– Спасибо, пойдем вот туда, – и я указываю куда, – и там ты будешь касаться меня, а я буду волноваться.
– Почему? – Она удивлена.
– О твоем здоровье.
Она просто заливается, впервые радостно и весело с момента моего носа. Был и такой момент.
Мы раздеваемся. Господи, и каждый раз это прекрасно. Она божественна.
– …Наташ, сколько времени?
– Половина седьмого.
– О, ужас! – вскакиваю я. – Должен быть у родителей, сегодня вечеринка у них.
Я бегу звонить к телефону. Эй, бегу, говорю я сам себе, и не шатает. Ее тело чудодейственно влияет своими действиями на…
– Мама, это я.
– Где ты, сыночек, мы ждем тебя.
– Я…э, я, наверно, не смогу приехать.
– Почему, что с тобой?
– Ничего, со мной все в порядке, почему что-то должно обязательно быть со мной?
– А что же тогда, мы так тебя ждали? Все гости собрались, я твой любимый оливье две салатницы приготовила, больших.
– Просто… Наташа… плохо чувствует себя. Ну, там, голова, короче, женское.
– А она у тебя? – многозначительный вопрос.
– Да, – многозначительный ответ, чтобы правдоподобней. – И мне не хотелось бы оставлять ее одну – такой праздник, день, то ли вечер.
Ты понимаешь?
– Да, конечно, сыночек, это было бы некрасиво. – Французские духи играют свою роль, она даже не обижается. – Приятно тебе провести время, а ей мои симпатии и наилучшие пожелания.
– Спасибо, – я слышу смех и разговоры на другом конце телефона.
– Вот тетя Лиля здесь, рядом, передает тебе привет и спрашивает, как твое лицо.
– Прекрасно, – говорю я и жду.
– Сыночек, почему она так спрашивает? А мне еще сон плохой сегодня ночью снился.
– Мам, спроси у нее, что это значит. Трубка отрывается, раздается смех, и я думаю, что все в порядке.
– Она шутит, говорит, что давно не видела твоего прекрасного лица и желала бы его увидеть.
Я прощаюсь, желая им хорошо погулять, а тетю Лилю поцеловать от меня три раза: за остроумие.
Я захожу в комнату. Нагая богиня лежит, ожидая.
– Наташ, тебе всяческие симпатии, пожелания и поздравления от мамы и от Лили.
– Большое спасибо, – она поднимается на локте, – а с каких это пор, Сашенька, здоровая Наташа вдруг стала больной, а нездоровый Саша, пораненный, – здоровым, объясняющим о больной Наташе; и вообще – все с больной головы на здоровую валится. Объясни мне, пожалуйста!
Я целую ее закрывающиеся глаза, как прелюдию моего объяснения…
(Целую неделю я не появлялся в институте, пока все не прошло и не зажило, только еще разрез на переносице был, под легкой корочкой, и затягивался долго. Нос мой встал на место, идеально срастался и ничем не отличался от предыдущего. Хотя она говорила, что ее носа, такого хрупкого, тонкого, не будет уже никогда, – носа, из-за которого она подошла… Но она преувеличивала.)
Когда же я в нем появился – в моем прекрасном институте, – до начала сессии оставалось две недели. Я сел в буфете с грустным бутербродом и стал считать. Из пяти экзаменов – вроде – я сдавал только два, по литературам; другие два были больше вопросом, нежели ответом, а о пятом вообще говорить не приходилось: полковник Сарайкоза – военная кафедра, цикл огневая подготовка. От этого воспоминания мне приходится заталкивать бутерброд в свой рот насильно. Он лезет туда так же охотно, как покойный в катафалк (по доброй воле, без посторонней помощи).
Появляются Ирка и Сашенька Когман. В пьесах это называется: «те же, явление второе».
– Саш, – говорит мне Саша, – ты, интересно, на английский думаешь ходить или нет? Возможно, тебе в следующем году не нужно будет сдавать экзамен, государственный, по этому языку!
– Ой, Саш, не порть аппетит, и без того тошно.
– Какие мы все нежные стали! С ума сойти. – Она уплывает к Марье Ивановне покупать.
– Санечка, а что тошно-то? – Ирка садится рядом и улыбается.
– Военная кафедра, экзамен у Сарайкозы.
– Юстинов тоже психует страшно, не знает, что делать будет, как бороться.
– Да он еще и ненавидит меня, этот дебил. И какой идиот вообще армию создал, ведь всё о мире трубим, к коммунизму какому-то рвемся, а распускать ее никто не думает. И не собирается.
– Она всегда будет существовать, армия, поверь мне. Папа так говорит.
– Конечно, если социализм винтовками построили, то уж коммунизм на бомбах высиживать придется. (Иначе не выродиться: труднорожаемое дитя.)
– Очень интересные у вас разговоры, товарищ Ланин, – я поворачиваюсь, сзади стоит Юстинов, – с моей женой. Ты еще из нее Билеткина сделаешь. – Мне смешно. – Мне только этого дома не хватало, а так – в ней все есть.
Ирка улыбается:
– Да, я такая.
– Причем чем здесь гордиться, Ира, я не знаю! – Юстинов смотрит на нее, и что-то они выясняют там во взглядах, им понятное. Мне нет, но мне это и даром не надо: я свое на них отпахал, отработался. Они теперь скрытней стали, и никто не знает, что у них промеж творится. То есть я-то знаю, бываю иногда, и Ирка постоянно делится (как только видит), но кому это интересно. Все это уже прошедший этап.
– Как ты смотришь, чтобы мы по пиву, голубь, а? – спрашивает Юстинов.
– Андрюш, оставь его в покое, ему на английский надо, – громким голосом верещит маленькая Саша.
– А, ну с тобой я не спорю, – говорит Юстинов и скрывается. Он никогда с ней не спорит (хотя и не терпел, что Ирка с ней дружила), так как она громка и шумлива, а он всегда боялся шума.
– Пошли на занятия, Саш, а то опять зачет будет кровью даваться.
Я сижу на занятиях по английскому и думаю, зачем меня мама родила. И не нахожу на этот вопрос ответа.
Потом я сижу полдня в читалке и еще следующие два дня. Так как в пятницу у меня на семинаре по зарубежной литературе доклад по Эжену Ионеско и театру абсурда. Собственно, опубликована у нас только одна его пьеса «Носороги», иных вещей или произведений других драматургов, как Беккет или Артюр Адамов, не опубликовано вообще; поэтому я в основном пишу по ней, никаких материалов нет, а сам я не могу создавать «театр абсурда», выдумывая его. И так все в жизни абсурдно. У них там, в Европе, говорят, что вся жизнь «комедия», – театр. У нас, по-моему, вся жизнь – абсурд. Или театр абсурда.
Доклад я делаю хорошо и получаю пять баллов.
В субботу и воскресенье я что-то читаю, не обращая внимания что. Когда наступает сессия, у меня моментально падает настроение, оно падает в такие глубины, что мне страшно. (Я даже не подозревал, что такие уготовлены Богом в нас.) И не поднимается, пока весь этот сессионный бред не кончается.
В понедельник я даже не иду на военную кафедру, чтобы не видеть рожи Сарайкозы, так как знаю, что мне все равно ничего не светит. Весь день я валяюсь в постели с книжкой Вулфа (хотя его мы не проходим по зарубежной литературе), а потом иду в кино, недалеко на углу кинотеатр «Повторного фильма», и смотрю, в который раз, «Не горюй!», грузинскую кинокомедию, которая мне обалденно нравится. Во время нее настроение мое немного поднимается. Но потом я горюю опять.
Вечером мне звонит Юстинов и говорит такое, что я не верю своим ушам.
– Саш, ну твой голубь Сарайкоза улетает в дальние края, в санаторий, свои дела не разрешил никому принимать, поэтому в эту сессию будет экзамен Песского, а его, по огневой, переносится на зиму. Так что ты имеешь еще полгода – пребывания в институте.
Я прыгаю чуть ли не до потолка, едва не пробивая головой: появилось почти пятьдесят процентов, что в эту сессию проскочу я. Сдам, будь она проклята. Видать, он перетрудился, выползая под Сталинградом, и ему отдых нужен.
Мне тут же хочется ее увидеть, но я не хочу мешать, ей надо писать диплом, и так она опаздывает, плюс к диплому сдавать три госэкзамена.
Шурик появляется в институте перед самым началом зачетов, и мы сдаем их вместе, ему везет, что он тощий и слабо выглядит, они ставят ему охотней, без возражения. Непонятно, как опять-таки, но я сдаю все зачеты и даже – английский. Хотя и остаюсь ей должен три текста. Какие, я и сам не знаю, – какие-то.
Мне остается сущий пустяк: сдать пять экзаменов, и самый главный – зарубежная литература. Которую я знаю так, что у большинства в глазах появляется горящая зависть, когда они глядят на меня или говорят, как я буду сдавать: я все читал. Читал я, однако, не все. И если обычно мне, как и любому другому обычному студенту, хватает три-четыре дня, чтобы выучить весь материал, который преподается полгода, а то и год (кроме этих трех-четырех дней просто больше нет времени), то к зарубежной литературе я начинаю готовиться, забирая еще два дня у предыдущего экзамена. Я хочу все знать и прочитать и порадовать своим ответом преподавателя Храпицкую. Она мне нравится, умная женщина, а это редкость…
Два экзамена из четырех я сдаю не готовясь, по девкиным шпаргалкам, которые они мне передают после того, как я беру билет. Нахально открываю лист, листы, просто читаю пару главных идей, необходимых для зацепок, и иду биться, – не ожидая, не могу ждать. Хотя бьюсь не я, а мой язык. Это называется: получать образование. Завтра я уже точно не буду помнить, о чем я говорил вчера и что это было. Страшное дело – образование. Такое быстрое и забывчивое.
Один экзамен я сдаю – до сих пор непонятно как. А предпоследний – детская литература, и я делаю обзорный ответ, думая, какой дурак придумал вычленять ее в детскую. Литературу отдельно. Что, выходит Черный – детский писатель, если написал стихи для детей, или Грин, например, «певец романтики только для юношества» (ну, вот я, мужчина уже, а до сих пор его люблю), – чушь собачья, но она тоже включена в наше образование. Иначе мы бы ничего не знали о собаках…
Благо, что преподаватель, маленькая кандидат наук и очень шустрая, вовремя догадывается и ставит мне пять баллов. По-моему, ни за что, но она говорит, что знает мою полезную и всестороннюю деятельность на кафедре сов. литературы, в качестве председателя кружка «Литература XX века». Что ж, известность, это приятно. А я и не знал, что можно еще легче учиться, чем это делаю я. Но это система Юстинова, он им вечно мозги забивает о папе, спектаклях, его друзьях, писателях и получает оценки ни за что.
К зарубежке я, как чокнутый, успеваю и еще проглатываю двух Маннов: у Томаса мне понравилось очень «Приключения авантюриста Феликса Круля», отлично и броско написано, остальное тоска, у Генриха – «Молодые годы Генриха IV», сгодится и терпима, Гете, Шиллера и Фейхтвангера; я вообще недолюбливаю немецкую литературу, и по ней у меня пробел, хотя Фейхтвангер и еврей, и мне у него нравится «Еврей Зюсс», «Иудейская война» и очень сильно сделаны «Братья Лаутензак». Все это останется на века, но жил он в псовом государстве, и поэтому им обладает немецкая литература. А по ней пробел у меня от Нибелунгов до морализирующего пацифистика Белля. Из французов я успеваю доухватить А. Франса, Флобера (великолепная историческая вещь «Саламбо», я ее перечитываю), и Роллана, чуть не умерев от тоски и печали, ночами читая этот чокнутый многокнижный роман «Очарованная душа», – зато мою он разочаровал, и сильно (в чем там очаровываться было?).
Это то, что я не совсем читал, а все остальное от Золя до Ибаньеса мне, кажется, известно. Зарубежная литература не разделена у нас на века, все в одной свалке. Вообще очень насыщенный экзамен, семьдесят пять вопросов, и, по-моему, еще ни к одному экзамену я так не был готов.
Вечером, когда я, засыпая над книгой, прочитывал какие-то бессмысленные высказывания Энгельса о литературе, в дверь мою кто-то тихо постучал. Подонок боксер так и не появлялся (и скажу вперед, надо сказать, он так и не появился, пока я не съехал, уехав отсюда). Я, не представляя, кто это может быть, да еще накануне экзамена, пошел открывать.
– Мой милый, я так соскучилась. – Она на шее у меня. – Истосковалась вся.
– Так разве можно, Наташ…
– Но я же делом занималась, и я не люблю показываться, пока все не сделаю. К тому же я не хотела тебе мешать, поэтому и не звонила.
– И как – дела? – замерев почему-то, спрашиваю я.
– Сдала диплом, написала, и два госэкзамена, последний – через три дня.
– И…
– И все на «отлично».
– Умничка ты моя. – Я целую ее глаза.
– Как ты, ты хоть вспоминал про меня, три недели тебя не видела, чуть с ума не сошла?
– Не-а, – говорю, – я тебя не вспоминал. – И уточняю: – Каждый день.
– Ты даже ни разу не подумал обо мне, о моих губах?
– Нет, – говорю, – каждый день только об этом и не думал. Старался! Она улыбается.
– Зачем мне о тебе думать, ты плохая девочка.
– Можно я останусь? – замирает она.
– Нет, – говорю я, и она, отмирая, остается.
Как прекрасно ее тело, как оно волнует и уводит меня в какие-то потаенные дали. Я исторгаюсь весь. Как божественно отдается она. Не верится, что она – моя.
Что там Энгельс говорил о литературе, кстати? Наутро вспоминаю я – и не могу вспомнить, да и разве это важно, если она лежит у меня и спит, впервые, когда просыпаюсь я, и я счастлив. (Мне не надо ведь много для счастья. Мир – мне не надо тебя, пусть будет она. Лишь она. Это же не так много для тебя, мир, – одна частица, отдай ее – это так много для меня.) Счастлив своей никогда не сентиментальничающей рукой сентиментально и нежно укрыть простынью ее голое тело, уставшее от терзаний тела моего. Радуясь, что она этого не видит. Я выхожу негромко из дома.
Впервые я не успеваю и не захожу на экзамен первый. Едва я появляюсь, все сразу смотрят на меня.
– Расступитесь все, "Панин пришел сдавать экзамен, – говорит Ирка, – сейчас мы будем потрясены глубиной его знаний и полнотой ответа.
Она хоть и шутит, но нервно улыбается. Улыбка ее нервна, а это не к добру.
– Саша, ты все прочитал? – спрашивают меня девочки.
Я их утешаю:
– Да что вы, девоньки, разве это возможно.
– Чокнутый объем, – говорит маленькая Сашенька громко.
– Как же мы будем сдавать, если Санька и то не все прочитал, – говорит Светочка. Рассуждающе.
– Ну «не все», большинство читал когда-то. – А я и половины не прочла, – говорит Светка, делая красивые глаза.
– А тебе зачем, Светочка?..
Она двусмысленно улыбается: мы понимаем друг друга, как курок стрелка.
Но я не могу обойти свою постоянную бывшую боевую подругу и обращаюсь к ней.
– Ир, какой расклад? – спрашиваю я.
– Не спрашивай, Саш, кошмарный: зашли пока все отличницы, первая пятерка, трясутся ужасно. Меня всю ночь истерика колотила.
– А чего ты не пошла, не идешь сдавать, все равно никуда не денешься?
– Да ты что, я успокоиться не могу, еще три часа надо, последней пойду, когда она устанет, может, проскочить удастся.
– Ты что, пять баллов хочешь?
– Ты с ума сошел, я на поганую тройку согласна! Лишь бы сдать. – Но это она всегда так прикидывается.
– Ты же читала много, на семинаре у нее была, успокойся.








