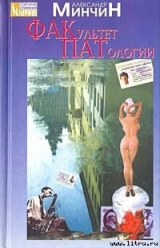
Текст книги "Факультет патологии"
Автор книги: Александр Минчин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Наташа, еще шампанского?
– Да, пожалуйста. – Она поднимает бокал, и сверкает кольцо.
Отец обращает внимание.
– А это что, дань моде, сейчас все молодые люди носят?
– Нет, я замужем.
Отец останавливается, осмысливая, а мама вскинула взгляд на меня.
– Мне нравится, что вы честны, Наташа, и не делаете секрета. А Саше я скажу, что нехорошо вмешиваться в чужую жизнь и мешать чужому дому.
– Что вы, это я, скорее, вмешиваюсь в его жизнь и мешаю, он здесь ни при чем.
– Ну да, конечно – «святой дух», – говорит отец, и мы улыбаемся.
– Помнится, когда-то он давал себе обещание… Ну, да не важно. Раз вам нравится, то на здоровье. Это личное дело. Хотя с какой стороны смотреть.
– А где ваш муж, Наташа? – спрашивает мама, она простая, как все простое.
– Во Франции, работает экономистом.
– Мам, ты еще спроси, как он к этому относится.
Батя смеется, оценивая:
– Она у нас с повышенным чувством такта.
– Ну, прямо мать выставили, как деревню. Я просто спросила, а налетели сразу, как коршуны. Я ничего не имела в виду. Наташа, я надеюсь, вы не обижаетесь на меня?
– Что вы, нет, конечно.
– У Наташи вот, например, есть хорошие привычки. – Папа тонко переводит разговор.
– Какие? – Она смотрит открыто на отца.
– Руки мыть перед едой.
Мы смеемся так, что бокалы и тарелки трясутся. Она даже развязывает легкий платок-шарф на шее.
– Вы напрасно смеетесь, – говорит отец, – я с Сашей бился до седьмого класса, пока приучил руки мыть после двора, и, чего уж там греха таить, после туалета тоже. Правда, сейчас он исправился, стал хорошим мальчиком, по двадцать раз на день руки моет, я уж думал, не сводить ли его к психиатру. А у вас, Наташа, никого медиков в семье нет? Вы руки сами научились мыть? Или они вас тоже долго и упорно приучали?
– Нет, я сама с детства. Хотя у меня дедушка медик был…
– Хотите сказать – это его заслуга, а иначе нет, да?
Мы опять смеемся.
– А в какой области медицины он практиковал?
– У нее, пап, дедушка не практиковал, он изучением и исследованиями субтропической медицины и инфекций занимался. Ты слышал такую фамилию – Гарус?
– Конечно! – Он даже привстал. – Это ваш дедушка, Наташа?
– Да, – ответила она.
– Крупнейший был ученый, его же именем в Москве институт назван, большой мозг был. Я еще когда в институте учился, изучал его работы и труды, выдающийся ученый.
Он поднял бокал.
– Ну, Наташа, второй тост выпьем за вашего знаменитого дедушку (земля ему пухом) и сильнейший ум ученого, преклоняюсь перед тем, что он сделал в медицине.
Мы встали все и выпили до дна. Кроме мамы, она не могла пить много.
– Спасибо большое, – тихо и грустно сказала Наташа.
– И мне очень приятно, – добавил отец, – что внучка такого ученого в нашем доме сидит со мной за одним столом, – и он поцеловал ее тонкую руку.
– Благодарю вас. – Она немного была смущена.
– Ну все, батя, – шучу я, – теперь твои симпатии к ней безмерны и нескончаемы.
– А я это сразу сказал, как только увидел ее… ноги.
Улыбки на лицах, а мама подает горячее. Жареную курицу в майонезе со сметаной, картофель, запеченный с грибами, и еще вареный язык, как второе добавление ко второму.
– Ну, тут и покушать можно, да, Сань, жаль, что твоего брата здесь нет, ох, покушать любит, редкий мастер.
И он останавливается, глядя на мое лицо.
– Ну, хорошо, хорошо. Я-то могу упоминать его имя.
Наташа вопросительно смотрит на меня. Я еле сдерживаюсь, отец это понимает и переводит моментально разговор:
– Ну, навались, ребята, студенты всегда голодные, тем более после занятий. – Кстати, ты был сегодня на занятиях, Саша?
– Конечно, пап, как всегда.
– Поразительный человек, Наташа! Когда бы ни спросил – он всегда бывает на занятиях, но я ни разу не видел ни книжки, ни учебника, ни портфеля в его руках, как он учится, не понятно.
– Вам какую часть? – спрашивает мама.
– Любую, пожалуйста.
– Удивительный ученик! Правда, читает много, этого не отнять. И что у вас там за институт такой, куда смотрят ваши профессора! Вы тоже так учитесь?
– Как? – спрашивает она, принимая из маминых рук тарелку.
– Ну, без портфеля.
– У меня сумка, всегда.
– А, ну что ж, – говорит отец, смеясь, – это существенный довод.
Я смеюсь, не могу остановиться. (Я когда смеюсь, то не могу остановиться.)
– Па, но ее не надо воспитывать, она уже воспитанная.
– Напрасно ты так думаешь: человека, говорил Макаренко, надо воспитывать до глубокой старости.
– Ну, пап, теперь давай, что говорил Пирогов, потом твой Павлов.
– Наташа, а почему вы так мало едите?
Я тоже обратил внимание. Я не узнаю ее, где та решительная девочка. Отец вставляет:
– Если будете мало есть, с Сашей вам никогда не справиться. Это точно! О, это еще та акула, тигровая. Его челюсти я на себе знаю. Когда он маленький был и обижался, я подставлял ему руку ко рту, и он впивался, – клыками, – а я поглубже старался засунуть, чтобы зубы его раздвинуть, и мне не больно было.
Все улыбаются воспоминаниям детства. И тут я говорю:
– Папа, я тебя хотел спросить давно, насчет сифилиса…
– А что, уже, Саша? – Он улыбается.
– Нет, ты не так меня понял, пап. Сифилис или его вторая стадия, или, скажем, вторичное заболевание может влиять на сопротивляемость организма при, предположим, пулевом ранении с ядом.
– Что-то ты мудришь, сын мой, объясни нормально.
– Хорошо, только не возмущайся сразу: у Ленина был сифилис, потом в него стреляли, через какое-то время он умер. Яд подействовал, но потом, могла быть причина, что организм был ослаблен вензаболеванием и не имел достаточной сопротивляемости, поэтому не справился и так далее.
– Во-первых, я не слышал, чтобы у него такое было, во-вторых, я не думаю, что Наташе и твоей маме, вообще дамам, приятно слушать такие подробности, а в-третьих, я тебя тысячу раз просил не вмешиваться ни в какие политики и диссидентские дела. И почему тебя тянет в эту пучину, да еще с обратным знаком минус, это не для тебя, занимайся наукой, оставь это кому-нибудь другому.
– Хорошо, хорошо, успокойся. Так все-таки? Он улыбается:
– Вы видите, Наташа, что я вам говорил! Я тебе объясню, когда встанем из-за стола. Но это не твоего ума дело. – Он вздыхает. – Сколько вы его знаете, Наташа? – переводит он разговор.
– Всего четыре дня, – отвечает она, и я улыбаюсь батиному выражению лица.
– А смотрите вы на него так!.. Она смотрит ясно.
– Но, надеюсь, это не любовь с первого взгляда, а то тогда я вам очень сочувствую.
Она не сдержалась, рассмеявшись. Мама вообще в рот куска не берет, ждет, пока отсмеется.
Потом мы пьем чай и едим «Наполеон», который испекла мама. Она это бесподобно делает.
Отец увлечен десертом, как он говорит: мозгу ученого всегда не хватает сладкого. В виде глюкозы. Мама разливает чай.
А она все время смотрит на меня. И краешком языка показывает на губу.
– Что это? – шепчу я беззвучно. Она только пожимает плечами.
На фруктах я сдаюсь и говорю: мам, хватит.
– Спасибо большое, нам пора.
– Ты, конечно, и проводишь Наташу, как галантный кавалер, – говорит папа, – я не сомневаюсь. А то я могу это сделать.
Она улыбается.
Когда мы выходим в прихожую, я подаю ей сумку.
– Мама, спасибо большое, мы очень наелись.
– Сыночек мой. – Она обнимает меня и сует что-то хрустящее в карман.
– ?..
– Это от меня.
– Точно?
– Да, да, я знаю, ты бы от него не взял. Отец подает Наташе ее шарф или это платок нашейный, непонятно.
– Очень приятно было познакомиться, Наташа. Рад, что вы побывали у нас в гостях.
– Мне тоже очень приятно.
– Передавайте привет вашим родителям. И счастливо вам окончить институт и быть хорошей учительницей.
Мы улыбаемся.
– До свиданья, пап.
Наташа извиняется и на минуту уходит в ванную.
– До свиданья, Саша. Ну, сынок, когда домой возвращаться будешь? Я так решил: сдавай сессию, чтобы я тебе «не мешался», как ты говоришь, а потом домой. И кончай эти свои…
Он не договаривает, она выходит из ванны, наверно, смотрелась в зеркало. Зеркала должны смотреть на нее.
– Большое спасибо за все, я очень благодарна. И уже когда мы стоим в дверях, в конце, вместо прощания, он говорит:
– И все-таки, Наташа, я не понимаю, как такая хорошая девушка, из такой воспитанной семьи, могла с ним связаться.
Мы смеемся и спускаемся. На лестничной клетке она не выдерживает и жадно затягивается, достав сигарету из кожаного футляра женского портсигара.
Щелкает моя зажигалка. На сей раз она не обращает никакого внимания на нее. Мы выходим на улицу, в ночь, на воздух.
Она смотрит на меня:
– Я не знала, что у тебя такая красивая мама, просто потрясающе.
– Сейчас уже не то, раньше она была, ее на Кавказе три раза воровали.
Она делает затяжку и долго не выпускает дым.
– Ты такая тихая и скромная была, мне даже не верилось, что это ты. Что случилось?
– Но я же не могла вешаться на твою, пусть даже прекрасную, шею на глазах твоих родителей.
– А я боялся, что тебе скучно и неинтересно. Да еще папа про мои школьные дела так долго рассказывал, каким я был, да как вел себя. Тоска.
– Мне, наоборот, это очень и очень интересно. Как раз это наиболее увлекательная часть была. И понравилась; я не знала, что ты такой был.
– А какой, ты думала, я был? Мы идем к Киевскому вокзалу.
– Ну, воспитанный пай-мальчик, сидящий дома и читающий, ничего плохого или озорного не делающий. Я смеюсь.
– Неужели я на такого похож? Ой, насмешила!
– А ты еще и дрался, папа говорит.
– Это он шутит, я никогда не делал этого, всегда боялся. – Я кокетничаю, я знаю. Она улыбается нежно.
И вдруг навстречу нам появляются три фигуры – каждая больше меня – и идут, заслоняя собой весь тротуар.
Только этого мне сейчас не хватало. Да еще при ней.
Мы сближаемся быстрей, чем хотелось бы, и увернуться некуда. Мне совсем не хочется делать этого при ней. Что-то сковывает, то ли стесняет.
Трое останавливаются, не пропуская.
Я прикидываю, кого уложу первого, но по всем расчетам выходит, что один из них еще уложит или имеет явные шансы уложить меня. Да – на ее глазах. (Ну, мне вечно везет, как утопленнику.) А сейчас – меня волнуют ее глаза…
– В чем дело, мальчики? – спокойно спрашивает она.
Но они отвечают мне, не девочке:
– Парень, у тебя закурить найдется? – голос вежливый, иначе не дал бы.
Я достаю пачку и протягиваю ее левой рукой, чтобы правая была свободна. Он берет одну.
– А для ребят?
Я киваю. Он берет еще две.
– У-у, фирменные, можно еще взять?
– Как тебе хочется.
И я как бы отодвигаю Наташу чуть-чуть назад, за себя, правой рукой.
– Ну, ладно, не буду тебя грабить, понимаю – дорого стоят, итак, три взял.
И они расступаются. Я беру ее за руку и провожу между ними, как бы прикрывая, и сзади чувствую это вечное проклятое беззащитное место – спина, и ее оголенность.
Мы проходим между ними и не ступаем двух шагов, как я слышу:
– Парень!
– Иди вперед, – резко тихо говорю я, – и не оборачивайся.
Я поворачиваюсь.
– Спасибо большое… за сигареты.
– Пожалуйста, – выдыхаю я.
Она стоит и не двигается, а только смотрит на меня.
Мы опять идем.
– Я что, Наташа, непонятно сказал идти вперед и не оглядываться?
– А ты считаешь, что ты всегда прав? – шутит она.
И тут я взрываюсь:
– Ну, позволь мне хотя бы в этом делать так, как я считаю, – и не вмешивайся в дела, которые я знаю, как кончаются и что случается, а ты – нет, ясно?!
– Хорошо, хорошо, Саша, только не кричи, успокойся. Ведь ничего не случилось.
– Но в следующий раз, когда я говорю, – надо делать! – (Или тебе приятно было смотреть, как меня раком ставили бы и отделывали.)
Она целует меня, я успокаиваюсь. Я перенапрягся. Я же понимаю, что просто так ребята не останавливают – закурить.
– Ничего не случилось только потому, что я трусливый и сделал все, как мальчики хотели.
– Да, только глаза у тебя сузились, как у ненормального. Я думала, сейчас не сдержишься и…
– Как же ты это в темноте заметила? – улыбаюсь я, успокоившись.
– Я наблюдательная. У тебя учусь. Хорошо, что ты сдержался, они всегда с ножами ходят…
С ножами, Господи, если б кто знал, через сколько я ножей прошел, от подбородка до колена.
– А ты всегда такая смелая? «В чем дело, мальчики», – мне это обалденно понравилось. Вот, думаю, есть девочка, которая защитит меня, заступится.
– Нет, я не такая смелая, но ведь нужно же было что-то сказать, чтобы показать, что их не боятся.
Как будто бы это кого-нибудь волновало.
– Ты мое солнышко… – я впервые называю ее так.
– Это правда?..
– Нет… просто ты мне нравишься. Мы горячо целуемся.
– Наташ, что это сладкое у тебя на губах?
– Гигиеническая помада, специальная.
– Я не знал, что ты губы красишь.
– Обычно нет, но после твоего поцелуя…
Я смеюсь и понимаю теперь, что она мне тогда показывала.
Мы идем по площади Киевского вокзала, а я решаю философскую дилемму материального сознания следующего плана: сколько мне мама могла положить в карман; есть бумажки рубль, три, пять, десять и так далее. Рубль она, конечно, не положила, даже если и три, то на два счетчика хватит, хотя в центр могут и без этого повезти, а пять – уж тем более достаточно. А если она брала у отца (такой возможности не отрицаю я), то у того только пятерки и десятки, он другие купюры не любит. В любом случае – получается, думаю, направляясь к стоянке такси.
Но не могу же я при ней вытащить бумажку и смотреть: сколько денег у меня.
Мы садимся в такси и целуемся до горячести в голове. По крайней мере, моей… Она изумительно целовалась… вернее – целовала меня.
Такси останавливается у моего дома.
– Мне выйти или я могу наблюдать, как ты будешь расплачиваться?
Щелкает счетчик под рукой таксиста.
– Как ты заметила? – удивительно.
– Я же сказала, что учусь наблюдательности у тебя. Мне это нравится.
Я лезу в карман, и мне становится нехорошо: в кармане ничего совершенно нет, там пусто.
– Что случилось, Саша?
– Наташ, я, кажется… – У меня не поворачивается язык, неужели ж я потерял, вот идиот, в двадцать один год не научился не терять деньги. Но где?! Так, мама мне засунула правой рукой в левый карман пиджака, он накладной…
И тут до меня доходит: ребята. Она стояла справа, а двое слева и один отвлекал сигаретами.
Пиджак был расстегнут, не касался, я не почувствовал, – хорошо, я бы сказал, классно!
Я сижу и размышляю, виртуозно сработано: я люблю искусство, любое.
– Саша?
– Да, Наташ. Я… ты мне можешь занять?
– Какие ты слова говоришь! – Она быстро достает из сумочки из кошелька несколько сложенных красных десяток и, не глядя, протягивает ему одну из них. Мне нравится, как она это делает.
Он мнется, он ожидает, – таксисты никогда не мнутся, – и держит десятку в руке.
– Возьмите половину.
Я раскрываю рот, а она говорит:
– Этого достаточно?
– Нет, это больше чем достаточно, три рубля хватит. Мы договаривались с молодым человеком на два счетчика.
Обалденный таксист. До чего ж мне перед ней неудобно, я, по-моему, весь гранатовый от стыда.
Она берет сдачу у ненормального таксиста, и мы выходим. То ли она так красива, что даже им нравится, так как общеизвестно, для таксиста нет ни святого, ни матери, ни женщины, а только три рубля.
– Ты потерял что-то, да? Ты расстроился?
– Нет, я не расстроился. И не потерял, кажется.
Я рассказываю ей, и мы смеемся.
Я вхожу в квартиру и включаю свет. Она просит меня отвернуться и раздевается. Я еще раз, на всякий случай, заглядываю в пустой карман: не показалось ли. Но плохое никогда не кажется – оно всегда реально.
И вдруг раздается звонок, звенящий так, что у меня чуть не начинается тик левого глаза.
Я снимаю трубку и молюсь Богу, что соседей нет до понедельника.
– Санечка, это я, – это мама.
– Мама, что случилось?!
– Я думала, это важно, и она будет искать.
– Что искать, кто она?
– Наташа забыла в ванной флакон очень дорогих французских духов, а я знаю, сколько они стоят, и боялась, что она будет переживать.
– Не будет, я заберу как-нибудь. Это все?
– Нет, и еще, что странно, он запечатанный. Как же она тогда ими пользовалась?
– Подожди секунду…
Я захожу в комнату, она лежит и смотрит на меня не мигая.
– Зачем ты это сделала?
– Что это?
– Не прикидывайся, а то ты не знаешь. Что ты оставила в ванной?
– Мне было приятно, она мне очень понравилась. Я ей его и привезла.
– Почему же ты в руки не отдала?
– Твой папа как-то отреагировал на тот подарок, что… я побоялась, но я не хотела никого обидеть, извини. Просто мне было неудобно их маме вручать, такой пустяк…
Я наклоняюсь и целую ее глаза.
Потом иду к телефону, черт-те что, одни миллионеры вокруг, а тут на жратву подчас или подчистую не хватает.
– Мама, это для тебя.
– Ой, сыночек, спасибо большое.
– Это не ко мне.
– Передай Наташе, я ей очень благодарна. Очень. И она такая элегантная.
– Спасибо, до свиданья.
Ну теперь мама будет на седьмом небе от счастья. Французские духи, для наших женщин – это же непозволительная роскошь… и большая часть счастья. Ее только французские женщины заслужили.
Я опускаюсь рядом с ней. Она целует меня, прижимаясь.
В эту ночь она как-то особенно нежна и покорна.
Она уезжает к вечеру в воскресенье, и мы ни о чем не договариваемся. Она ждет, что я скажу, а я молчу. Дурак и по-дурацки устроен.
Но мне еще во многом надо разобраться.
Она не выдерживает:
– Саша, может, ты мне дашь на всякий случай номер своего телефона?
– Конечно, нет. Разве он тебе нужен?
– Я просто считала, что это должен предложить, сделать ты.
Я шучу:
– Я настолько пьян тобой, что ничего не соображаю.
– Ты удивительный мальчик, и с тобой я делаю – заставляю себя делать то, что не делала никогда. И не стала бы. Или я что-то не так сказала и ты обиделся на меня?
– Что ты, что ты. Все прекрасно. И я боюсь только одного…
– Чего?
– Что все скоро закончится…
Она зацеловывает мое лицо нежными губами. У меня так всегда, когда хорошо, я боюсь, что будет плохо.
– Но не будем сейчас об этом, – говорю я. Скорее сам себе. Пишу ей телефон, она его и так сразу запоминает. Не беря с собой клочка бумаги. Я все всегда пишу на клочках.
Все жизнь какая-то – клочковатая.
– Я не хочу, чтобы ты думал об этом, – говорит, как просит, она, – хватит, моя голова раскалывается от этих мыслей.
Вот это новость для меня.
– Я не знал, что ты думаешь.
– Я не хотела, чтобы ты знал, что думаю я.
– Весьма интересная конструкция в русском языке.
Она улыбнулась. Мягко.
– Чем ты сейчас собираешься заниматься?
– Ты не хочешь, чтобы я тебе говорила неправду?
– Нет, конечно. Никогда.
– Поеду на международную.
– ???
– Я уже неделю ему не звонила… С тех пор, как встретила тебя.
Я отворачиваюсь.
– Саша? Это все совсем другое, ну… пока это тебя не должно касаться. Я объясню все потом. Не заставляй меня делать это сейчас.
– Я никого не заставляю ничего делать. Даже чтобы приезжала. Всего хорошего, Наташ.
Я слышу, как она тихо, без слов, без оправданий уходит, хлопает где-то дверь, гулко. В одном из многих отверстий моих чувств чувствую, что я не прав. В один из немногих раз я это чувствую. Я хочу высунуться в окно и крикнуть: ты права, извини меня. Но это же я, и я этого не делаю.
Просыпаюсь в понедельник утром и с тоской думаю: опять учиться. Как будто то, что я делал до этого – так называлось. А сегодня еще военная кафедра, это вообще убийство для меня.
Я беру запасные шерстяные носки и еду на «ВДНХ», на улицу Кибальчича, где у нас проходят по ней, этой кретинской науке дурацкие занятия.
О нашей военной кафедре по Москве ходили легенды. Не знаю, почему эти дубари хотели сделать из нас вояк, но они хотели. Со мной они бились постоянно и нескончаемо. Это понятно. Я вечно выступал против них, пытаясь отстоять права демократии. А какая там, к черту, демократия, когда у них армия. Они, казалось, получали садистическо-милитаристическое удовольствие, когда мы на один день попадали в их руки. Они так и говорили: сегодня забудьте, что вы филологи и пустоплеты, сегодня мы из вас солдат будем делать для защиты рубежей нашей родины! Кто на нее нападать собирался? Я опять-таки не понимал. Вся эта защита очень на нападение походила.
Занятия шли с девяти утра до пяти вечера по нескольким циклам военной подготовки. Вели разные офицеры, и одни фамилии их заслуживают внимания: полковник Сарайкоза (мой лучший друг и товарищ, как говорил Юстинов, по-английски: best friend), п/к Зуцаринный, нач. каф-ры п/к Болванов, майор Сердцеенко, капитан Апельсинко, майор Кузбассов – и только один там был еврей п/п Борис Ефимович Песский. Ну, того как символ держали, мол, и в армии у нас такое есть: хотя он знал, что дальше подполковника ему не двинуться и полковника не дадут: не получит никогда.
Полковник Сарайкоза ненавидел меня люто. О нашей борьбе было известно даже в стенах моего института, который находился далеко отсюда, на Пироговке. А занимались мы в здании дефектологического факультета, в подвале и на третьем этаже, где и размещалась военная кафедра (и здание ж себе такое выбрали) с «приданными» ей средствами, как говорили они, как-то: плац, автокласс, гараж, стрелковый тир, оружейная комната, и т.д.
Этот дебил Сарайкоза, лично, каждый раз приходил проверять, в каком виде я появился (об этом тоже ходили легенды). Стричься эти идиоты гоняли нас каждый месяц. Меня же, в виде исключения, Сарайкоза посылал каждое божее занятие. Это ему доставляло особое удовольствие, чтобы не сказать особенное, – то ему не нравился мой затылок, то баки по бокам, то весь сам я. Я, впрочем, никогда ему не нравился: и с баками и без баков, с затылка и без затылка.
Он давал мне тридцать минут на стрижку и требовал доложить о выполнении задания. Обкорновывали меня каждый раз так, что страшно было смотреть и на людях появляться. А ведь голова и ее стрижка были самыми главными для меня (после марксизма-ленинизма, конечно). Иногда я пропускал занятия специально, чтобы только не стричься, хотя потом и приходилось отрабатывать в другой день и с другими факультетами, но Сарайкоза не знал, что в этот день бываю я.
Но больше всего я «обожал» ездить на занятия в поле с подполковником Марленко, который попутно, пока мы стояли на плацу в ожидании машин, успевал заделать любовь в кладовой с кладовщицей Клавой, которая была замужем. Естественно, не за Марленко. Иначе он бы не делал этого в кладовой, вещевой. В которой мы переодевались, когда ехали на занятия (там все переодевались). И там пахло. Билеткин говорил, сам видел, когда забыл что-то и вернулся, а кладовая закрыта, свет потушен, оттуда охи-вздохи несутся. Он еще в щелку посмотрел…
Марленко заставлял одеваться нас в поганые, с гвоздями сапоги, вонючие телогрейки и стеганые штаны, по тысяче раз одетые другими, – у солдат все общее, – и пахнувшие мерзким шапки со звездой (звезда не пахла, она блестела). Потом он вез нас за город на машине и там начинались «полевые занятия». Этот кретин заставлял нас ползать, окапываться, делать марш-броски по два километра, разворачиваться в цепь, залегать в лесу или кустарниковой местности. (В другой мы не залегали – в другой нас бы видно было.) И в любую погоду – в грязь, дождь, снег, слякоть – мы ползали по полю, полям, лесам – животами, – и он нас учил, что значит быть солдатом. Причем его абсолютно не интересовало время (жены у него, видимо, не было, а с Клавой он все сделал): он факал его, как Клаву. Я любил наблюдать его желваки, когда он говорил:
– Не уложимся в положенное время, останемся еще, будем стараться и выполним положенное хорошо. А спешить нам некуда. Времени у времени достаточно.
Это была его коронная поговорка. Не понятно только, как она ему в голову пришла. И он привозил нас, голодных, обессиленных, вместо пяти и в семь, и в восемь, и в девять вечера, когда на кафедре уже никого не было. Даже дежурного. Но у него был ключ от кладовой-раздевалки. И чувство выполненного долга невольно разливалось по его лицу. И желваки играли воинственно. И так он делал каждый день, и знали его все факультеты, как и вообще всю эту … кафедру. Я понимал, что они окопались тут (пользуясь их языком) очень неплохо, платили им много и за звезду, и за преподавание, попасть на такую работу было сложно, и нужно было уметь извернуться, в армии-то им не особо хотелось сидеть, там так не поживешь, как здесь, на свободе. А чтобы по своей дубовой закаленной привычке напоминать себе немного армию и не скучать, они мучили нас, издевались над нами и играли, развлекаясь, в строгих командиров. Им хотелось на наших головах устроить себе подобие армии.
Причем эта кафедра не подчинялась никому, даже ректору, а только министерству обороны, таков был приказ самого Гречко. Эти дебилы даже здесь, в институте, старались насадить вояк и военную власть, на всякий случай, вдруг что случится… А что случится?..
Я не терпел вояк, органически, большинство из них за то, что они пытались обломать меня, и бился с ними страшно, ни в чем не уступая или максимально стараясь вывести из себя. Этим и вознаграждался. Какая жалкая награда за безвозмездно потерянные дни жизни. Каждое мое появление не обходилось без скандала, и вся группа усиленно этого ждала. (У нас была еще та группа.)
Вот и сейчас п/к Сарайкоза, нач. огневого цикла, которому сдавать в эту сессию экзамен, ведет занятие и смотрит на меня.
– Ты это что же себе, Ланин, думаешь?
– А что? – не понимаю я. Юстинов тихо говорит на весь класс:
– Старые друзья встречаются вновь.
– Что, ты особый? Или тебе позволено приходить в любом виде на военную кафедру, да? – Он уже взлетел на высокую ноту.
– Нет, – говорю я. Все полегают.
– Тебе острить еще хочется, показать какой ты из себя херой. – Он оговаривается, не знаю, умышленно ли, но не поправляется.
– Выставить себя перед преподавателем, экий ты, и класс, чтоб полюбовался.
– Да в чем дело? Короче, – спрашиваю я.
Я знаю, что сейчас будет, но не могу же я не вывести его из себя и не схватиться, и не получить наказуемого удовольствия.
– Короче! – орет он. – Значит, я для этого кровь под Сталинградом проливал, для этого в Сибири раненый полз, выживая, бился, жизни своей не жалел, – он раскрыл еще шире рот и заорал: – чтобы ты нестриженый приходил на занятия!
Все молчат, зная Сарайкозу. И чего он не погиб, думаю я. Зачем ему надо было выползать?
Хотя я коротко подстрижен еще с прошлого раза, нашего предыдущего свидания.
– Вон из класса! И чтобы через тридцать минут доложил о выполнении задания, и никаких этих пейсиков или бачков на лице, лицо солдата должно быть чисто.
– Хрустально, – бормочу я. Сидит с десяток, как минимум, обросшей, чем я, но этому кретину доставляет удовольствие третировать только меня. Сначала он цеплялся еще и за Юстинова, но тот умный: теперь ему жопу лижет.
– Во-первых, не «вон», а научитесь обращаться, как надо.
Группа уже предвкушает, что сейчас будет.
– Во-вторых, вам никто не давал права повышать на меня голос и орать, мы еще пока не в армии, а в стенах педагогического института. А в-третьих, я стригся на прошлом занятии, и я не миллионер, чтобы делать это каждый раз, выполняя ваши прихоти.
Я знаю, на них это действует – с деньгами. А где мне их взять, я и так сюда доехал на сданную кефирную бутылку.
– Да как… – орет он, потом спохватывается и понижает тон до шипящего ужасом шепота: – ты смеешь со мной так разговаривать, тебе кто позволил! Или надоело в институте учиться, да? И никакие папы на помогут.
– Мне никогда никакие папы не помогают, я сам себе голова.
– Пустая голова, – орет все-таки он, – выполнять приказание, без разговоров, и через полчаса доложить.
Я сажусь.
– Что?!
– Пока не обратитесь нормально, ничего не буду выполнять.
– Боец Ланин, встать! – Стекла трясутся в окнах.
– Не орать! – ору я. Все зажимают рты кулаками, кто ладонями.
Он опускает голос в свистящий шепот:
– Немедленно марш в парикмахерскую, привести себя в порядок и доложить о выполнении задания.
Я знаю, что мне придется идти, нам ему еще экзамен сдавать и от этого дегенерата никуда не денешься. Но вывести его из себя за свою голову хочется.
– Денег нет у меня.
Он достает из кармана и отсчитывает монетки.
– Потом вернешь, на следующем занятии. Я злой ужасно.
– Да, как же, разбежался. Вам это надо, вы и платите, я живу на одну стипендию, а каждый платит за свои удовольствия.
– Что?! – орет он.
Но я уже хлопаю дверью с шумом.
Будь ты проклят, говорю я. Как тогда Ермиловой. Вот компания подобралась, не институт, а какая-то шизофреническая военная клоака.
До парикмахерской идти пять минут и пять обратно, всего дают на эту процедуру полчаса, вы представляете себе, что можно сотворить с головой за двадцать минут и тридцать копеек. Потоки ужаса, разноступенчатые, они могут сделать на вашей голове, эти кем-то созданные и никем не проклятые, тридцатикопеечные цирюльники. Я захожу в парикмахерскую, злясь.
Она смотрит на меня.
– Куда тебя стричь, уже дальше некуда. Хоть эта понимает, а тому козлу все мало.
– Стригите куда угодно, – безразлично говорю я, оставляя тридцать копеек сразу на мраморе угла.
Через полчаса я захожу в класс, постучав предварительно.
– Вот теперь на тебя приятно смотреть, опрятный боец, пример другим солдатам и можешь присутствовать на занятиях.
На перемене я смотрю на себя в зеркало: эта дура еще выстригла клок за ухом у меня.
– Да, разъебись ты со своей армией, – в сердцах говорю я.
– Саш, ну как твой лучший друг, best friend, опять к тебе отеческую заботу проявил, – говорит
Юстинов. Все окружают меня. А Билеткин касается выстриженного места.
Мимо идет Паша и говорит:
– И чего ты с ним связываешься, Ланин, и не надоело тебе.
Паша Берёмин – мудак, но умный. Его папа преподает в литературном институте им. Горького, профессор, Писаревым и Пушкиным занимается. Паша переначитан и развит чрезмерно. К тому же он здоровый мудак, выше меня на голову и гораздо шире. Ходит всегда одетый как придурок, в каких-то жутких бутсах-сапогах и в офицерских штанах, в эти бутсы заправленных, подстриженный коротко, но с густым волосом и толстым, но отсеченным. Как гимназисты-разночинцы прошлого века, лицо широко и открыто, и хочется ударить в него, в это лицо. И с собой вместо портфеля носит планшетку, через плечо, странное и нормальное зрелище. Силы в нем, хоть отбавляй, он всем несет, что занимался боксом и дзюдо, а сейчас – каратэ. Любит ногами драться. Идет по улице и может херню вдруг смолоть первому встречному в лицо, не придраться, а именно смолоть ни с того ни с сего. Или со своим другом, Сергеем Павленко, тот косой, на старого мужика прыгнут и отделают его ногами за то, что он им замечание сделал, что урну сбили.
Какую-то дурную плетку сплел с металлическими прутками. И вечно всем говорит, что живет в Химках в таком районе, где без этого нельзя, и о своих боях с местными рассказывает. Иногда в прыжке показывает.
Как говорит Юстинов, большего мудака, чем Паша, я в своей жизни не видел. (Не ему, конечно, говорит.)








