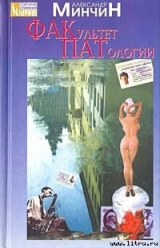
Текст книги "Факультет патологии"
Автор книги: Александр Минчин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Я поведу, – говорит Торнике.
– Успокойся, – говорит Нана, – у тебя двое детей.
– Вот так всегда, Наташья, на этом она меня ловит. А что с ними будет, рожать их снова не надо.
– Я не хочу, чтобы они сиротами остались, – улыбается Нана.
– Я хорошо езжу! – подтягивается гордо он.
– Очень, все время едешь на встречные ряды движения. И не понимаешь, для чего разделительная полоса существует. Считая, что встречные полосы – это и есть разделительная.
– Это бывает, – соглашается он.
У меня уже нет сил смеяться. Я, кажется, пьяный и держусь за бок машины, «мерседес» называется.
– Ты где хочешь сесть, Сашья? Дорогому гостю – почетное место.
Я пропускаю Наташу, мы садимся сзади. И в этот момент в дверях появляется запыхавшийся Зураб, неся в руке большой пакет белой вощеной бумаги.
Он подбегает и подает его Торнике в открытое окно.
– Это для тебя, дорогой, но подержу я у себя, чтоб вам не мешало.
– О, Торнике, зачем?! – все-таки восклицаю я.
– Ты сказал, что «жалеешь, что этого не будет завтра», я не хочу, чтобы ты жалел о своем завтра! Я хочу, чтобы у тебя было счастливое завтра.
Мы смеемся в полный голос.
– Я же шутил.
– Мне понравилась твоя шутка!
Зураб хитро улыбается, я высовываюсь в окно, и мы целуемся снова. Я, кажется, пьян.
Машина плавно трогается, Нана разворачивается. В четыре часа ночи мы едем домой, возвращаясь в Москву. Все еще остаются гулять. До самого утра.
– Зураб, на тебя мое детище оставляю, чтоб все было в порядке.
– Будет, хозяин, – говорит Зураб и скрывается.
Я не помню, как мы доехали домой, я спал на ее плече, сладко.
Проснулся я только утром, ничего не понимая, не помня.
Она не спит и смотрит на меня. У окна стоят какие-то корзины.
– Что это? Как они здесь очутились?
– Торнике занес сначала тебя, а потом их.
– О-ох… – жалкий мужичонка.
Мне стыдно и немножко весело. Я хочу повернуться к ней, но это не такая легкая задача. Голова почти не болит, но в ней еще не ясно.
– Ты не опьянела совсем?
– Я тебе говорила, меня папа приучал, я никогда не пьянею.
– Хороший у тебя папа, у меня не такой!..
– Но мне очень понравилось в том ресторане, большое спасибо, и особенно – ты в нем.
Я опускаю руку под простынь, она голая.
– Кто же раздел меня, не Торнике, я надеюсь?
– Нет. – Она улыбается.
Я с ужасом думаю, все ли у меня чистое, и успокаиваюсь, вроде да. Я хочу ее поцеловать.
И тут я вспоминаю про зубы, надо идти их чистить, это пунктик у меня.
– А как ты выйдешь? – спрашиваю я.
– Я уже выходила. – Она смотрит на меня. – Соседей нет дома, они на работу ушли. – Я наклоняюсь, от нее пахнет моей пастой и ее обалденным запахом, у меня сразу плывет в голове, как от всех тех бутылок вина, вместе взятых. Мягко и прекрасно.
– Сколько же сейчас времени?
– Половина двенадцатого…
Мы любим друг друга целый день. До вечернего вечера. Футуристы – вперед!
Когда мы выходим, на улице уже темно, и фонари вглядываются в ночь. А ночь, как женщина. В ней все равно ничего не увидишь.
Я ловлю ей такси и сую ему какие-то деньги, но она мне не дает заплатить. Мы опять ни о чем не договариваемся. Да, вспоминаю я, у нее же диплом, госэкзамены, когда она будет готовиться? А я? Скоро сессия, и опять навалится: английский, военная кафедра, зарубежная литература. Будь ты все проклято!
– Саша? – Да.
– Тебе не хочется, чтобы я уезжала?
– Хочется…
Она вскидывает удивленно глаза.
– Чтобы ты осталась. И она остается.
Мы тихо пробираемся в мою комнату. Во жизнь, все подпольно! Но все, кажется, уже спят.
– Я хочу, чтобы ты меня раздел.
Я раздеваю ее сам. У нее удивительное тело, и женское, и девичье, и будто его никто никогда не касался. Я касаюсь его… Но в этот раз как-то не так.
Она лежит все равно усталая, немножко, и спрашивает меня. Она задает вопрос, который я не хотел, чтобы она задавала.
– А почему ты… чуть-чуть неестественный, нераскрытый всегда, как будто тебя что-то смущает, сдерживает. Или ты боишься раскрыться до конца.
Я молчу.
– Тебе что-то мешает, смущает, да? Неужели это заметно?
– Во мне, ну скажи, пожалуйста. Я хочу, чтобы это было прекрасно, чтобы тебя ничего не смущало, чтобы мы растворились друг в друге, как никто в мире никогда.
Я раскрываю рот, пересиливаю себя, хотя такие интимные вещи вряд ли женщине говорят, но ей, мне почему-то кажется, можно.
– Ну, я слышал, что они все неописуемые мужчины… И ты его так хвалила, а это, – (я тыкаю рукой в под нами стоящее), – всегда было важно для меня, ну, как искусство, что ли, умение. И мне все время кажется, что для тебя я не…
Она закрывает мой рот всем чем попало и губами.
– Мой хороший… Ты единственный для меня…
(И в этой темноте, мне кажется, сверкают блестки полонеза, – мне хочется верить в это, я молю Бога, чтобы это было так.)
Раньше мне это говорили в шутку, или в полу, неужели это хотя бы полуправда. Хотя полу мне не надо, мне нужна вся.
И мы растворяемся так в друг друге, как, наверно, никто в мире и никогда.
Я прокусываю ей плечо… И мне страшно неловко. Но ей это нравится, она целует мои губы, потом зубы и благодарит, что это сделал Я.
Наш институт всегда грядет на меня, как дурное предзнаменование или как жуткий сон в грозовую ночь среди бела дня. Еще два года мучиться, биться, выживать. Я завидую ей, что она кончает его, и все уже – и этот бред, и эта сивость ненормальной кобылы – позади.
Сегодня Юстинов читает свой доклад по Сартру. Я иду в читалку и беру снова Сартра, не всего прочитанного. У нас издан один томик, и то странно. И если б этот прекрасно-странный человек не был, не стал вдруг за левых (с жиру бесится, наверно; так как мое мнение – к коммунизму можно прийти (стремиться, рваться) от двух вещей: либо от голодовки и недоедания, либо от пережировки и пережирания, третьего нет; как к гомосексуализму: либо у тебя нет женщин (как хлеба) и ты на мужчину согласен, либо у тебя столько женщин, что от них всех мужчину хочется). Я не домысливаю свою глубокую мысль, а то так недолго дойти, что: коммунизм и гомосексуализм – одно и то же, и возвращаюсь, – но его бы этот томик не издали. Мало того, что он экзистенциалист, а Кьеркегор и Ясперс у нас не проповедуются, что вы, упаси бог! Зато Достоевский проповедуется. Так он еще и отцом современного европейского экзистенциализма становится, Сартр.
Беру его томик и сажусь читать. Я не читал еще его главную вещь «Дьявол и Господь Бог». Проглатываю ее в один присест, в три часа, и она потрясает меня, виртуозно написана, я вообще еще таких пьес не читал (все они нудные, кроме булгаковских), – все эти развороты, перевороты, неожиданности, перевернувшиеся, и опять всё вскачь навстречу, переразвернувшись, несется. (Я понимаю, что это не самый оригинальный способ излагать пьесу.)
Это ж нужно такие мозги иметь – все сочинить. Я трогаю голову, у меня явно не такие.
Но не всем дано быть Сартрами.
(И один из многих это я, но я не горд, что я в этом всемстве.)
Звенит звонок, окончилась как раз третья пара. Я сижу усталый и довольный, мне понравилась вещь, сильная до бесподобия. Я иду на спецкурс, но мне уже неинтересно, что скажет о ней Юстинов. К тому же он ничего особенного не говорит, ни свежих мыслей, ни резких идей, так, серенько сделал, по всем правилам, как и получает правильную пятерку, которую ему ставит доцент Храпицкая.
Потом я нахожу упоминание, что Сартром была написана и у нас издана автобиографическая штука «Слова», мне интересны его глубины, корни, откуда он взялся, так как глубина мысли – колоссальная. Я прочитываю и его «Слова», но они мне не нравятся, какая-то нудятина, занудствование сплошное. Почему-то все писатели с тоской пишут свои автобиографии, и тысячи ненужных деталей.
Итак, он автор «одной вещи», как и все, как большинство. Это моя теория. И хоть меня будут убивать, я скажу, как в древности древние: «Я – прав!» (по-латыни обязательно). Каждый более ли менее большой автор написал или создал только одну вещь (ну, максимум две, хотя они не будут равны по достоинству), и о н а у него самая сильная, единственная, максимально исполненная, это творение – во всем. Все остальные произведения, что он написал, – это уже прилагаемое, вокруг, позади, и никогда он лучше той вещи не напишет. Так, например: у Толстого – это «Анна Каренина» (вторая вещь «Война и мир», но это не та сила, не тот класс и вдохновение), все остальное ее уже не стоит и лучше он не создал. У Достоевского – «Идиот», и ничто остальное выше его не будет, всё. (Хотя я и люблю «Игрока», «Неточку Незванову» и поражаюсь «Вечному мужу».) У Лермонтова чудный «Герои нашего времени», лучшее, что создано в нашей литературе. У Тургенева – «Вешние воды», прекрасна «Первая любовь». У Чехова – несколько новелл, но новелла – мелкое литературное произведение, я говорю о больших. Как и у Куприна, у Бунина. У Андреева – «Рассказ о семи повешенных». У Замятина – «Ловец человеков», или «Рассказ о самом главном», тайком читал; правда, только рассказы. У Грина – «Бегущая по волнам». У Шишкова хороша «Угрюм-река». У Булгакова – «Мастер и Маргарита». У Паустовского – «Время больших ожиданий». У Бабеля – «Одесские рассказы» и конкретно «Как это делалось в Одессе», хотя, может, и «Конармия», трудно сказать. У Платонова – «Чевенгур» (запрещенный у нас, фантастическая вещь, пародия на город коммунизма). У Максимова – «Карантин» (изданный на Западе), хороши две повести о зэках, непонятно, каким чудом изданные у нас.
Я наугад выбрал, без последовательности. И ничего лучше у них уже не будет, они не создали, но одной вещи (двух) достаточно! С головой, другие и того не создали. А эти авторы – они пытаются, они пытались. И много хорошего, и есть прекрасное. Но вещь – одна (или две)!
Это все субъективно, и, может, я не прав, но я знаю, что прав я. И никто мне не докажет обратного. Вот разве что Светка, которая подходит ко мне и улыбается.
– Санька, а почему вот ты не пригласишь меня никогда, никуда. Ну, просто так, не обязательно же с этим…
– С чем, Светочка? – Она прекрасна!
– Ну, ты понимаешь, о чем я.
– Не-а. – Я делаю простодушный вид.
– Ну, Санька!..
– Этого я и боюсь, Свет, что потом все равно не выдержу, не устою я, точно знаю.
– Я тебе помогу, честное слово. – Ее прекрасные глаза улыбаются.
– Что, устоять?
– Нет, Санечка, упасть, конечно.
Мы смеемся. Но уж в ее шутках, как ни в чьих, большая доля правды…
– Свет, я тебе честно скажу, я бы тебя давно разорвал, если б не моя теория, тем более не в одной группе мы бы учились.
И тут я вспоминаю, что свою теорию уже нарушил раз. И какой. (А сейчас нарушаю второй, но Наташа уже не учится в институте и – не с моего курса.)
Светка наклоняется ко мне:
– Санечка, а ты закрой глаза и представь, что я не из твоей группы, ты со мной на улице познакомился.
– И тогда, – замираю я.
– И тогда, ох, Санька, не спрашивай, что будет тогда. Будет не земное. Какого не было даже у меня, никогда.
Мы смеемся, заходя в аудиторию. Лекции. Лекция этого Чувячкина (вот фамилия!) по дурацкому истмату. И кому это надо, или нужно, как вам больше нравится. А как правильно, надо или нужно? А?
Она опять сидит и смотрит на меня, и полуслезы стоят в ее глазах. Или мне это кажется? Да и какая разница. Неужели она все знает? А какое мне дело, я в этом не виноват, сама все делала. Тогда. Проклятой осенью.
Я не успеваю откусить купленную булку с колбасой, как у соседей раздается истошный крик. Этот дебил, низкорослый боксер, опять бьет мальчика. Мальчик такой слабенький, тоненький, он плохо учится. А тот его ненавидел и всегда бил. Сам этот боксер – дубовый, с чистой рожей, вечно ходил ко мне вести умные разговоры. Но с такими я сам тупею сразу, моментально отупевшим становлюсь. И вроде нормальным казался, а как мальчик из школы приходил (они его в группу продленного дня засунули), то прямо зверел. Они его все заставляли делать – ив магазин ходить, и полы мыть, и картошку чистить, и мусор выносить. И с сестренкой по матери сидеть. Мальчика было жалко, такого куцего… (Я был таким когда-то.)
А боксер только командовал и бил его дико то за плохие отметки в школе, то что он во дворе задержался, полчаса перегулял, по-моему, он просто повод искал, причину.
А эта женщина – странная мать была, постороннему мужику свое дитя бить разрешала. Только сидит, развесив свои молочные сиськи, и кормит ими своего нового ребенка. Грудного, это уже от него.
Мальчик был тихий, совсем забитый, и на носу у него было две конопушки, как у меня когда-то. Я покупал ему иногда шоколад, он заходил, когда их не было, и съедал его у меня, так как боялся, что тот (он его звал еще «папа», она заставляла) будет опять бить, что он взял у чужого. Свои, что ли, не дают.
И так он вздрагивал от каждого шума, шороха на лестнице, когда ел; так всего боялся, что у меня внутри все обрывалось, когда я глядел на мальчика, на его избитые, запуганные плечики. (А я еще своим был детством недоволен; и предъявлял отцу претензии.) И некому за него заступиться. Я никогда не вмешивался, так как это была чужая семья, когда тот все это с мальчиком делал, и только молил, чтобы эта стройная, несмотря на роды, толсто-грудая баба с голыми ногами скорей заголосила (иногда она это делала), и тогда тот остановится и не будет его бить, на него это действовало, иногда. Раздался истошный крик снова, и кто-то выбежал в коридор, потом звуки щелкающего ремня, он бил его, как никогда. А эта молчала. Я слышу, как мальчик уже в моем конце коридора, добежал, и вдруг – что-то бьется в мою дверь, – это его головка, и я понимаю, что этот дегенерат бросил ремень и бьет его руками, своими лопатами, ручищами, – этого хрупкого мальчика. Я не выдерживаю, вскакиваю и раскрываю дверь. Мальчик буквально падает на меня, и из губы его льется кровь. Я еле успеваю поймать его (благодаря волейболу, думаю я, – это последнее…) и прошу того остановиться, если он не с ума сошел.
– А, педагог! – тянет он. – А ну, уйди с моей дороги и не вмешивайся в семейные дела.
– Ты не его отец. Ты издеваешься над ним и избиваешь, как взрослого. – Я смотрю на ширину его плеч, и мне становится не совсем приятно. К тому же он вспотел, и от него пахнет потом. Я чувствительный на запахи.
– Не твое дело! Мы без ваших университетов могём воспитывать. Отвали, пока не поздно. – Желваки играют по бокам щек от его сплюснутого носа. – Я доберусь до костей этого молокососа, маленький подонок.
Я передвигаю мальчика за себя.
– Ты не посмеешь поднять на него руку, – говорю, – иначе я заявлю в суд, что ты истязаешь малолетнего ребенка, и покажу его тело.
Драться я с ним не собираюсь, да это было бы и смешно, там рычаги ручные, как лопаты – сметут и нет меня, к тому же он мастер спорта.
И вдруг меня как слепит в глаза:
– Ах ты, жидовня паршивая, все она знает, он в суд пойдет, да я тебя…
Я резко, сильно и быстро размахиваюсь и бью в самый центр, стараясь сделать мессиво из его лица. Он едва успевает отскочить, но не до конца, я попадаю, но несильно. Я подскакиваю и делаю еще два удара, но это уже воздух, это уже поздно, я забылся. И вдруг что-то нечеловеческое несется мне в глаза, бьет, как кувалда, и рушит на пол…
Не помню я ничего очень долго. Наверное, дольше, чем это долго, я перехожу уже в т о долго… но возвращаюсь.
Очнувшись, я вижу эту женщину, хлопочущую возле. Смутно, но вижу. И то победа, думал, не видеть никогда. Как раскаленным жаром полоснуло. И застелило, и залило.
– Где мальчик? – первое, что спрашиваю я. Она поднимает глаза, показывая. Мальчик сидит и плачет, растирая слезы. Мой мальчик.
Я поднимаю голову, и кровь хлыном льет из меня, градом катится, я не понимаю откуда, голова моя падает и больно стукается зачем-то.
– Господи, – шепчет она, и я слышу, – слава богу, что живой, я думала, всё…
Я снова поднимаю голову и понимаю, что это льется из носа. Где он? Я зажимаю нос левой рукой, правая мне будет нужна. Встаю, опираясь рукой по стене, – все качается и гудит в голове, – я чуть не падаю, но она подхватывает, поддерживает меня и прислоняет к шкафу. Как солоно во рту и больно, что он мне там перебил, этот кретин. Только бы не нос в рот вогнался. Хотя от такого удара, я не удивлюсь. Еще несколько минут, и я прихожу в себя, устанавливаясь на ногах. Ковыляя, я иду к корзине – где все мои силы – и беру бутылку шампанского. Я понимаю, что это, может, и глупо, но что я могу сделать: я никогда не проигрывал.
– Где он?
Она испуганно смотрит на меня.
– Он убежал во двор, испугался, подумал, что убил тебя… Ты не дышал.
Я переставляю ноги по направлению к двери, сжимая бутылку в руке.
Я убью его, я не дам ему жить, это я знаю точно. Она обгоняет меня, заслоняя дверь собою.
– Пожалуйста, я тебя умоляю, не ходи, ты весь в крови, он убежал, ты не найдешь его.
– Найду, – через кровь во рту говорю я. Качаюсь и вдруг падаю на колени.
– Господи, – шепчет она, – зачем тебе это надо было.
Зачем? Это второе дело. Первое – я найду его и размозжу ему череп, квадратный и мерзкий, как все боксерство. Я поднимаюсь с колен, удерживаясь, стою минуту, потом тяну руку к двери (она о чем-то молит меня) и падаю плашмя, и что-то с новой силой льется из носа. Кто-то переворачивает меня лицом вверх. Я подтягиваю колени, переворачиваюсь на них и ползу. Куда я ползу? Она оторопело ступает сбоку от меня.
– Что же делать, может, «скорую помощь» вызвать? Но ты не скажешь про него?
Я доползаю до телефона.
– Скажи мне номер, я наберу. Ты не сможешь сам.
Перестал ли мальчик плакать? Я что-то бормочу, она набирает, подставляя трубку к моему уху.
Мне кажется, что я еще и оглох, ужас охватывает меня. Но вдруг я слышу голос и успокаиваюсь, чуть не радуюсь.
– Алло, – говорят голосом.
– Тетя Лиля? – спрашиваю я. Это ее мама.
– Она на дежурстве. Кто это?
– Саша.
– Я тебе дам ее номер, позвони. Что с твоим голосом?
– Ничего, так, она в Склифосовского?
– Да, позвони ей туда.
Я вешаю трубку. Трубка падает, и рожавшая женщина вешает ее.
– Еще один номер, – говорю я, стоя на коленях, и не могу двинуться ни вперед, ни назад; только бы не упасть, больше я не поднимусь, у меня сил не хватит подняться. Она набирает номер.
Я сплевываю сгусток крови прямо на пол, я не могу держать его больше во рту. А где бутылка, вдруг некстати интересует меня, так всегда. Мальчик взял ее, когда я упал, и отнес обратно. Мальчику, кажется, меня жалко. И то хорошо.
– Доктора Лилю, пожалуйста.
– Что? Говорите яснее, не понятно. – А как тут говорить я с ней? Я повторяю.
– Тетя Лиля, это Саша.
– Что с тобой, Сашуля?
– У меня что-то с носом, не то со ртом, я не знаю.
– Что случилось?! Ты подрался.
– Нет, да это и не важно, я приеду сейчас, вы мне что-нибудь сделаете?
– Конечно, конечно, немедленно приезжай. Подожди, ты можешь сам добраться, а то я пришлю за тобой машину?
О Господи, вой, сирена, «скорая».
– Не надо, все нормально. Только прошу вас, маме не говорите ни слова и не звоните.
– Да что случилось, Сашенька, ты волнуешь меня?!
Я роняю трубку, та вешает ее на рычаг. Как телефонистка, но только вежливая.
Я поднимаюсь все-таки и по стенке дохожу до ванны, санузла, так как ванной это назвать нельзя. Останавливаюсь у зеркала и наконец вижу свое отражение. Я смотрю на свое лицо и осознаю, что мой нос сдвинут вправо, примерно на полтора пальца от переносицы. Вот и все, думаю я, как это просто. Господи! и это на всю жизнь! Да кто ж пойдет со мной теперь куда! какая?!
Я омываю рукой всю кровь, и кажется, что она никогда не кончится; споласкиваю кровь, а тонкая струйка все равно льется из разреза у переносицы. Это от очков, он разбил, я их иногда ношу, когда работаю или кино смотрю. И изнутри тоже льется, – я затыкаю ватой, которая есть у меня.
Ногами потом выхожу из ванной.
– Куда ж ты такой пойдешь, – голосит она, – у тебя вся рубашка в сгустках.
Рубашку я не видел.
– Не говори про него, умоляю тебя, его же посадят. Ему три года назад запретили драться, с последним предупреждением…
Мой нос, думаю я, Господи, прощай вся жизнь, и ни одна женщина не коснется меня. Больше мне уже ничего не интересно.
Я меняю рубашку и выхожу на улицу, в голове чуть-чуть получше и что-то прояснется. Я прикрываю нос рукой, чтобы не шарахались, и ловлю такси. Останавливается черная.
– Склифосовского.
– Три рубля. Я сажусь.
– Корпус хирургический № 2.
И по-моему, опять забываюсь, только зажимаю нос, чтобы не испачкать ему сиденья. Шофер – шутник попался:
– Слушай, парень, а тебе не травматологический, случайно, нужен, а? – Он смотрит в заднее зеркальце, моя рука упала. – Кто это тебя так уделал, на два перелома потянет, как минимум. Как девки-то любить будут?! А?
– Ой, не говори, – говорю я.
В голове у меня опять кружится, и начинается тошнота.
Он заводит меня в самый вестибюль и называет дежурной, кого мне надо. Я даю ему пятерку и шепчу спасибо.
Тетя Лиля вылетает моментально.
– Господи, – она вскидывает руку, – кто же это тебя? Ужас. Рентген немедленно, как же ты доехал?
– Сидя, – говорю я.
Через минуту меня несут на каких-то носилках и катят на колесах.
Она касается моего плеча, у нее дрожит рука.
– Бог ты мой, я даже не знаю, с чего начать, все разбито. Сашенька, мать же не переживет этого.
– Спокойней, теть Лиль, начинать надо сначала, у Торнике было хуже. – Я пытаюсь улыбнуться и теряю сознание.
Прихожу в себя уже после рентгена и слышу, как тетя Лиля говорит:
– Да, у него – закрытый перелом носа, бесспорно, и, слава богу, что в одном месте. Вы постараетесь? – спрашивает она кого-то.
А я и не знал, что шоферы у нас хорошие диагносты тоже. И с ходу, с первого взгляда, без всяких рентгенов.
Я открываю глаза, или они раскрываются.
– Сашенька, это Злата Александровна Артамонова, она будет оперировать тебя, я ее вызвала, она профессор и лучший отоларинголог-операционист нашей больницы.
– Оперировать? – вздрагиваю я. Звучит кошмарно.
– Да, – подтверждает тихо она.
– А вы?
– Я ведь только хирург.
– А мой нос? Здравствуйте, – говорю я, —
Злата Александровна.
– Постарается, чтобы он был в порядке.
– Но я не хочу операцию, я боюсь их и не делал никогда.
– Не пугайтесь, это не операция даже, а так, Лиля слишком уж серьезные слова употребляет. Однако время не ждет, поехали.
– Там еще у него губа от зубов рассечена, изнутри, надо шов накладывать, – говорит ей быстро тебя Лиля.
– Но это уже по вашей части, Лиля, но сначала я, это не терпит, может быть поздно. Договорились, я верну его сразу.
– Куда его? – спрашивает белый персонал.
– В мой корпус, быстро.
В этот раз я не теряю сознание, но оно уходит от меня далеко.
Она сажает меня в кресло, только с железными ручками, и надевает зеркальце на лоб, совсем как у мамы. Оно закрывает лицо. Мне даже кажется, что это мама, то ли мне все уже кажется.
– Саша, ты взрослый мальчик, поэтому я буду с тобой откровенна. Тем более твои родители – врачи, и ты должен все понимать. У тебя закрытый перелом носа, вернее, переносицы со смещением носовых хрящей и косточки носа. У меня даже нет времени давать наркоз тебе, я боюсь прозевать, надо вправлять по-горячему. Я не везу тебя в операционную класть на стол, а буду делать это сейчас, здесь, сидя, без наркоза. И как я вправлю, так и будет, и или он срастется прямо и будет красивый, или он срастется криво…
– Но он будет прямой?..
– Я скажу тебе честно, не обещая: я не уверена, я боюсь, что уже не поздно ли. От тебя требуется одно: терпеть, максимально. Ты сможешь? Я понимаю, что это адски больно, без наркоза, но… если хочешь быть красивым… – она мягко улыбается.
– Хорошо, я согласен, – говорю я, как будто у меня есть выбор.
Все то, что было потом, – я согласен, чтобы он мне бил в нос каждый день, лишь бы не повторялось это.
Белая медсестра сразу же становится за мной и берется за виски, а врач упирается в мои скулы. Это сразу напоминает мне стоматологическое кресло, крючки и пломбу, которую мне сверлили по периодонтиту без наркоза, тихий ужас… то был тихий ужас, это будет громкий. К тому же я ненавижу, когда меня держат.
– Только не держите меня, пожалуйста. – Я вырываюсь.
– Отпустите его, – говорит доктор, и сестра убирает руки.
– Но только не мешай мне, а то скажу привязать тебя, – говорит она. А это еще ужасней.
Она упирает руки в скулы, чтобы зафиксироваться, и приближает два больших пальца к моим глазам, чуть пониже. Она касается моего носа, что-то там устраивает из своих рук, без единого инструмента, и вдруг делает резкое сильное давящее движение.
Я взвываю от боли, и сестра виснет на меня, взлетающего, грудною тяжестью. Мне кажется, что темнота в моих глаза чернеет и останется там навечно.
Все рассеивается, она опять упирает руки в мое лицо, фиксируя их и готовясь.
– Неплохо, неплохо, – говорит она, – ты сильный мальчик, я думала, вообще порасшвыряешь нас по сторонам, так как у тебя вот…
Я думаю: неужели эта дичайшая боль повторится? И вдруг – хряск! Они вдвоем повисают на мне, так как меня выбрасывает из кресла от боли. Меня усаживают в кресло снова. О Господи, спаси меня.
– Ну что, привязывать тебя?!
– Нет, это невозможно. Злата Александровна, вы прекрасная женщина, но это вытерпеть невозможно. Я через многие боли и раны прошел, и всякое было, но я не смогу это, давайте наркоз, не нужен мне никакой прямой нос, я дурею от боли. Мне кажется, нервы и мозги, перемешавшись, через глаза выскакивают из меня.
– Я понимаю, Сашенька, все понимаю, ты молодец, потерпи еще чуть-чуть, он двигается. Еще два-три раза, и я вправлю его, и у тебя…
– Что?! Еще несколько раз? Да я не вынесу и одного прикосновения больше.
– Хорошо, я постараюсь в два раза, но не торгуйся только, нет времени у меня. А где я тебе нос возьму целый потом, у себя?!
Но мне нужно поторговаться, иначе не соглашусь на это добровольно, я не решусь.
Она берется за мое лицо, и мне себя уже дико жалко и больно, и страшно мне к тому же. Будь оно все проклято! Медсестра, как будто в любовном акте, хватается за мою голову и наваливается на плечи.
– Руки, – говорю я, едва не вскакивая.
– Отпустите, – произносит Злата Александровна. И ведет пальцы к моим глазам, ниже глаз, там, где нос находится у меня. Я веду их инстинктивно в сторону.
– Не бойся, малыш, я ничего не делаю, только пощупаю его месторасположение…
Я ей даю себя уговорить. Я понимаю все, что сейчас будет, хотя бы по ее напрягшимся губам. Я даю ей себя уговорить…
И вдруг она давит, давит, и что-то хрустит, хрустит, и дикая, как одичавшая боль вышвыривает меня из сознания.
Я прихожу в себя от мерзкого запаха нашатыря.
– Уберите, – говорю я и отодвигаю руку медсестры. – И что за манера совать все в нос, в лицо? И что вам всем от моего носа надо?
– Умничка, вот и пришел в себя, – улыбается Злата Александровна. – Давай, ругай ее, ругай меня, кляни нас, только потерпи, еще немного осталось.
Я уже не сопротивляюсь, у меня нет сил, голова ничего уже не соображает. Она все равно не слезет с меня. Пока не доделает, я знаю.
– Ну, проверим, как там всё. – Она опять тянет эти хищные, цепкие, сильные руки и останавливается на лице у меня.
Господи, думаю я, дай мне силы не умереть до конца, пережить эту боль, и я поверю, что ты есть в мире, или на небе, или еще где-то, где угодно, только избавь меня от этих мук. И от этого – я поверю в тебя!
Она опять примеривается, и тысячи игл вонзаются мне в нос, раздается треск и хруст, которого я не слышал никогда, и он отдается у меня во всем теле каждого нервного окончания. Я чудом не теряю сознания, походив где-то на грани его, и только голова моя от этого иголочного шока отбрасывается назад, ее ловит медсестра.
– Вот и все, вправила, – говорит радостно Злата Александровна, – пустяки какие-то, любой вытерпеть мог, велика беда. Принесите ему компота, Зоенька, подкрепиться. – Медсестра уходит. – Так, верни свою голову обратно, я только гляну, как получилось и хорошо ли стало.
Но меня на эти дела не купишь, я из врачебной семьи тоже.
Я поднимаю руку.
– Не-а. Все. Даже если он трижды кривой будет, к нему больше никто не прикоснется. Во всем мире! Мне это даром не надо, я думал, рехнусь от боли, точно.
– Саша, все уже, я тебе клянусь.
– Не надо. Злата Александровна, больше ничего не надо, ни вправлять, ни выбивать, ни ломать. Больше никого к себе не подпущу, даже если вся больница соберется.
Она видит, что это так.
Медсестра Зоя приносит компот. В стакане. Злата Александровна берет его.
– На, попей.
– Ничего не хочу, пустите меня.
– Ну, хорошо, возьми компот и прислони его ко рту, а я только потрогаю, а ты со стаканом, ты же понимаешь, что я ничего не буду делать. Я же не ненормальная, чтобы тебя и себя компотом обрызгивать.
– Неужели вы думаете, что я на это поймаюсь, Злата Александровна?
– Но я только посмотрю, как стало.
– Как встало, так пускай и стоит, – говорю я. Она смеется.
– Ну, быстренько, Саш, ты же умный мальчик, я о твоем носе пекусь, а не о своем.
Я соглашаюсь, но не с компотом, конечно, а что я беру ее за руки и держу их, пока она ощупает. Это я так обычно с мамиными стоматологами делал, держал их за кисть, пока они лечили меня. Иначе не соглашался.
Я беру ее за руки. Она опять подносит их. В этот раз, и правда, не делает ничего. Она давит, ощупывает, мнет легко и удовлетворенно кивает.
– Вставай, трус несчастный, не мог потерпеть до конца.
– Все?! – не верю я.
– А ты что думал, я с тобой до утра возиться буду и твоим носом, у меня своих дел полно.
– Ой, Злата Александровна, – я чуть не прыгаю на месте, – я вам так благодарен, спасибо огромное.
– То-то же. Пожалуйста.
– Феноменально, Злата Александровна, – говорит медсестра, – так сделано.
– Ему же не нравится, ох уж эти мне докторские дети, все им не так.
Я целую ее щеку и благодарю миллион раз.
– Подожди, не радуйся. Зоя, в рентген его сейчас же, посмотрим, как на снимке – вправился.
Я поворачиваюсь:
– Зоечка, спасибо большое, не обижайтесь, боль дикая. – Я целую ее руку, но вдруг капает красная капелька, она затыкает ватой мне ноздрю сразу.
– Да что вы, я понимаю, это естественно. – Она с удивлением смотрит на меня. Может, ей никто рук не целовал…
Они выводят меня. Тетя Лиля ожидает, куря и ходя взад-вперед.
– Ну, как. – Она бросается к нам. Зоя ведет меня мимо.
– Я сейчас догоню, Зоечка.
И вдруг я слышу за спиной тихо:
– Лиля, я тебе скажу, не каждый бы мужик такое выдержал.
Это мне приятно. А то было стыдно, что я себя вел… как женщина.
Рентген говорит, что все в порядке, встало на место и косточка будет срастаться. Мне даже стало легче дышать. А как до этого дышалось? Я не могу вспомнить. Моего доктора уже нет, она ушла со снимками.
– Теперь ко мне, Саша, губа, – говорит тетя Лиля.
Да будь все проклято, что они решили, нового из меня сделать, что ли! Я покорно иду за ней.








