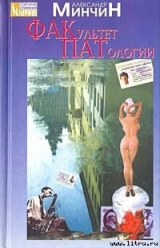
Текст книги "Факультет патологии"
Автор книги: Александр Минчин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Темы были литературные, все на уровне десятого класса спецшколы. Я смотрел на книжку, вертя ее в руках, как садовник на барана (не зная, зачем он нужен; выращивать его не надо: бараны сами растут). А тут Ирка еще добила меня тем, что, проучив этот язык в школе восемь лет, сама половину не понимает. Но решение в ее голове созрело моментально, она по этой части виртуозна была:
– Надо Сашку попросить, она лучше всех знает, и ты ей нравишься.
Сашенька Когман была симпатичная маленькая евреечка, миниатюрная, но с большой грудью (что всегда вызывало у меня неподдельный восторг и глубокое восхищение) и стройными ногами, обутыми во что-то заграничное, всегда. Мама ее красиво одевала, так как Сашенька была на выданье. И вся она была такая уютная, умещающаяся. Крики. Восторг просто! Единственное, что у нее было в отрицательном смысле слова – это орущий голос. Сама она была маленькая, но говорила громко и неспокойно. Она забивала этим всех и поражала. И откуда в ней столько голоса бралось, непонятно. Наверное, из груди большой. (О грудях – потом я вам могу вообще прочесть целый реферат, если хотите. Как, например: зимой он любил большие груди, а летом маленькие и так далее.) Да, так о Сашеньке. Я отвлекся, вечно я отвлекаюсь, отвлекаемый какой-то. Интересно – это хорошо или плохо? Плохо ли это или хорошо? А? Да, о Сашеньке. Я ее всегда подкалывал и звал на три еврейские фамилии: Когман, Берганович, Трахтенберг – три разных окончания, если вы обратите внимание. Вы обратили? Но она не обижалась. Она была, по-моему, единственная, кто не скрывал своей еврейской национальности на факультете, и даже гордилась этим. За это я ее уважал. Все скрывали. Все остальные как бы стеснялись, недоговаривали это, стараясь обойти, или даже не приближаться к этому… Такие были, стояли нынче времена. Вроде как ты еврей – маркированный какой, вроде как не прилично. Да еще орать об этом во всеуслышанье. А Сашенька не боялась и никого не стеснялась.
Сашенька и Ирка договорились, что они будут садиться с двух сторон возле меня и помогать тут же переводить, но чтобы я ходил на все занятия до конца семестра. А вот, как с чтением, никто не представлял, тут ни в зуб ногой было у меня. А то еще и глубже зуба: в рот ногой… То есть, пардон, это не сюда. А вы другое подумали? Представила Ирка, она вообще по этой части, я бы мягко сказал, негативной представительной была.
– Ты же знаешь, – сказала она Сашеньке, – что Магдалина часто по желанию спрашивает, кто руку поднимает. Мы ему будем писать по-русски один абзац и вкладывать бумажку в книгу, она сидит далеко, и ей не видно. А он будет русскую транскрипцию читать английского текста.
– Ирка, ты гениальна!
На следующий день в буфете, за десять минут до занятия они мне написали один кусок, который я «по желанию» должен был читать; вся группа была предупреждена о куске и что я английским никогда не занимался. Они все обалдели от предстоящей авантюры. Кроме меня, так как я дурел, и мне становилось дурно от этого.
Начались занятия. Читала Ирка, переводила, потом еще кто-то, приближалась моя очередь, мой черед. У меня пересохло во рту, язык не ворочался. Настал мой кусок, они затолкали меня в оба бока: моя рука, как у покойника (и то тот, наверное, резвей поднимал), поднялась и встала.
– Ну что ж, прекрасно, – сказала Магдалина Андреевна, – я давно хотела послушать вас, ждала, пока сами изъявите желание.
Что тут со мной творится начало. Группа вся замерла в ожидании. Я читал все подряд, боясь даже к себе прислушаться, тарабанил без остановки, паузы или вздоха. Когда кончился мой кусок, я остановился. Я чувствовал: пот тек по моей спине в три ручья.
– А дальше не хотите? – спросила она.
– А что дальше, – прикинулся я, – переводить?
Я ее выводил на то, что мне было надо.
– Ну ладно, не так уж плохо, как я ожидала, только с паузами надо читать и остановками, соблюдая знаки препинания. Для этого и существует интонация. А так неплохо, не ожидала. Ирка с Сашенькой глубоко перевздохнули.
– Тогда уже и переводите нам этот отрывок, раз вы изъявили такое желание.
Я решил пококетничать.
– Я, собственно, не изъявлял. Они запинали меня локтями в бока.
– Переводи, Саш, не выпендривайся, а то еще другое спросит, – прошипела Ирка, мой давний друг и боевой товарищ.
Перевод был написан на другой стороне листа, сделанный милой рукой Сашеньки.
Перевод я читал с паузами, с остановкой и препинаниями, раздельно, так как это был русский и его понимал я.
После занятий все бросились поздравлять «англичанина», а Ирка с Сашей повисли на мне, я на них, и все кричали «ура».
Однако так продолжалось недолго. Через несколько занятий, когда я окончил читать «свой» кусок, Магдалина попросила меня продолжить дальше чтение текста. Это было кладбищенское мгновение оживающего покойника. Но Сашенька своим громким голосом спасла меня:
– Магдалина Андреевна, – проговорила она шумно, – ну сколько я могу тянуть руку, не может же все один читать. Вообще не буду ходить на занятия.
Магдалина Сашеньку очень любила, она была лучшая ученица, и слушала ее беспрекословно, и ей было мучительно больно, когда маленькая Саша возмущалась или была недовольна ею, большой Магдалиной. Она сразу соглашалась. Все знали также маленькой Саши большой голос и его феноменальные действительные способности. Она победила в этот раз тоже и спасла меня. Я на руках вынес ее после занятий потом и донес до буфета.
И тут я увидел Шурика с какой-то неплохой девчонкой, я его сто лет не видел, он, наверное, месяца два не появлялся.
Он закивал мне и заулыбался. (Еще бы игрок тренера так не приветствовал.)
– Шурик, все с девушками гуляешь, – шучу я. – А где твоя жена?
Он улыбнулся:
– Саш, познакомься – моя жена.
– Таня, – говорит она.
Мне в один из немногих раз (жизни) стыдно и смущенно. Я ее никогда не видел, знал только, что курсом старше учится.
– А это Саша, – говорит Шурик, – мы вместе учимся и он же – мой волейбольный тренер, тренирует меня. – Шурик тихо улыбается.
Мне тоже смешно.
– А я его помню, – отвечает она, – когда он у нас еще учился.
– Очень приятно, – говорю я. Хотя это относительно сказано – «учился».
– Да, вы редко появлялись. – Странно смотрит на меня она.
Приятная девушка. Я откланиваюсь и иду в читалку читать свои журналы. За осень появилось много нового, и я сразу втыкаюсь в «Иностранную литературу» и зачитываюсь одной штукой черного, но образованного в английских колледжах; черных я еще никогда в литературе не читал, впервые: Рональд Шервуд «Одинаковые тени» называется. Мне обалденно нравится эта вещь, и я прочитываю единым залпом до конца. Даже не ожидал, что так сильно. Вот что бывает, когда черных образовывают! – только нас все образовать не могут.
Я выхожу из читалки. И как раз прямо на меня идет Шурик-игрок.
– Саш, а я за тобой, пойдем выпьем, душа просит.
– Идем, – соглашаюсь я, – только пива, водку днем – бр-р! – не перевариваю.
Мы идем с ним к ларьку и покупаем пива.
– Ну, что сказала твоя жена обо мне?! Обиделась на мою шутку, наверно?
– Что ты красивый и ей давно нравился.
Я глубоко задумываюсь. (Откровенная девочка.) А Шурик пьет пиво.
Сашенька и я – в буфете после очередного английского занятия. Я смотрю на Марью Ивановну.
Марья Ивановна воровала и обсчитывала по-страшному, не стесняясь. Всех, за редким исключением: ко мне она относилась хорошо, а Сашеньку Когман просто любила. Она считала, что все евреи умные, и потому их уважала. Наверно, единственная в этой стране.
Она могла торговать подплесневевшей по бокам колбасой, лежащей в ее холодильнике с Рождества Христова, делать бутерброды с сыром, по черствости граничащим с гранитом Кремля. В кофе с молоком и какао она больше подпускала воды, чем сахара, какао, молока и прочего. И остановить ее было невозможно, не было такой силы, которая могла бы ее остановить, ну не было! Это было ее искусство – ее профессия. А как можно остановить искусство: искусство остановить нельзя. Обсчитывала она на копейки, одна-две, ну, на крайний случай – три, а из этого складывались, видимо, многие тысячи, работала она там лет двадцать пять. И все обсчитывала. Она, видимо, по простоте своей считала, что так и должно быть, вроде как каждый ей добавку заплатить должен (коли государство не щедрится), на что ж еще бедной буфетчице жить, как не на покупателях. Меня, почти любя, она старалась не обсчитывать. Но иногда, забывши, машинально обсчитывала. Потом глядела и соображала:
– Ой, Саш, это ты, а я и не заметила, возьми свои три копейки обратно, мне твоего не надо. Как мама?
Она всегда спрашивала про нее, знала, что мама у меня очень красивая, она видела ее один раз, когда мама пришла в институт, вымаливать мне академический. А так как мама часто болела, то жалела ее. И всегда говорила, если что ей надо: колбаски, маслица или сметанки, чтоб она не ходила в магазин, всегда, пожалуйста, покупай у меня, по цене, по которой я покупаю.
Мы подошли, и она засияла.
– Какие вы оба хорошенькие, чем не пара.
– Марья Ивановна, не пугайте, – сказал я, – мне еще до смерти не жениться: свобода – это прекрасная штука.
– Что, разве ты б не хотел такую, как Сашенька?
– Только и мечтал бы, да она не хочет меня.
– Неужели это правда, Сашенька?
– Он шутит, Марья Ивановна, он всегда так.
Меня поражало это теплое чувство между сметающей все на своем пути продуктовой громилой Марьей Ивановной, которую побаивались даже преподаватели, и миниатюрной Сашей, которую она любила, и очень всегда хотела, чтобы у нее дочь такая была.
– Ну, что вы будете, мои хорошие?
– А что вкусное, Марья Ивановна? Сашеньке она, конечно, даст самое лучшее.
Я плачу за все и говорю, чтобы Сашенька спрятала свои деньги. Марья Ивановна сияет, глядя умиленно на нас, и уже обсчитывает следующего покупателя.
С английским так долго продолжаться не могло, и я вляпался на следующем занятии, за одну неделю до конца семестра.
Она не обратила внимания на мою поднятую руку и попросила читать совсем другой кусок. Это был ужас, мои девоньки подсказывали мне как могли произношение, но она все поняла. После занятий она попросила остаться.
– Саша, вы когда-нибудь занимались английским языком вообще?
– Нет, – честно ответил я; я не любил выкручиваться и изворачиваться, когда игра была проиграна.
На ее лицо трудно было смотреть. На ее лице застыло неописуемое.
– Зачем же вы тогда это сделали?
Я рассказал ей про немецкую войну, мои чувства, про преподавателя и муки народа. И не заживающую боль.
Она подумала.
– Я не буду заявлять в деканат, что вы сделали. Я не люблю этого. Отдавать вас назад на немецкий поздно, так как я вам уже зачет по-английскому поставила. Но пока вы мне не сдадите двадцать тем за прошлый зачет и пятнадцать тем за этот, плюс все тексты семестра, чтение без запинки и перевод в совершенстве, я вам следующего зачета не поставлю. Я не знаю, что вы будете делать и как вы будете учить. Вы же абсолютна не знаете языка.
Ей стало жалко меня, я это видел во взгляде, но потом она себя одернула и сказала:
– Но это меня не касается, вы сами этого хотели.
– Спасибо, Магдалина Андреевна. – Я встал и вышел, я ей правда был благодарен, что не побежала орать в деканат: возмутительно!
До зачета оставалось одна неделя: тридцать пять тем и примерно пятнадцать текстов, перевод и чтение. При полнейшем незнании языка. Это было невозможно.
Ирка смотрела на меня обреченно, когда услышала, а у Сашеньки даже слеза в глазу появилась и застыла. И я им был благодарен даже за эту поддержку: это так важно – поддержка. А я уже и забыл, какая она бывает: привык все везде и всегда сам пробиваться.
Вечером я позвонил Наталье. Наталья – это была единственная любовь в моей жизни. Тогда, на втором курсе первого раза. Из-за нее я бросал институт, уезжал на Север, ложился в психбольницу, рвался в дурацкие края, чтобы не видеть и прервать непрерываемое – она была замужем; или заработать кучу денег (младенец был еще) и забрать ее навсегда. Теперь мы были с ней большие друзья, просто невозможные, и встречались очень часто, чаще, чем положено. (Хотя кем, кому, что положено???) Просто друзьям. Но никогда не прикасались друг к другу, даже если она хотела, вдруг, вспышкой, внезапно. Так было лучше. Для нее. А мне было хорошо, как ей было лучше. Первое же наше прикосновение во втором кругу разрушило бы хрусталь нашей дружбы. Нашу хрустальную дружбу, которой я очень дорожил и, кажется, навсегда.
– Наталья, я попался, – только и сказал я.
– Как? Санечка? – Она встревожилась. Она не могла не встревожиться, это же была моя Наталья. Вернее, это была моя мечта, что она моя. Наталья…
Я ей рассказал все, до этого я никогда не говорил с ней об институте, считая, что это не должно никак ее касаться, да и время, проведенное с ней, было жалко терять на это: тему института и обучение.
Я ей очень много помогал за последние полтора года, с тех пор как мы стали «друзьями», абсолютно бесцельно, я посвятил ей свою жизнь. В любую минуту, час, когда она звонила и хотела встретиться (а это делала только она, так у нас было заведено), я бросал все, все свои дела, книги, увлечения, свидания и приезжал встречаться с ней; мы ходили в кино, в Лужники, что-то ели, пили, она приносила громадные бутерброды и на прощание обязательно впихивала в карман мои любимые сигареты «Мальборо», которые я не мог покупать. Это было по-прежнему (вот уж как полтора года минуло, кануло, ушло с тех пор безумных месяцев моей любви – и ее увлечения) самое лучшее время в моей жизни: встречи с ней и время, в которое я видел ее.
Я делал для нее все: от московских мелкосуетных дел, с которыми она не могла справиться, до всяких больших проблем, в которые я впрягался и решал. Таких вещей и дел были сотни за эти полтора года. И когда мне что-то удавалось сделать для нее (а удавалось это почти всегда, так как – для нее), я был счастлив и тихо горд, это была моя радость – значит прожил отрезок не напрасно. Она знала и безумно ценила это, но единственная награда, которой дарила меня, зная, что это награда мне больна и нужна: она никогда не говорила мне (или со мной) о своей интимной жизни, с мужем или с кем бы то ни было. А говорили мы обо всем.
– Санечка, это не так страшно – английский. Я его до сих пор не знаю. – (Через полгода она становилась преподавателем английского языка или переводчицей, кончая дипломатический институт.) – Читать я тебя за неделю научу. Тексты все переведу и карандашом тоненько в книге напишу, у нас все ребята так делают с трудными текстами. А темы я тебе составлю легким языком, и ты будешь их заучивать наизусть, зрительно, у тебя же память прекрасная, я знаю. Ты даже помнишь все, что было два года назад…
Это было наше начало. Февраль семьдесят второго года.
– К тому же ты всех этих авторов, я уверена, читал: и Шекспира, и Байрона, и Фильдинга, и Теккерея, даже Свифта, забавный старикашка, – и тебе будет гораздо легче.
Она великолепно знала английский и успокоила меня. Я знал, что то, что она говорит, так и будет, то и сбудется, я верил ей. Как никому на этом свете.
Это была моя Наталья. Которая была уже не моя.
На одну неделю я исчез из института, совсем пропал. Мы занимались в ее институте. И мне дико нравилось, когда она говорила:
– Саня, какой ты глупый, – (она обалденно это говорила), – что тебе тут не понятно, это же так просто!
Это напоминало мне старые времена, она любила так говорить, а я целовал ее руку у запястья.
За неделю моя Наталья сделала невероятное: я научился читать. Перевела и надписала мне в книжку пятнадцать текстов и составила уже пять тем, которые я должен был начать сдавать сразу после воскресенья. Сегодня была суббота. Я учил этот проклятый язык пластами, не зная ни одного слова, а лишь повторяя и зрительно запоминая. У меня бесподобная зрительная память, это правда. Когда я учился в музыкальной школе, давно, когда был маленький, то учил заданные этюды, скерцо, сонаты «на дом» не с нот, а с маминых рук, причем с первого раза, а она мне говорила: «смотри в ноты», чего я не делал никогда. То же самое, как учительница музыки моя не понимала, как я с первого раза ухватывал и умудрялся проиграть, не глядя в ноты, то, что мы разбирали на уроке в классе, и она показывала мне новую вещь. То же самое я делал и сейчас, легко, и Наталья была поражена.
– Санечка, ты талантливый ученик. – И под каждым словом у нас были свои значения, свой смысл – старое… – Я бы хотела, чтобы у меня в школе только такие, как ты, были…
Она смеялась, у нее была бесподобная нежная улыбка, чуть-чуть с резковинкой и волей, и мягкий смех.
Ее удивляло, что я запоминаю все с первого раза и намертво, никогда не уча языка и не понимая его, тонкостей грамматики, синтаксиса, фонетики, произношения.
Но все было просто, наверно, моя голова была настолько пустая и незаполненная, что когда ее наталкивали и активно, одну суть и только, и без размусоливания, она, голова, глотая это, моментально впитывала и усваивала.
В понедельник я появился перед устами прекрасной Магдалины и спросил, могу ли я начать. Была первая неделя зачетов, сессия уже началась.
– Что, уже за неделю выучил английский язык? Так быстро? – спросила она.
– Времени нет, – скромно ответил я.
– Ну что ж, давай попробуй, начинай, с чего тебе хочется: все равно все сдать надо.
Я начал: и в этот раз я сдал пять текстов, пять чтений и переводов и три темы с прошлого года по биографиям писателей.
Магдалина была изумлена.
– Да, ты необыкновенный ученик, я не верила, что это возможно. – (Я – тоже.) – Скажи честно, ты не правду мне тогда сказал, может, ты всегда изучал английский и никакому немецкому не учился, а? – пошутила она.
Это был громадный комплимент. Хорошо, что в книгу, где были рукой Натальи вписаны переводы, она не заглядывала.
Вечером Наталья, когда узнала, была счастлива. Мы пили в каком-то погребке шампанское. Она верила, не веря, и только повторяла, что прекрасно, что время не пропало даром, так как своей сессией она не занималась; натаскивая меня. Отложив все свои дела. На целую неделю. И это была прекрасная неделя, не в смысле английского…
На следующий день Ирка пришла со мной послушать, как я отвечаю и, как она сказала, высказать свое «фее» Магдалине, что она заставляет меня все это делать. Магдалина на нее смотрела укоризненно.
Всю неделю я ходил и сдавал Магдалине снова и снова. В результате мне осталось всего двадцать семь тем и ни одного текста. Наталья торжествовала:
– Санечка, ты умница, подбей ее, чтобы она тебе половину простила, ты же умеешь разговаривать с женщинами, я помню себя…
Я вздрагивал.
Но мне это казалось невозможным, не ее. Оставалась одна неделя до экзаменов, и та на подготовку. У меня еще не был сдан ни один зачет, кроме пенисовского воспитания. А как я буду сдавать остальные, я не представлял. Английский вообще не светил, или светил, но неизвестно, в какие десятилетия. Или как у нас модно выражаться: в какую пятилетку.
То, что я проделал в следующую неделю, было невероятно и, вероятно, войдет в анналы истории неучащихся учащихся всех институтов, веков, племен и народов. Я не вылазил из здания всю неделю, что-то списывал у Алинки с бывших тетрадей, какие-то спецкурсы, спецсеминары, необходимые работы, что-то кому-то говорил, отвечал, доказывал, обещал. Ирка билась возле меня как верный друг и соратник, но она по-другому действовала и другим брала. Это была наша последняя сессия, когда мы пробивались вместе. Потом она стала полностью Юстинова.
В результате я вырвался из этой недели со всеми зачетами, которым не верили мои, как у вспугнутого коня от волка, косящие глаза; кроме английского. Такое было невероятно, меня уже не волновал английский. Я не верил в это. И поклялся себе, что в следующем полугодии начну заниматься, хотя бы с половины семестра, а не дотягивать до самого конца, впритык, впритычку, чтобы аж в мозгах от перестарания трещало. Так ведь и сломаться не долго, разрушить свой организм навсегда, и никто новый не даст.
Да, так вот мы учились.
Новый год в этот раз был каким-то серым и тусклым у меня. Я никуда не пошел, видеть никого не хотелось, папа лежал больной, у него был вирус и большая температура.
Я позвонил Наталье поздравить ее с Новым годом и что-то пожелать, но подошел ее муж, и я повесил трубку. Я с ним никогда не разговаривал, ни разу за все время. Что-то мешало. Хотя Наталья успокаивала: о чем ты, Санечка, мы современные люди, и все всё понимают, теперь это не шокирует никого, всем все можно… ты старомодный немножко.
Сделала это за меня моя мама. Я набрал номер, она позвала и сказала:
– Вас поздравляют с Новым годом и просят передать вам пожелания самого огромнейшего счастья, исполнения всех ваших желаний и чтобы ваша дочь была прекрасна, счастлива и похожа на вас.
Наталья привыкла ко всем моим шуткам, я думаю, ее это вряд ли удивило, или что-то вообще могло удивить, что исходило от меня.
Мама повесила трубку, сказав «спасибо».
– Что она сказала, мам?
– Она сказала, передайте Санечке спасибо, и пожелала всего хорошего.
Мама много вкусного приготовила всякого, и в том числе мое любимое оливье. Мы раздвинули стол, сели напротив телевизора, выпили с ней по бокалу, послушали, как часы пробили Новый год и какой-то из правительства пожелал «всем советским людям трудового успеха», потом добавил в конце все-таки «личного счастья», и мама легла, так как устала; а я посмотрел еще «Голубой огонек», праздничную программу, но в этот раз он был тусклый, как фитиль, тускло как и на душе. Еще бокал шампанского – и в три ночи я уже лег спать; такого со мной не бывало никогда. Я менялся.
На следующий день я проснулся в новом году. Опять звонили разные знакомые, куда-то приглашали, зачем-то доказывали, что надо и как надо. Я не пошел никуда, целый день просидел дома, снег валил большими комьями. Потом вспомнил, что вчера, когда я уезжал за шампанским, которое достали для меня, мама сказала, что звонила Алина и приглашала на Новый год. Я позвонил ей (с опозданием в один год), ее не оказалось дома, она только что ушла.
К тому же завтра я рождался. И кроме того, в два часа дня должен был, как приговоренный, быть в институте и в качестве проклятого сдавать Магдалине остальные темы по английскому языку. У меня предстоял нескучный день рождения, почти веселенький.
Господи, думал я, что-то в нашей жизни происходит, как-то мы меняемся, почему же это заметно только на переломе (изломе) Нового года. А у меня к тому же – идущего дня рождения.
Внутри меня что-то мучилось, как-то неспокойно было, тревожно отчего-то, а может, оттого, что сессия. Такое простое объяснение. И я не готов. Но я знал, что это не от этого, я только не мог сам себе объяснить, отчего.
Институт стоял пустой и гулкий, совсем непривычный, я был в нем один. Доучился, подумал я.
Я думал, что никто не знает о моем дне рождения. Но Ирка знала, и в половине второго она приехала в институт, застав меня в вестибюле, читавшего темы в ожидании зачета.
– Санечка, поздравляю тебя с днем рождения и извини, что ничего не купила, все так ужасно было.
Глаза ее заплаканы.
– Что случилось, Ира?
Оказалось, что она только что из Шереметьево, где они провожали в Израиль семью Бородулина. Они улетали в Израиль, и Ирка первый раз присутствовала на проводах. И это было ужасно, словно сердце разрывалось, живые люди как будто умирали на твоих глазах. Ирка была немного актриса, и хотя она преувеличивала постоянно и переигрывала, в этот раз была почти искренна.
– И ты представляешь, Саш, все боятся, так как КГБ вокруг, в гражданском крутятся, слово не сказать, все плачут, ревут, а мать их, вообще, без чувств. Не дай бог, Господи, кому это пережить. Ты-то не собираешься? – просто так ляпнула она.
– Нет, – ответил я.
– А Юстинова я не пущу ни за что, никуда.
– Не переживай, Ир, он и не поедет никуда.
– Только ты не говори, пожалуйста, никому, что мы там были тоже, Андрюша мне строго запретил, а то из института вылететь можно. Он и так ехать не хотел, но не мог с Сашкой не попрощаться.
Договорились, что я никому не скажу.
Это было большое дело, что кто-то уезжает в Израиль – и проводы в аэропорту. Когда-то все изменится, подумал я. Когда-то.
И в этот момент появилась Магдалина.
– Здравствуйте, мои дорогие. Ира, рада, что ты пришла поболеть за своего подопечного. Хочешь пойти с нами послушать, как он будет отвечать?
– Да, – ответила Ирка.
Мы пошли. В честь моего дня рождения я подарил Ирке большую шоколадную конфету «Мишка» (мамина больная принесла ей спецзаказ с кондитерской фабрики Бабаева). Ирка взяла, развернула и стала машинально есть.
– Ира, а что у тебя с глазами, ты плакала?
– Да ничего, Магдалина Андреевна, – многозначительно сказала Ирка, – всякое случается.
Я надеялся, что она не будет ей рассказывать что. Моя надежда оправдалась, Ирка в один из немногих, редчайших разов осталась немногословна.
Через три дня начинался первый экзамен. У меня было с собой семь тем из двадцати семи и еще двадцать оставалось.
Я ответил Магдалине все, что было со мной, и она спросила, когда же я буду отвечать остальное. И – что она не может проводить со мной столько времени индивидуально, она и так сколько потратила.
Ирка насела на нее тут же:
– Магдалина Андреевна, пожалейте его, он и так уже сколько вам ответил, ведь он же никогда не учил английского и так старается, даже ночью спит с учебником английского языка. Честное слово, я сама видела.
– Как это?!
– Ну, то есть, – Ирка поняла, – это гипербола, Магдалина Андреевна, есть такой прием в искусстве, вы меня понимаете.
– И что ты хочешь, чтобы я сделала?
– Ну… простите ему эти темы. Ведь через три дня экзамены, а он еще не начинал готовиться.
– Нет, в этот раз, Ира, ничего не получится, ты мне и в прошлый раз то же говорила.
Я сидел и молчал. У меня к Магдалине не было никаких эмоций. Я знал, что она выполняет свой долг, она не была сука и не была несука, просто так надо было. Она не задумывалась над тем, что в школе, куда не пойду я, но зашлют, мне придется преподавать русский язык и литературу, а не английский, ее это не волновало, она выполняла свой долг, свои обязанности преподавателя. А раз «так надо было», она так и делала.
– Ну, Магдалиночка Андреевна, у него сегодня день рождения, ну сделайте ему подарок, милость, любезность, как хотите назовите, – только поставьте зачет.
– У вас правда день рождения, Саша?
– Да, – кивнул я.
– Поздравляю от всего сердца, желаю счастья.
В этот раз я не кивнул, чего зря раскивываться.
– Магдалиночка Андреевна, – продолжала Ирка, – его же папа убьет, если он придет без зачета. Вы знаете, какой у него строгий папа, он сам большой ученый, профессор медицины, известный уролог. А у него одного вашего зачета только нет.
– Он правда в медицине, Ира, профессор?
– Конечно, такой строгий…
– Подождите. А у меня такое несчастье, мама тяжело больна, костное что-то, врачи сказали, будто только горное средство поможет… это смола… забыла как называется.
– Мумиё, – сказал я.
Я доставал его когда-то Натальиной дочке, у нее зубки крошились и десны слабенькие кровоточили.
– Значит, вы о нем уже слышали? Я не успел раскрыть рта.
– Конечно, – сказала Ирка.
– Говорят, его невозможно достать.
– Да о чем вы говорите, он, конечно, сможет достать, Магдалина Андреевна, он все может, вы себе не представляете, что он мне достал: «Овулен» – американские противозачаточные таблетки из самой Кремлевки.
У Магдалины так и отвалилась челюсть, когда Ирка сказала «противозачаточные». Ложный стыд сковывает наше общество, социалистическое.
– Ирочка отвлеклась, – успокоила меня Магдалина, как будто меня эти дела волновали или я их не знал. – Значит, вы вправду можете достать какие-то лекарства?
– Все! – бампкнула Ирка. – И легко.
– И мумиё тоже?
– Хоть два мумия. – Ирка уже поняла что-то. Чего не понимал я.
– Подождите, Ира. Так что, Саша?
– Да, могу, только скажите, какое вам нужно: казахстанское, владивостокское или какого другого района?
– А! – закричала победоносно Ирка. – Что я вам говорила, он все знает, даже названия. И все может!
– И вы сможете это сделать для меня, – неуверенно спросила она, – достать?
– Конечно, – ответила Ирка, – для вас все, что угодно, Магдалина Андреевна, вы же его самая любимая учительница.
(Я не выдержал и улыбнулся.)
– Ну, ты скажешь, Ира. – Магдалина смущенно перевела плечами, они были пышные, как и она вся сама – Магдалина.
– А сколько это займет времени, Саша? Ирка тут же вставила:
– Если ему не нужно будет заниматься английским и как угорелому учить ваши темы, то…
Она посмотрела на меня.
– Неделю, – сказал я.
– Ну, к английскому это не имеет отношения, Ирочка.
– Да, но он же должен быть свободен, а не занят, чтобы доставать, – настаивала Ирка, видимо, пытаясь провести в мозг Магдалины, что связь есть и прямая. Провести – и оставить там как понятие.
– А ему еще к экзаменам готовиться.
– А сколько это будет стоить, Саша… приблизительно?
– Об этом не волнуйтесь, – сказал я, – (так как летом нам еще предстоял госэкзамен по английскому языку.)
– Ну, что вы, я так не могу, это дорогой препарат.
– Раз он сказал, значит, так можно, Магдалина Андреевна, он мне таблетки тоже без денег доставал.
– Так я могу надеяться?
– Да, только какое именно?
– Я вам позвоню вечером, если вы мне можете дать свой телефон, – это было неслыханно, теперь у Ирки отвалилась челюсть и полезли на лоб глаза, – и скажу.
Я назвал ей свой телефон: 145-19-49, она спросила, когда меня удобней застать дома.
Ирка уже потирала свои тонкие руки, думая, что она нашла. Но не так все просто было.
– Магдалина Андреевна, а что насчет зачета?
– А что насчет него, Ира?
Потом они бились как «буйные» и условились на том, что десять тем она мне скосит из двадцати, а десять мне сдавать останется завтра, послезавтра и так далее.
Но Ирку это не устраивало, она разошлась и стала волноваться (публично), а когда она волнуется, это нехорошо, я помню… а потом сказала:
– Тогда, Магдалина Андреевна, я вообще отказываюсь вас считать за гуманного преподавателя и человечного человека. Он для вас стараться будет, а вы…
Это Магдалину, по-моему, и добило: она не могла пережить, что Ирка ей так сказала.
– Ну, хорошо, Ира, несмотря на твое незаслуженное оскорбление, я поставлю ему зачет, но с тем условием, что он эти десять тем, по своему выбору, ответит мне в следующем семестре, иначе я его не допущу до госэкзамена. – Где ваша зачетка? – Она посмотрела на меня.
Я бежал до самого метро. С криком. Ирка не могла догнать меня. Я не верил, что получу когда-нибудь этот проклятый зачет. И что в этот раз выкручусь из него, точно не представлял.








