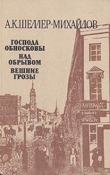Текст книги "Над обрывом"
Автор книги: Александр Шеллер-Михайлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
II
Был третий час дня в исходе, когда Егор Александрович возвращался домой от дяди. Погода стояла превосходная. Кругом все было залито солнцем, в бездонном голубом небе не было ни облачка. Кругом царила невозмутимая тишина. Егор Александрович шел неспешными шагами домой по берегу Желтухи. Кое-где в стороне виднелись покосившиеся избы, ветхие крестьянские постройки. Смотря на них, Егор Александрович невольно вспомнил про недавно просмотренные им счеты. Здесь нищета, быть может, голод, а там в этих счетах значились цифры вроде пятисот рублей, заплаченных за кружевные манжеты и воротничок, вроде тысячи шестисот франков за одно домашнее платье, сшитое в Париже. Ему вспомнилось и то, что он сам проигрывал иногда в ландскнехт сотни рублей, бросая эти деньги, взятые у народа, как бросают ненужные тряпки. Сколько мерзостей и подлостей делают люди, даже считающие себя и считающиеся честными людьми, – делают только потому, что не задумываются над своими поступками, не отдают себе строгого отчета в своих действиях. Ему вдруг вспомнились почему-то слова Протасовой: «Шампанское пьете и устриц едите?» Его мысли перешли к ней. Какая странная эта девушка! Сколько в ней отталкивающего и сколько привлекательного. Но что же в ней привлекательного? В этом он не мог дать себе отчета, не мог указать на что-нибудь определенное. Определенными у нее были только недостатки. И с чего это он задумался о ней? Что она? Пустая болтунья, понадергавшая фразы в разных книжках, вот и все, что можно сказать о ней. Тут нет ни глубины, ни искренности, а все напускное, начиная с ее пресловутой резкости и откровенности и кончая ее не то мужицкими, не то мальчишескими манерами. В ней, кажется, нет даже нравственной чистоты. Он иронически усмехнулся, сделав этот приговор. Не говорит ли в нем зависть? Как же, она выбрала Томилова, какого-то Коко Томилова, а не его! Ему ли не злиться на нее!
– А, это вы? Какими судьбами вырвались из своей берлоги? – вдруг послышался голос откуда-то снизу.
Егор Александрович оглянулся и увидал внизу, у берега реки, образовавшей в этом месте маленький залив, лодку у стоявшего тут плота. В лодке сидела Марья Николаевна и господин с pince-nez на носу, – это был Томилов. Молодые люди удили рыбу. Мухортов раскланялся с Протасовой.
– А вас нынче нигде не видно, – сказала она.
– Дела много, – ответил Егор Александрович, спустившись на плот и пожимая протянутую ему руку.
– Вы не знакомы? – спросила она Егора Александровича, указывая ему на сидевшего с нею в лодке господина. – Я вас, кажется, не представила в прошлый раз…
– Нет, – ответил Мухортов.
– Наш сосед, Николай Александрович Томилов, – сказала она.
Молодые люди холодно раскланялись. Егор Александрович облокотился на перила плота.
– Вы, впрочем, знакомы с его дядюшками… Помните графов Слытковых?..
Потом, с гримасой отвернувшись от своего спутника, она заговорила, со смехом обращаясь к Егору Александровичу;
– А я уж думала, что вы скоропостижно умерли или уехали. Справлялась у ваших кузин, говорят: «Бедный Егораша сидит все за делами».
Она ловко передразнила тон кузин Мухортова. Он усмехнулся.
– Отчего же «бедный»? Я, напротив того, именно теперь чувствую себя отлично, вследствие обилия дела.
– Вот как! А я и не подозревала, что вы такой любитель заниматься, – проговорила она с иронией.
– Я же всю жизнь провел, работая в своем кабинете, – ответил он и шутливо прибавил: не будь этого, я бы, вероятно, хандрил, как вы.
– Кто вам сказал, что я хандрю? Никогда я не думала хандрить! Вот выдумали!
– Да? – коротко спросил он и хотел откланяться.
– Как, вы уже убегаете? – спросила она.
– Чтоб не мешать вам… Вы, вероятно, страстно любите уженье рыбы?.. Это, должно быть, точно интересное занятие… Говорят, многие могут целые дни проводить за ним…
Он говорил серьезно, но Марье Николаевне послышалась в его тоне насмешка. Она вспылила и задорно сказала:
– Вы, кажется, хотите сказать, что это глупое занятие? Но ведь не всем же заниматься такими серьезными делами, как вы…
– Еще бы, – ответил он просто, – когда дело идет о том, чтоб спасти хоть кое-что и не пойти по миру, так уже это, наверное, серьезнее уженья рыбы, но это вовсе не значит, что я должен смеяться над теми, кто удит рыбу, не имея нужды думать о куске хлеба…
Она вдруг сделалась серьезною и поднялась с места. Лодка сильно закачалась от резкого движения. Томилов схватился за плот.
– Как вы неосторожны! – проговорил он, видимо, струсив.
Она не обратила внимания на его замечание.
– Присмотрите за моими удочками, – сказала она ему тоном приказания.
– Вы уходите? – чуть не с испугом спросил он. – Не могу же я целые часы не сходить с места!..
– Я пройдусь с monsieur Мухортовым, а вы ждите меня…
Она пошла с Егором Александровичем и быстро заговорила:
– Извините меня! Я рассердила вас. Я ведь слышала, что вы действительно заняты серьезным делом, приковавшим вас к дому. У меня скверный характер, я часто смеюсь над тем, пред чем надо преклоняться.
– Вы всё впадаете в крайности, – спокойно ответил он. – Над моим положением нельзя смеяться, но и преклоняться тут не перед чем. Я сижу за работой, потому это неизбежно. Вот и все.
– Ну, вам стоило… – быстро сказала она и вся вспыхнула, оборвав фразу.
Но тотчас же, оправившись, она переменила разговор.
– Зачем вы сказали при Томилове, что ваши дела плохи? Это дрянной фатишка, смотрящий с презрением на всех, кто беден.
– Мне же нет никакого дела, как он будет смотреть на меня, – сказал Мухортов.
– Да, но все же вам придется встречаться, а он по глупости не умеет даже соблюдать приличий… и сплетник он.
– Я, вероятно, никогда и не встречусь с ним. Ко мне он не приедет, а я к нему тоже не поеду, а где-нибудь в другом месте – я, право, не надеюсь бывать, где бы то ни было… по крайней мере, теперь…
– То есть, как же? – спросила она.
– Деревня тем и хороша, что можно уединиться, уйти от людей, – пояснил он. – Я ведь по натуре домосед, кроме того… помните те годы, когда вы назвали меня «бедным слепеньким»… я тогда уже пристрастился к уединенной жизни.
Она живо вспомнила этот случай.
– Да, да, я вас поводить тогда по саду хотела из жалости…
– И очень огорчились, когда, я сказал, что я вовсе не хочу ходить, что мне очень хорошо и в моем одиночестве…
Она вдруг впала в раздумье. Выражение ее изменчивого лица сделалось грустным.
– Да, я уж такая… всегда являюсь невпопад и с своими насмешками, и с своими сожалениями, – задумчиво проговорила она.
И как-то резко, оборвав речь, протянула руку Мухортову.
– Ну, прощайте! – сказала она, поворачивая по дороге в обратную сторону.
Его несколько озадачила эта неожиданность.
– Как, опять удить? – спросил он.
– А то как же!.. Мой поклонник, я думаю, уже соскучился… Ведь это новый претендент на мою руку, – сказала она с горькой усмешкой. – Он вполне уверен в успехе. Это очень забавно…
– Зачем вы шутите тем, чем вовсе не следует шутить, – заметил Мухортов искренним тоном.
– Чем это?
– Чужим спокойствием, чужим сердцем.
Она засмеялась.
– Сердцем пошлого фата! Вот нашли кого жалеть! Какие сентиментальности!
Он смотрел на нее совершенно серьезно.
– Может быть, это и точно смешно, но я, право, не стал бы для шутки давить даже червей и улиток. Впрочем, в детстве, а оно всегда жестоко, это иногда доставляет удовольствие…
Он откланялся и пошел вперед. Она что-то хотела крикнуть ему вдогонку, раздражительно топнула ногой, как рассерженный, капризный ребенок, и, до боли закусив губы, пошла поспешно к своему спутнику.
Он по-прежнему сидел на лодке, у плота, пристально смотря безжизненными глазами на поплавки. Но его губы были надуты, брови сдвинуты, лицо выражало неудовольствие. Марья Николаевна подошла к плоту, облокотилась на перила и стала бесцельно смотреть на воду. Томилов искоса поглядывал на нее, ожидая, что она заговорит первая. Но она, по-видимому, даже забыла о его существовании. Наконец ему надоело это безмолвие, и он спросил ее:
– Вы больше не желаете удить?
– Нет, – ответила она, очнувшись, и провела рукой по глазам, как человек, пробужденный от тяжелого сна.
– Значит, можно ехать? – спросил он.
– Да, поедемте, – рассеянно проговорила она.
Она сошла с плота в лодку, села и опять задумалась. Томилов собрал удочки и взялся за весла. Приходилось грести против течения. Томилов, как непривычный гребец, греб с трудом; по его бледному лицу струился пот. Он тяжело вздыхал. Наконец он заговорил:
– Вы меня страшно мучите, Марья Николаевна.
– Что же, не мне ли прикажете грести? – с иронией спросила она, очнувшись.
– Я не о том, – ответил Томилов. – Я говорю о том, что вы играете со мною, как кошка с мышью…
– Я?
– Да вот хоть бы сейчас. Подошел этот господин… как его?.. Мухортов?.. И вы тотчас же бросили меня…
Он перестал грести, лодку потянуло по течению назад.
– Если вы не будете грести, мы никогда не доедем, и я сейчас же выйду, – резко заметила она.
Он опять принялся грести.
– Какое право имеете вы требовать, чтобы я ни с кем не говорила, ни с кем не ходила? – сказала она.
– Я этого не требую, не смею требовать, – ответил он. – Но господин Мухортов… Он сватался за вас… он ухаживает…
– Вы лжете! – резко оборвала она его. – Никогда он не сватался за меня, не ухаживал… Очень нужно ему заниматься мною…
Ее голос оборвался.
– Весь уезд знает, что этот Егораша… – начал с презрением Томилов.
– Не смейте его так называть! Вы не имеете права, да, не имеете права! – загорячилась она.
Он передернул плечами.
– Вы влюблены в него?
– Да!
У него выпали из рук весла. Лодку опять понесло назад.
– Причаливайте к берегу, я пойду пешком, – резко командовала она.
Он сделал усилие, чтобы совладать с собою, и с горечью заметил;
– Вы жестоки! Можно ли так издеваться над человеком, как вы издеваетесь надо мною! Вы знаете, что я предан вам всей душою, что вы для меня все…
Она уже не слушала его и опять забылась. В ее душе совершалось что-то странное, непонятное для нее самой. Перед ней носился образ Егора Александровича. Она злилась на себя за то, что не могла отделаться от дум о нем. Что он ей? Он ее не любит. Он почти порвал с нею всякие сношения. Он, может быть, презирает ее. Да, он смотрит на нее, как на пустую девушку, на капризную барышню. Впрочем, она первая отказалась выйти за него замуж. Да, отказалась и никогда, никогда не вышла бы, если бы он даже и попросил ее руки. Ни за что на свете не вышла бы! Она даже не замечала, что по ее щекам текут слезы. Но это не ускользнуло от внимания Томилова. Он встревожился.
– Вы плачете? – тихо спросил он. – О чем?
Она опомнилась и, собравшись с силами, еще не без смущения, ответила:
– Вы ведете себя непозволительно!.. Пользуетесь, что я не могу уйти, и допрашиваете… Ведь не в воду же мне броситься!.. Я вам не дала еще права на эти допросы… Хуже инквизитора!
– Я этого жду так долго, – сказал он.
Она отерла слезы и уже насмешливым тоном спросила:
– Так долго, что даже соскучились?
– Исстрадался!
– Говорят, страдать из-за любимого человека так сладко… Я вот и доставляю вам случай испытать это наслаждение…
Она передернула плечами.
– Да гребите же проворнее! Это, право, скучно… Сидеть целые часы tête-à-tête [2]2
наедине (фр.).
[Закрыть]!..
Оби причалили к берегу и остановились у плота, от которого шла дорога к протасовскому саду. Марья Николаевна быстро выскочила из лодки и направилась к дому. Привязав лодку, Томилов пошел за нею. Он дышал тяжело от усталости и отирал платком покрытое потом лицо. В сотый раз он бесился в душе на Марью Николаевну за то, что она заставляла испытывать его: она то заставляла его скакать с нею сломя голову на лошади, то водила его до усталости по лесу, собирая разные ягоды, то держала при себе по целым часам за уженьем рыбы, и потом он обязан был грести, то засаживала его читать ей вслух какие-то русские романы, капризничая и сердясь за то, что он читает без чувства, как дьячок. И зачем он все это делает, если она любит другого? Да точно ли она любит? Может быть, это просто каприз, новая шутка над ним, Томиловым? А если она точно любит? Ну, так что же, эта любовь пройдет, так как Мухортов не любит ее. Если бы сказать ей, что он находится в связи с горничной? Об этом весь уезд уже знает через каких-то приживалок. Как жаль, что их нельзя свести с нею. Они открыли бы ей глаза. Но разве может он, Томилов, сказать ей это? Правда, она иногда сама говорит о таких предметах, что ее останавливают, приходя в ужас от ее невоспитанности. Но все же ему неловко. Он не знал, на что решиться…
III
Эта встреча не оставила почти никакого следа в душе Егора Александровича. Он только мельком подумал: «Хорошо еще, что эта девушка не вздумала поиграть так со мною, как она играет с Томиловым». Потом в его уме мелькнула мысль: «И какое счастие, что я отказался от нее, что этот брак не состоялся; с нею я никогда не был бы счастлив; эти вечные переходы от необузданности к грусти, эти капризные ребяческие выходки измучили бы меня». Затем он совсем перестал возвращаться к вопросу о Протасовой, так как более серьезные события всецело поглощали его внимание. Не говоря уже о том, что он приготовлялся к близившейся продаже имения, он должен был круто и резко порешить вопрос о Поле. Несмотря на его отказ уговорить девушку выйти замуж или, вернее, вследствие этого отказа, на нее напали все с приставаньями, чтобы она шла замуж. В доме был целый заговор дворни; вся эта родня почуяла, что разорение на носу, что надо урвать поскорее все, что можно, и потому без конца судила и рядила о выдаче замуж Поли. В отказе Егора Александровича уговорить Полю выйти замуж все видели желание барина избавиться от лишних неизбежных расходов на приданое. По целым вечерам «пилила» теперь Полю Елена Никитишна, та самая Елена Никитишна, которая так долго делала вид, что она даже не замечает связи своей племянницы с барином. Прокофий, подвыпив для храбрости, дошел даже до того, что хотел в самом деле оттаскать дочь за косы. Теперь в дело впутались и Дорофей кучер, и Глашка горничная, и Анна скотница, и Матюшка повар, уже не боявшиеся, что на них «зыкнет» тетушка Алена Никитишна, и понимавшие, что «девку нужно долбить и долбить, пока она не восчувствует». Несмотря на все пренебрежение Елены Никитишны к Агафье Прохоровне, последняя была тоже «натравлена» на Полю мухортовской домоправительницей, так как теперь не приходилось «брезговать» никем и ничем.
– И глупа же ты, Полинька, как я посмотрю на тебя, – заговорила Агафья Прохоровна в то самое утро, когда Егор Александрович ходил к дяде за советом.
Поля по обыкновению вышивала на галерее. Агафья Прохоровна сидела около нее со своим вечным вязаньем.
– Своего счастия ты не понимаешь, – продолжала старая дева. – За тебя жених сватается, а ты – вот бог, а вот порог. Разве это дело?
– Одного любить, за другого замуж идти? – проговорила Поля.
– Да кто тебе мешает любить-то? Люби, сколько влезет. Ты голову-то свою прикрой только; ребеночка-то – ведь не ровен час и это будет – законным порядком роди. Так-то, что он будет? Сласть какая ему, когда подрастет, да узнает, что он от девицы рожден. Уж это самое последнее дело, от девицы родиться! И еще будь богачка какая – куда ни шло. А то и срам, и бедность! Нечего сказать, хорошую долю ребенку готовишь…
– Его Егор Александрович не оставит, – со вздохом сказала Поля.
– Что же, ты просила его дать на ребенка-то денег?
Поля вспыхнула.
– За деньги разве я люблю?
– Глупая, глупая! Не за деньги! Да ребеночек-то что станет делать без денег? Или ты думаешь, что Егор Александрович сам его сейчас обеспечит? Так на это господа-то недогадливы. А-ах, как недогадливы! А случись, что умрет Егор Александрович вдруг, тогда и иди с дитей по миру…
– Что вы такое пророчите, господи боже! – чуть не плача воскликнула молодая девушка.
– Не пророчу! Пусть живет! Мне что? Не мой хлеб ест… А в животе и смерти бог волен. Умрет – поздно будет думать, как дитя прокормить…
Агафья Прохоровна на минуту смолкла, постукивая с раздражением вязальными спицами. Потом, как бы про себя, заговорила со вздохом:
– Вот уж, поистине, таким-то, как ты, матерями не следовало бы быть. Повеситься милому дружку на шею, себя потешить, – на это вас хватит, а материнского чувства, заботы этой самой о своем детище – этого от вас не жди. Ни боже мой!.. Что вам дитя? Родила его, да и бросила, хлопот меньше. Пусть голодает да холодает!
Поля чувствовала, что по ее телу пробегает дрожь. Она сделала над собой усилие и сказала:
– Говорю я вам, что Егор Александрович не оставит нас…
– Ну, а я говорю, что это вилами на воде, писано. А вышла бы замуж, он бы и дал обеспечение. Боишься-то ты чего? Муж-то в твоих руках будет, когда капитал при тебе будет. Хочешь – живи с ним, хочешь – нет. Будешь только знать, что и твой грех прикрыт, и дитя, чье ни на есть, а все же законное…
Потом, тяжело вздыхая, она прибавила:
– И Егору Александровичу-то руки развязала бы, вздохнул бы он свободнее… знал бы, что ты пристроена, значит, и он свободен: хочет – женится, хочет – нет…
– Никогда он не женится! – воскликнула Поля.
– Еще бы, когда ты его по рукам связала. Тоже человек он честный, да добрый…
Поля подняла голову и как-то растерянно взглянула на Агафью Прохоровну.
– Может быть, он никогда тебя, замужнюю, не бросит, так все же будешь ты знать, что это он по доброй воле тебя не бросает, а не потому, что стыдно так девку без угла, без призора оставить… Конечно, сам он не станет приневоливать замуж идти, а поди, загляни в душу-то ему – возликовал бы, если бы сама своей волей пошла замуж…
– Да вы-то, вы-то в его душу заглядывали? – с укором сказала Поля.
– Знаю я их всех, господ-то этих!.. Тоже и он мало ли что Софье Петровне говорит… «Не могу, говорит, я жениться, покуда Поля не пристроена»… Ну, вот не сегодня, так завтра и пойдет с сумой…
– Как с сумой?
– Скажите, пожалуйста, она не знает, что у нас все продавать будут… От богатства-то имение с молотка не продают!.. Вот женился бы на Протасовой, так дело-то иначе пошло бы… Да и то сказать, кто ж за него пойдет, если у него полюбовница есть в доме… Будь ты замужем – никто бы на тебя и внимания не обратил, мало ли господ к чужим женам приваливается…
Перед Полею открывалась какая-то пропасть. Как? Егор Александрович из-за нее пойдет по миру? Ради нее ему отказывают невесты? Что же он молчал! Да и то сказать, мог ли он, такой добрый, такой нежный, высказать ей это? Агафья Прохоровна продолжала «долбить девку», но Поля уже не слушала ее. В порыве великодушия она готова была сейчас же бежать к Егору Александровичу и сказать ему, что она выйдет замуж, лишь бы спасти его. «А сама в воду!» – вдруг пронеслось в ее голове, и ее охватило холодом. А ребенок? Душу детскую загубить? Она вдруг бессознательно перекрестилась, открещиваясь от греховной мысли.
– Ты это что? – спросила удивленно Агафья Прохоровна и даже испугалась выражения глаз Поли: они смотрели совсем безумными.
– Не говорите вы больше, Агафья Прохоровна, – дрожащим голосом произнесла Поля, а ее глаза продолжали смотреть с тупым выражением ужаса. – На грешные мысли навели вы меня!.. Бог вам не простит, если я…
Она не договорила, машинально оставила работу, встала и медленно, с устремленными бесцельно вперед глазами вышла из комнаты. Ее била лихорадка, так живо представилось ей, как она бросилась в воду и в то же время почувствовала, когда уже не было возврата к жизни, последнее биение ребенка под сердцем. Войдя к себе в комнату, она, как подкошенная, упала на колени перед образами и долго билась головой об пол, прося прощения у всевышнего…
Когда вечером она вошла к Егору Александровичу, он изумился происшедшей в ней перемене. При первом его вопросе, что с ней, – она разрыдалась и рассказала все. Мухортов пришел в бешенство. Он видел, что кругом него составляется целый заговор. Целуя и обнимая Полю, он давал ей самые страстные клятвы никогда не бросать ее. Он убедил ее, что даже мысли не было у него о том, что она служит ему помехой в чем-нибудь. Но ей не нужно было уверений: два-три страстных поцелуя разогнали разом все мрачные думы, все сомнения. Она забывала всех и все, людей и будущее, себя и ребенка, наслаждаясь ласками любимого, обожаемого ею человека. Мухортов успокоился не так легко. Когда она ушла, он долго ходил по своей комнате, обдумывая, что делать. Он пришел к заключению, что прежде всего нужно «сжечь корабли»…
Рано утром он призвал Данилу Волкова и, дав ему жалованье за месяц вперед и деньги на проезд в Петербург, отказал ему от места. Этой развязки не ожидал никто в доме…