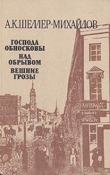Текст книги "Над обрывом"
Автор книги: Александр Шеллер-Михайлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Седьмая глава
Перебирая бумаги, Егор Александрович случайно открыл одну из старых тетрадей в зачитался. Это был его дневник. Приучая его отдавать отчет в каждом поступке, в каждой мысли, Жером Гуро побудил его когда-то вести дневник.
– Человек – порочное и полное всяких недостатков создание, – говорил своим обычным дидактическим, хотя и мягким тоном старик. – И при этом он всегда склонен к фарисейству, к самообману. Отдавать себе отчет в своих помыслах и поступках, отдавать его письменно, – это крайне полезно в нравственном отношении. Записывая все, что ты думаешь и делаешь, ты, может быть, не раз покраснеешь за себя. Изложить на бумаге все те низкие, пошлые или преступные мысли, которые бродят в голове, это нелегко, это – почти подвиг, вызывающий краску стыда. Но этот стыд полезен. Это исповедь перед собою, и ее значение важнее всего для человека, для его саморазвития, для его самоусовершенствования. Кроме того, если бы хотя известная часть людей вела подобные дневники без лжи и без утайки, – наука, а значит, и человечество много выиграли бы. Эти дневники пролили бы свет на человеческую душу.
Мальчуган увлекся этою мыслью и стал ежедневно исповедоваться пред самим собою. Долго он записывал в свой дневник все мелочи, все ребяческие проступки, промахи. Потом пребывание в кавалерийском училище, жизнь в полку, светские развлечения заставили его все реже и реже вносить отчеты о себе в эту тетрадь, и, наконец, она забылась совсем. Теперь, случайно найдя ее между другими бумагами, Егор Александрович невольно зачитался ею, задумался над этими листками, начатыми неверным детским почерком и оконченными твердым почерком мужчины. Перелистывая ее, он мог сразу заметить не только то, как окреп его почерк, но и то, как мало-помалу исчезали грамматические ошибки, как от исповеди о невыученном по лености уроке и от признания в том, что он после обеда допил оставшийся в чьей-то рюмке ликер, он перешел к вопросам о Гамлете и Дон-Кихоте после прочтения статьи Тургенева и писал:
«Неужели же теоретики-Гамлеты вечно будут убивать только случайно Полониев, когда им хочется поразить преступного короля? Неужели же деятели-Дон-Кихоты будут всегда сражаться только с ветряными мельницами и со стадами баранов, принимая их за врагов? Неужели вечно плодами и разъедающих сомнений, и неиссякаемой жажды деятельности будут самообман, промахи, осечки?.. Или точно единственный деятель, достигающий цели, это слепая судьба, бессмысленный рок? Кто придет к этому убеждению, тому не для чего жить».
Целые страницы из этого времени посвящаются в дневнике уже не признаниям в лени, в непослушании, в детских шалостях, а мучительным сомнениям, вызываемым тем или другим вопросами.
Особенное внимание Егора Александровича остановила теперь одна страничка, написанная в один из приездов его в деревню, когда ему было лет семнадцать. Он писал:
«Сегодня утром я забрел в наш родной лес, и меня охватило какое-то отрадное чувство бодрости, здоровья, силы, как будто у меня внезапно расширилась грудь и сделалось глубже дыхание. „Здорово, родной!“ – невольно проговорил я, и на мгновение мне показалось, что он, этот столетний старец, смотрит на меня с улыбкой и шепчет: „Ишь как вырос“. Мне хотелось и петь, и смеяться, и обнять эти деревья, прильнуть к ним губами. Мне было только грустно, что со мной не было теперь Жерома, моего милого незабвенного старца… Вечером, придя домой усталый, я прилег и взял Тургенева. Мне хотелось заглянуть в его „Поездку в Полесье“. Боже мой, какие различные ощущения пробуждают в людях одни и те же явления, одни и те же предметы! Тургенев пишет: „Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо – и при виде его глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли – и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях, он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность – и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном: здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу“. Нет, никогда, никогда не пробудит во мне подобного чувства природа уже потому, что я сознаю себя ее царем, сознаю себя выше ее. Мне стоит захотеть, и эти болота сделаются плодоносными нивами; мне стоит захотеть, и этот столетний лес падет к моим ногам, подрубленный под корень! Она не принижает моей мысли, она не говорит мне о моем ничтожестве; она, напротив того, напоминает мне о моей силе: великая, бессмертная, она рабыня человека, и он может заставить ее служить ему. Мне кажется, что, смотря только так на природу, мы можем идти вперед, в противном же случае мы обречем себя на вечное нытье, на вечное тунеядство, на вечную покорность законам природы. Законы природы! Разве они не одинаково влияют на людей в известной местности, а между тем, в одних и тех же местностях бок о бок развиваются нищие и богачи, неудачники и счастливцы, и все в их жизни зависит от меньшей или большей степени умелости, способности развиваться, гениальности человека».
Над этими вспышками страстного юношеского стремления – стать выше рока, природы, неведомых сил, невольно задумался теперь Егор Александрович. В нем и теперь жило это стремление, – стремление создать из себя человека-бойца, способного помериться с судьбою. Эта струнка звучала в нем всего сильнее…
Затем дневник вдруг обрывается. Егор Александрович припомнил то время, когда дневник оборвался: это было время, когда его старались превратить в светского человека, в хорошего кавалериста. Он стал припоминать это время, и ему досадно было, что он не вел тогда дневника. Дневник рассказал бы ему день за днем все то, что он видел, пережил, передумал. Теперь было бы трудно заполнить этот пробел, припомнить все мелочи, влиявшие так или иначе на характер, на склад убеждений, на те или другие поступки. Сколько раз пришлось бы ему покраснеть, читая эти страницы! А споры с друзьями-студентами в последние два года, – споры об общественных вопросах, об общем благе, о политике, о средствах борьбы против разных зол? А страстное искание разрешения тысячи сомнений у разных ирвингианцев, пашковцев, умных или глупых искателей духовной пищи, душевной гармонии? Сколько интересного нашел бы он теперь в отчетах о них! Он невольно пожалел о том, что забросил привычку записывать все происходящее с ним и в нем. У него снова явилось желание продолжать этот прерванный дневник. Но, взяв перо, он задумался. О чем говорить ему теперь, когда жизнь течет так однообразно? Как-то машинально начал он писать:
«3 августа 187… г. Одиночество и скука, вот два слова, преследующие меня теперь везде и всюду. Я чувствую, что я выбит из колеи и не могу еще найти своего пути. Когда-нибудь, вероятно, я найду его. Но когда? Вот вопрос. Быть может тогда, когда будет уже поздно. Теперь я сознаю одно, что здесь мне не ужиться. Я ясно сознаю, что сельским хозяином, да и вообще хозяином, мне не быть. Нет у меня на это способностей, претит мне кулачество. Я, должно быть, из тех, которые едят мясо, но никогда не решатся сами убить быка. Меня тянет в столицу, в университет, к кафедре, в водоворот мыслящей молодежи. Весь вопрос сводится к тому, как устроиться с Полей? Везти ее с собою, со всею ее родней – у меня нет ни средств, ни охоты. Ехать с нею вдвоем? Какую роль будет она играть при мне? Жена? Любовница? Поместиться вместе на отдельной квартире? Переехать вместе в chambres qarnies? [7]7
меблированные комнаты (фр.).
[Закрыть] Жить отдельно? Я ничего покуда не могу сообразить. Мы стоим в каком-то ложном положении. Между нами нет ничего общего, кроме ласк. Нужно же в этом сознаться прямо и честно! Она вовсе не заглядывает в мой душевный мир, как я не заглянул бы в книгу, написанную на неведомом мне языке; я тоже стараюсь не заглядывать в ее душевный мир, потому что меня пугает его бездонная пустота. Я никогда не предполагал, чтобы могло быть существо, не мучающееся ни одним сомнением, не имеющее ни одного желания, не интересующееся ни одним вопросом. Всматриваясь в нее, я вижу, что такое существо может быть. Для нее я – все. Но она даже представить не может, что ее бог может утомиться от вечных славословий, что ее священная икона может слинять от вечных поцелуев, что у ее идола могут быть и другие душевные стороны, кроме любви к ней. Она молится на меня, не уставая, и хочет, чтобы я не уставал слушать ее молитвословия. Она утомляет меня, подавляет меня, раздражает меня иногда своими ласками, и если я осторожно и мягко пробую выяснить это – ее лицо покрывается смертельной бледностью, глаза наполняются слезами, и она пугливо шепчет: „Простите меня, голубчик, не сердитесь“, и на мои губы, на мои руки, на мои глаза сыплются снова страстные поцелуи. Это ее единственный язык, единственное красноречие. Им она прощает, им она вымаливает прощение. Недавно я рассказал ей, сколько мне пришлось перенести сцен с матерью за последнее время, – она бросилась целовать меня, чтобы утешить за огорчения. На днях я рассказал ей, как страшно положение наших бывших крестьян, – она бросилась меня целовать, восхищаясь моей добротой. Ни на секунду не задумалась она о характере моей матери, ни на секунду не задумалась она о нуждах народа. Все заслонено от нее мною. Должно быть, в древних теремах вырабатывались иногда такие личности. Она тоже выросла в тереме, вспоенная, вскормленная вдали от всяких забот, волнений, нужд для того, чтобы сделаться вещью мужчины. Иногда я бешусь на нее, иногда как бы покоряюсь безропотно своей судьбе, зная, что и бешенство, и покорность вызовут один результат – ласки. Я радуюсь, что она готовится сделаться матерью. Может быть, ребенок будет ее спасителем, зародит в ней нового человека – любящую мать…»
«4 августа. Вчера меня на полуслове прервала Марья Николаевна. Она вторгнулась ко мне с шумом и гамом вместе с Зиной, Любой и Павликом. Вот тоже странное существо! Марья Николаевна – это умный деревенский паренек, нахватавшийся притом и книжных фраз от какого-то захожего семинариста или проезжего барина. Не ждите от этого паренька манер, но у него есть своя грация даже тогда, когда он вынет руки из рукавов рубахи и сложит их на груди под нею; он знает такие скверные слова, что становится жутко за его развращенность, и может остаться девственным вплоть до своей женитьбы не только физически, но даже по мысли, ни на минуту не обращая внимания на сальные картины, не представляя в своем воображении сальных образов; у него масса практического смысла, практических познаний о нужде, кулачестве, пьянстве, труде, и в то же время его может провести первый встречный питерщик, навострившийся во всяком лганье, не моргнув глазом; прибавьте к этому комическое щегольство неизвестно где подхваченными фразами и беспредельную, бессознательную, хватающую за сердце тоску о лучшей, совершенно неведомой ему доле, – вот как мне представляется эта девушка. Это, кажется, совершенно новый, не виданный мною нигде доныне тип. Я ее как-то назвал изломанной, теперь я сознаюсь в своей ошибке. Она – цельный человек, сотканный из кажущихся противоречий. И странное дело: чем более сближаюсь я с нею нравственно, тем более сознаю, что изломан более я, чем она, что у меня есть задние мысли, которых нет у нее. Павлик – мой милый Павлик – относится к ней прямее. Меня смущает ее фамильярность в обращении со мною; а он, когда она треплет его по щекам или целует при всех, только смеется и подставляет ей щеки и губы, точно она не девушка, а такой же откормленный мальчуган, как он сам. Сегодня она растрепала мои волосы и сказала, что она ужасно любит, когда я смотрю таким вахлаком. Мне стало сразу смешно, но через минуту я заметил ей: „Полноте, зачем эти шутки! Разве мы дети!“ Но отчего же и не быть детьми хоть на минуту? Или уж так далеко от меня чистое, непорочное детство? Когда она ушла, ко мне пришла Поля и заметила: „Ну, уж барышня, лезет на шею мужчинам“. Я с удивлением взглянул на нее. Что это? Чувство ревности или и Поля уже потеряла способность быть ребенком, понимать ребяческие выходки?..»
«5 августа. Ходил нынче побродить с ружьем и случайно, верст за пять от дома, повстречал на дороге старика крестьянина. Он отдыхал, присев у опушки леса, и глодал кусок хлеба.
– Откуда, старина? – спросил я его.
– Мы не здешние, из другого уезда, – ответил он. Я подумал, что это нищий.
– А сюда-то как попал?
– К сыну ходил, – ответил он. – Кобыла у нас, значит, пала… Сдумали новую лошадь купить, сходно продают тут по суседству… За деньгами к сыну ходил… В работниках он тутотка… Может, знаешь, у Алексея Ивановича Мухортова господина…
Я сказал, что слышал об Алексее Ивановиче.
– Как не слыхал… Все в здешних местах знают…
– Что ж, разве он уж такой богатый?
– Первый хозяин по здешним местам. Наймись к нему работать, так семь потов с тебя сгонит. Сам, словно кубарь какой, по полю катается, даром что коротконогий. Только и слышишь: „Ну, ребята, дружнее!“, „Чего, ребята, зазевались?“ А чего зазевались: руками уж народ не владеет, а он все: ну, да ну! И прижать на расчете мастер: начнет считать там прогул, тут штраф, того и гляди, у него в долгу останешься. Зато и дела делает!
– А вы бы к нему не шли?
– Толкуй! Хлеба-то захочешь – пойдешь! Еще как пойдешь-то, сам накланяешься, как животы подведет: возьми, мол, сделай божескую милость…
Старик с полчаса пробеседовал со мною о дяде Алексее и о других здешних хозяевах. В сущности, все на один лад. Между прочим старик заметил:
– А тоже, распусти вожжи – по миру пойдешь. Народ нынче балованный. Известно, воля! Пакостник стал человек…
И он стал пространно говорить на эту тему, давно знакомую мне, так как эта тема – излюбленный предмет разговоров и дяди, и Протасова, и большинства здешних хозяев. Слушая все эти толки, я с каждым днем все более и более убеждаюсь, что я хозяйничать не буду, не могу. Скорей бы вырваться отсюда…»
«6 августа. Странный разговор был у меня сегодня с Марьей Николаевной. Я и теперь не совсем еще опомнился от него. Он выяснил мне многое из моих отношений к Поле, – многое, на что я как-то не обращал серьезного внимания. Зина и Люба все рассказали Марье Николаевне, и она совершенно неожиданно спросила меня:
– Отчего вы не познакомите меня со своей Полей?
Я почувствовал, что я покраснел. Я не ожидал, что ей расскажут все, и не предупредил, чтобы не говорили.
– Она простая девушка, – сказал я в смущении.
– Так что ж такое? Вы же живете… Ну, вы ведь все равно, что муж и жена.
– Мы даже не обвенчаны, – ответил я.
– Не все ли равно, законный или гражданский брак?
– О, далеко не все равно, – со вздохом ответил я.
– Как не все равно? Если вы любите друг друга?.. Ведь ей же скучно быть всегда одной?
– Что ж делать? Я не могу ее ввести в круг своих знакомых и родных… по крайней мере, здесь…
– Да отчего же вы не хотите знакомить с ней тех, кто сам хотел бы познакомиться с ней? Она ведь молодая, мы могли бы сойтись…
– Ей самой неловко будет с вами…
– Это отчего?
Я смутился еще более, не зная, что сказать.
– Она же будет чувствовать неравенство с вами… неловкость… она человек других понятий, – ответил я.
Она как будто удивилась.
– Так разве она так и проживет всю жизнь… одна? – спросила она в недоумении.
– Нет… потом… Я разовью ее… приучу…
Я совсем растерялся. Я так мало заботился об этом покуда!
– Так вы ее учите? Занимаетесь с нею? Чем?
– Всем понемногу, – солгал я, стыдясь признаться, что я почти не занимаюсь с Полей, не могу заниматься.
– Я думаю, вам это очень приятно. Должно быть весело следить, как поднимается, развивается любимый человек. Она, должно быть, вас очень, очень любит?
– О, да, – воскликнул я. – Это добрая, преданная душа!
Она вздохнула.
– И вы, недобрый, не хотите меня свести с нею!.. Ну, право же, я полюбила бы ее, как сестру… Ведь дружна же я с моей Марфушей, а та и совсем примитивный человек… Такие, право, лучше, цельнее нас…
Я поспешил переменить разговор. Но он глубоко запал мне в душу. В самом деле, на что я надеюсь в будущем относительно Поли? Не может же она остаться вечно такой неразвитою, нельзя же вечно прятать ее от людей, стыдясь за ее невежество? Или я точно смотрю на нее только как на любовницу, от которой, когда она наскучит, можно уйти, жениться на другой? Нет, нет, я должен употребить все усилия, чтобы развить ее, поднять до себя, сделать достойной занять в моем доме место жены и хозяйки, за которую я не краснел бы ни перед кем…»
«7 августа. У дяди праздновали день рождения Любы. Народа набралось много, обед был очень оживленный. Как обыкновенно бывает на больших собраниях, мелкие сплетни и будничные дрязги передавались только шепотом, один на один, общий же разговор шел о всяких злобах дня, об общественных вопросах. Как послушаешь всех этих людей – любого делай министром, сажай в парламент. И научились даже воспламеняться и страшные слова пускать в ход. Марья Николаевна и Павлик, сидевшие подле меня, шепотом знакомили меня, между тем, с биографиями ораторов: тот вор, другой мошенник, третий шулер, четвертый – бит, хотя в точности никто не может сказать, за что его били и когда: тогда ли, когда он соблазнил чужую жену, чтобы обобрать ее, или тогда, когда он пустил по миру опекаемых им сирот, или тогда, когда он просто в пьяном виде произвел дебош в клубе. Я заметил Павлику:
– И охота всех этих негодяев принимать!
– А где же найти здесь лучших? – спросил он. – Вон, Слытковы безукоризненно…
– Глупы, – докончил я с улыбкой.
– И честности высокой, – досказал Павлик… И точно, где же взять этих честных людей?..
Чем больше я присматриваюсь к людям, тем сильнее убеждаюсь в том, что наше время – время двойственности по преимуществу, время крупных умов и мелких душонок, оглушительных фраз и беззвучных обделываний делишек „под шумок“, когда невольно удивляешься, узнав, что тот или другой современный „гений“ не только не крадет носовых платков и не подсматривает в чужие карты, но даже не берет крупных взяток и не разворовывает общественных сумм. Теперь большинство – моралисты в одну сторону, а в другую кандидаты, если не на скамью подсудимых в окружном суде, то, во всяком случае, в участок для отеческого реприманда и вытрезвления. Научившись громить чужие пороки, мы считаем себя освобожденными от обязанности следить за своею собственною нравственностью. В этом, быть может, главное зло нашей эпохи всяких прелюбодеев мысли на кафедрах суда, школы, университетов, церкви, литературы… Пророки и апостолы нашего времени, эти друзья меньшей братьи ездят на рысаках, пьют шампанское, бросают горсти золота на женщин легкого поведения, и бедняк, после встречи с ними, так и остается при том убеждении, что он встретился, по крайней мере, с губернатором, если не с самим министром. Говоря о меньшем брате, они научились уже колотить себя в грудь не хуже любой парижской актрисы с бульварного театра, играющей в мелодраме жертву; встретившись с этим меньшим братом лицом к лицу, они прежде всего зажмут свой нос надушенным платком, чтобы не слышать запаха трудового пота и нищенских онуч. Проповедники воды, пьющие вино сами, гнездятся всюду! Это вера без дел, а такая вера всегда мертва. Говоря это, я, конечно, имею в виду только интеллигенцию в широком смысле слова, а не тех, кто ест хлеб с мякиной, пухнет от голода и покорно ложится под розги, сознавая, что и точно на нем есть еще недоимки. Эти мысли все чаще и чаще приходят мне в голову. Я с каждым днем сознаю все яснее, что это именно та дорожка, на которой легче всего споткнуться. Трапписты повторяют при встрече друг с другом: memento mori – помни о смерти; мы должны бы повторять при встрече друг с другом: medice, cura te ipsum – врач, исцелися сам! Для нас это тем нужнее, что у нас нет почти никакого контроля, что нигде не развита так сильно подлая терпимость, как у нас. У нас все еще человека бранят, а „всюду принимают“. Вот почему мы и не боимся стоять „в поганой луже“… По поводу этого мне вспомнился один случай. Я сидел в концерте. В одном из антрактов к моей матери и дяде Жаку подошел тучный и обрюзгший, небрежно одетый барин.
– А я только что из суда, сейчас кончилось колеминское дело, – сказал он дяде Жаку, пожимая ему руку. – Вообразите, Колемин почти сух вышел из дела. Это просто возмутительно.
По лицу дяди Жака скользнула странная усмешка.
– Чтобы другим повадно было, – ответил он.
Когда старик отошел, моя мать спросила у дяди:
– Кто это?
– Разве ты не знаешь?
И дядя Жак назвал одну из громких фамилий…
– Содержатель игорного дома и рулетки, – пояснил он. – У него, наверное, и теперь идет игра. Ловкий шулер…»
«10 августа. Я дал себе слово во что бы то ни стало заниматься с Полей. Это необходимо; в противном случае между нами откроется целая пропасть, и ее уже нечем будет заполнить. К несчастию, два-три урока показали мне, как трудно мне будет исполнить взятую на себя задачу. Вот хоть бы сегодня, я долго занимался с нею, а дело все же не шло на лад. Нельзя сказать, чтобы она была тупа. Нет, но она не умеет сосредоточиться на том, что учит, смотрит рассеянно, думает о другом. Ей просто все это кажется ненужным. Сегодня она, наконец, устала и, со вздохом отложив книгу, заметила:
– Нет, уж мне не быть такой ученой, как Марья Николаевна.
– Почему именно такой, как она? – с улыбкой сказал я. – Ты ее вовсе не знаешь. Может быть, она еще меньше тебя знает.
– Нет, уж не говорили бы вы с ней тогда по целым часам, – тихо сказала она.
Я уловил в ее тоне глубокую грусть.
– Поля, уж ты не ревнуешь ли? – спросил я.
Она испугалась.
– Нет, нет, голубчик, разве я смею? Я рада, что вам хоть с кем-нибудь весело!.. Что за веселье со мною! И так связала вас… а теперь еще это проклятое положение.
– Поля! – воскликнул я с упреком. – Можно ли это говорить? Ты должна радоваться! Ты будешь матерью, у тебя будет о ком заботиться, кто будет тебя любить…
Она заплакала.
– Сама я не знаю, что говорю! – всхлипывая, проговорила она. – Все кажется, что вы перестанете меня любить… Что вам в больной-то!..
Я стал уговаривать ее, утешать. Но на сердце у меня было тяжело. Неужели и рождение ребенка не превратит ее в мать, а оставит по-прежнему только моей любовницей?..»
«12 августа. Сегодня день смерти моего отца. Давно совершилась эта страшная для меня утрата, а я по-прежнему живо помню все мелкие подробности, сопровождавшие ее. В моих ушах и теперь еще звучат слова отца: „Будь честным… сыном честного солдата…“ Потом, когда я бегал в залу посмотреть на мертвого отца, поплакать у его гроба, меня поразил другой образ – образ священника-мужика с руками, отдающими запахом навоза, с речью, напоминающей ругань на базарной площади. После долгой разлуки, я увидал снова этого человека, и, признаюсь, что-то вроде страха перед ним пробудилось во мне, как в детстве. Я почувствовал, что я перед ним мальчик… Я пошел к отцу Ивану попросить его отслужить панихиду по моем отце. Странная это личность. С первого раза трудно признать в нем служителя алтаря. Это скорее мужик-труженик, затянувшийся в непосильном труде, питающийся черствым хлебом с мякиной. Сухое, морщинистое лицо его, кажется, сделано из выдубленной кожи; огромные жиловатые руки, с распухшими в суставах и искривленными на работе пальцами, грубы и мозолисты; его густые волосы на голове и бороде трех цветов: к темным волосам примешивается сильная седина, а концы этих волос какие-то бурые, точно выгоревшие на солнце; ввалившиеся глаза смотрят мрачно и не обещают ни любви, ни прощения. Страшная, тяжелая жизнь, прошедшая с детства до старости в деревне, с небольшим перерывом безотрадного пребывания в училище, наложила свою печать на этого человека, вечно обремененного семьей, выжившей из ума матерью, калекой-братом, целой оравой детей, оставшихся рано без матери. Вращаясь среди мужиков, работая неустанно в поле и в огороде, старик сам омужичился… Его боятся все, как фанатика, всегда готового громить людские пороки, и притом громить на том языке, на котором говорят его слушатели. Его проповеди и увещания являются рядом угроз, и, увещевая своих духовных детей с сжатыми кулаками, стуча с угрозой этими кулаками по аналою, он называет этих духовных детей разбойниками, пропойцами, иудами, готовыми продать родного брата. С его исповеди уходят, как люди уходят из бани, в поту, красные, усталые. „Упарил“, говорят они, почесываясь и кряхтя. Он громит не одних мирян, но и духовенство, надевшее шелковые рясы, пустившееся в кулачество. Все знают, что сам он безупречен, что он аскет, хотя он и берет за исполнение своих обязанностей все, что следует, ругая при этом дающих, говоря, что они в кабак целовальнику всегда охотнее дадут, чем на церковь и попу. В народе носятся слухи, что он обладает духом прозорливости и знает, что творится в душе людей. Для этого убеждения есть основательные причины, так как отец Иван в каждой человеческой душе видит непочатый угол всяких низких страстей, корыстных расчетов, гнусных пороков, разнузданных желаний, и почти никогда не ошибается: из двадцати приписанных им тому или другому человеку пороков и грехов, два или три греха и порока заставляют бледнеть или краснеть человека. Уходя от отца Ивана, такой человек убежден, что отец Иван по особому „богодухновению“ прозрел в нем вора, пропойцу или блудодея. Об этом составились целые легенды, как отец Иван уличил Сидора или Трофима на исповеди в грабеже – уличил и „такими глазищами взглянул, что Сидор или Трофим так и рухнулись ему в ноги“. Он отчитывает кликуш и изгоняет бесов.
Меня отец Иван встретил далеко не приветливо.
– Поздно, поздно отца-то вспомнил! – сказал он мне сурово. – Видно, мертвые-то подождут, сперва с живыми похороводиться нужно…
– Я был уже у отца на могиле не раз, – ответил я.
– Так рубля, что ли, жаль было панихиду-то отслужить? – проворчал он.
Потом, сурово взглянув на меня, заметил:
– Тоже и не похвалил бы отец-то за то, как живешь! Вы, бары, пример должны подавать народу, а не так жить, что самим на свет стыдно смотреть… Губители вы, душами-то христианскими, как бабками играете: сшиб одну – хорошо, сшиб пяток – еще лучше… Душегубцы!..
Я молчал и торопился дойти до могилы отца, чтобы скорее началась панихида. Я чувствовал, что если я заговорю с отцом Иваном, то ни он не поймет меня, ни я не пойму его. Его брань можно было только слушать, признавая ее вполне заслуженною, или самому браниться с ним, не признавая вовсе ни его самого, ни его воззрений. Это фанатик, с которым нельзя спорить, совещаться. Отслужив панихиду и увидав на моих глазах слезы, он проговорил:
– Да, вот и кайся, кайся! Да грех-то свой загладь. Слезы-то – вода; греха ими не загладишь. Что, поди, ребенка скоро приживешь со своей любовницей? Что ж, так он и будет незаконным…
Отец Иван употребил крепкое словцо, бросившее меня в жар.
– Или неровня она, так нельзя жениться? А когда соблазнял ее, тогда ровней была? Поди, и не подумал тогда, кто она. Или не знал? Кабы ты здесь у меня жил, да к исповеди пришел бы ко мне, причастья бы я тебе не дал, покуда греха не загладил бы. У вас-то там только попы-поблажники хвостами перед вами виляют, а вы ими командуете: кровосмесителю тело христово готовы дать.
Он, сурово нахмурив брови, не прощаясь со мною, даже не глядя на меня, пошел прочь от могилы… Сам не знаю, почему мне стало невыносимо тяжело, и в моих ушах продолжало звучать грубое, циничное название, данное отцом Иваном моему будущему ребенку. Неужели в будущем когда-нибудь кто бы то ни было бросит в лицо этому ребенку эту кличку? Ах, скорей бы мне вырваться отсюда, воспитать хотя немного Полю и кончить все женитьбой, узаконив ребенка. Если даже и не удастся поднять Полю, я все же должен жениться на ней: нужно же заплатить за свои необдуманные поступки, нужно же приносить искупительные жертвы за свои промахи…»
«То же число… Я возвратился домой с кладбища в самом тяжелом настроении духа и пробрался к себе через сад, чтобы не видеть никого, чтобы побыть одному. Усевшись в своем кабинете, я слыхал громкие голоса в комнате Поли и сделался невольным свидетелем неприятной домашней сцены: объяснения Поли с отцом. Прокофий в последнее время страшно пьет, как я узнал из разговора с ним Поли. Она не знала, что я дома, и потому не сдерживала своего голоса.
– Стыдитесь вы! Вы нынче из кабака не выходите! – кричала она на отца. – Все деньги у меня перетаскали да еще просите. Нет у меня!
– Спроси у своего полюбовника, – пьяным голосом говорил Прокофий. – А не то я тебя!..
– Да с чего вы взяли, что я грабить Егора Александровича буду? – крикнула она. – И без того ради меня целую орду кормит. Ему и одного слуги довольно бы. Держит вас всех, потому что вы моя родня. А я еще стану его обирать. Ни гроша! Слышите, ни гроша вы от меня не получите!
– Ну, так я и сам спрошу, – решил Прокофий. – А тебе уж быть битой! Осрамила нас, да еще лаяться смеешь. На кого? На отца!
– Не я вас срамлю, а вы меня срамите! По кабакам шляетесь. Да если бы Егор Александрович узнал, духу вашего здесь не было бы.
– Посмотрел бы я, кто меня выгонит! Ну, выгонит, так и ты должна за мной идти. Я отец, я власть имею…
– Сейчас убирайтесь вон! – закричала Поля. – Вот придет Егор Александрович, все расскажу ему и скажу, чтобы вас выгнали! Терпения моего больше нет!..
Я ушел, чтобы не слушать дальше. Я впервые узнал, что Поля, вероятно, выносит немало подобных сцен. Вечером я заговорил с нею об этом, чтобы успокоить ее и вместе с нею обдумать, что делать. Она открыла передо мною целую картину закулисных дрязг в моем доме, которых я и не подозревал.
– Ничего не видя еще, все уже насесть хотят! – наивно проговорила она. – Что же я, грабительница, что ли?
Она стала рассказывать мне, как вся ее родня пристает к ней, чтобы выпросить у меня денег для себя, для своих свояков, родственников, крестников.
– Если бы все-то исполнять, так у нас гроша не осталось бы. Да я скорее руки на себя наложу…
– Полно, Поля, – остановил я ее.
– Да, как же! Думают, что я живу с вами, так и должна грабить вас для них… Выгнать бы их вон всех, вот и конец…
– Поля, что ты говоришь! – сказал я. – Ведь это все старые люди. Куда они пойдут? Я взял их не ради тебя, а ради того, что они десятки лет служили у нас и теперь едва ли могут где-нибудь пристроиться. Их надо устроить.