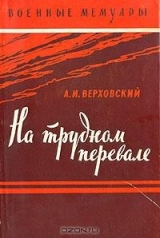
Текст книги "На трудном перевале"
Автор книги: Александр Верховский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Я, однако, приехал не для того, чтобы слушать пусть даже и интересные анекдоты. Меня интересовало, почему артиллерия не поддерживает атаку пехоты и стоит в десяти верстах от противника.
– Почему вы не переедете ближе? – спросил я, вспоминая полковника Комарова, который с конвоем, наверно, передвинул бы артиллерию вслед за своим полком. [92]
– Александр Иванович, дорогой, – всполошился Макалинский. – Да мы с нашим удовольствием. Но ведь нет приказа на переезд, и вся артиллерия корпуса стоит так же, как и мы, без дела. Может, вы чем-нибудь поможете, ведь пехота без нас шагу сделать там впереди не может.
– А вы пробовали напомнить о себе? – спросил я.
– Как не пробовали! Я лично звонил начальнику артиллерии корпуса, а он сел на воздушный шар и улетел в небо. Видите, вон он качается наверху.
Действительно, вдалеке виднелся воздушный шар.
– Сколько у вас снарядов? – спросил я.
– Полный комплект, ночью пополнили.
– Когда можно будет возобновить наступление?
– Когда наступать... – протянул он. – Да вот... когда вся корпусная артиллерия перейдет вперед. А пока 130 орудий стоят неизвестно зачем в десяти верстах в тылу.
Причина неудавшегося наступления лежала вовсе не в невозможности наступать, а в том, что местное командование не умело использовать имевшиеся в его распоряжении силы. Я невольно задумался о том, как бы просто был решен вопрос, если бы не маленький офицер Генерального штаба, а сам командующий побывал на поле боя и, выяснив все, дал бы на месте необходимые указания. Добравшись до штаба корпуса, я сделал по Юзу предварительный краткий доклад о том, что видел, и только было собрался ехать в Дунаевцы, как нарастающий грохот артиллерийской перестрелки привлек мое внимание.
Создавалось впечатление, что противник готовится атаковать высоту 382, занятую Рыльским полком. Опасаясь, что там происходит что-то неладное, я решил заехать на участок Рыльского полка.
По мере того как автомобиль мчался к месту нового очага боя, артиллерийская канонада разгоралась все сильнее и сильнее. По дороге нам стали попадаться солдаты, отходившие на восток. Около одной из групп я остановил машину и спросил проходивших солдат, неужели они оставили высоту 382. Высокий солдат, находившийся ближе других ко мне, поднял на меня глаза. «Это кто оставил высоту, рыльцы что ли? Рыльцы не отступят!» [93] Он отвернул полу надетой внакидку шинели и показал забинтованную грудь.
На командном пункте полка я застал начальника штаба корпуса генерала Май-Маевского, жестоко спорившего с командиром 9-й кавалерийской дивизии генералом князем Бегильдеевым, опередившим свою дивизию, подходившую к полю боя. День клонился к вечеру. Солнце спускалось к горизонту, из-за которого гремели немецкие пушки, и было ясно видно наступление пехоты, каски которой временами мелькали на фоне закатного неба. Рыльский полк в двухдневном бою понес тяжелые потери, и положение его было трудным.
Между тем подход конного корпуса задерживался. Генерал Раух, верный своим обычаям, послал вперед одну дивизию, а от этой 9-й дивизии выделил всего один полк – каргопольских гусар.
Суровый, но твердый старик, каким был генерал Май-Маевский, видел один только выход из положения. Он говорил Бегильдееву:
– Вы должны с наличными силами атаковать противника в конном строю и отбросить в исходное положение. Это задержит его до утра, а на рассвете подойдет генерал Раух со своими дивизиями.
Бегильдеев возражал со всей страстностью:
– Вы шутите, ваше превосходительство. Разве вы не видите, что наступает темнота, что все поле изрыто окопами и опутано проволочными заграждениями. Здесь не только коннице, но и пехоте атаковать невозможно.
– Я вижу только одно, – спокойно, но настойчиво возражал Май-Маевский, толстый, стоявший на своих коротких, как тумбы, ногах, – что мы все служим нашему императору – и пехота и конница. И если пехота может сидеть и погибать в окопах, то и конница, спасая пехоту, может сделать невозможное. Я вас предупреждаю, что в случае отказа я немедленно телеграфирую, что вы струсили и отказались атаковать, как на Днестре.
Насквозь пропитанный предрассудками своей касты и подхлестнутый напоминанием о конфузе на Днестре, Бегильдеев насупился:
– Нет, ваше превосходительство, конница не трусит. У каргопольских гусар выбило за войну народу не меньше, чем в любом пехотном полку.
– Если так, то вы имеете случай показать, что говорите [94] не пустые слова, – твердо произнес Май-Маевский. – Вы должны отбросить германскую атаку.
Не говоря больше ни слова, Бегильдеев повернулся, сел на коня и, с места подняв его в галоп, скрылся из виду. Несмотря на свои пятьдесят пять лет, он сохранил ту молодость и гибкость движений, которая присуща кавалеристам.
Бегильдеев подскакал к квартиро-биваку каргопольских гусар. У них был полковой праздник, и, несмотря на походную обстановку, полк раздобыл вина; все – от командира до молодого гусара, забыв об окружающем, о том, что их ждет впереди, проводили минуту досуга за чаркой вина и веселой песней. Бегильдеев сошел с коня и замолкшему с его появлением собранию коротко приказал:
– Кончить праздник. Государь и родина требуют от вас подвига. Немцы окружают Рыльский полк на высоте 382. Ваш полк пойдет в атаку, опрокинет немцев и спасет рыльцев.
Офицеры были навеселе. Гусары тоже. Они пели песни о былой славе полка, о смелых атаках, о захваченных у врага орудиях и пленных. Приказ атаковать был встречен восторженно. Но Бегильдеев готовил полк к смерти. Он хотел, чтобы осталось ядро славного полка, вокруг которого можно было бы воссоздать часть в случае её гибели, и приказал:
– Выделить от каждого эскадрона по одному офицеру и по десять гусар. Полк должен жить. Господа офицеры, проститесь друг с другом, но... без победы не возвращаться.
Все было сделано, как приказал Бегильдеев. Офицеры и гусары простились друг с другом. Командир полка подал команду «По коням», и через несколько минут полк двинулся за своим командиром. Почти в полной темноте он вышел в исходное положение, развернулся и на рысях пошел в атаку через поле, только что оставленное бежавшей пехотой.
Немцы заметили угрозу слишком поздно. Всадники выросли перед ними как из-под земли. Зажглись прожекторы. Взвились ракеты. Каргопольцы под бешеным ружейным и пулеметным огнем противника перешли на галоп и понеслись вперед. Кони и люди проваливались в ямы, опрокидывались на проволочных заграждениях, [95] но остальные продолжали нестись вперед, и тени, отбрасываемые длинными лучами прожектора, мчались за всадниками, как привидения.
Немцы заколебались, затем колебание переросло в панику, которую уже ничто не могло остановить. Противник был смят ураганом атаки, а каргопольцы, к удивлению, потеряли только 45 человек и 120 лошадей. Положение было восстановлено: Рыльский полк удержался на позициях. Но когда полк собрался, на гусарах и офицерах не было лица. Хмель прошел в атаке, и пережитый ужас на много дней вывел полк из строя.
Я вернулся в штаб, чтобы доложить командующему, что я видел, и предложить меры для продолжения наступления. Но в штабе я узнал, что соседняя армия снова не только приостановила наступление, но и оттянула свои корпуса назад. Баумгартен извещал, что он ничего не мог сделать. Значит, на следующий день на помощь его армии рассчитывать не приходилось.
То же происходило и в штабе 9-й армии. Лечицкий уже два раза хотел приостановить наступление, и оба раза его удерживали Головин и Суворов. Именно теперь, когда обозначился первый успех, можно и нужно было добиваться решающих результатов, которые заставили бы противника оттянуть резервы от 8-й армии Брусилова, все еще имевшей перед собой почти двойное превосходство сил противника и продолжавшей отступать.
Лечицкий маленькими нервными шагами ходил по оперативному отделу и ворчал: «Дикие мы люди!.. Неумные люди!.. Из лесу вышли! Когда мы научимся воевать?» Командующий пока не произнес своего решения, но чувствовалось, что еще минута, и он так же, как и его сосед Щербачев, отдаст приказ об отходе.
– Николай Николаевич, – обратился я к своему генерал-квартирмейстеру, – не сочтете ли вы возможным переговорить со штабом фронта и просить его вмешаться в ход операции, ведь она давно переросла рамки армейской. Войска совершают легендарные подвиги, но так как высшие штабы не руководят этими войсками, не хотят видеть того, что делается вокруг, все усилия пропадают зря.
Головин холодно посмотрел на своего не в меру горячего [96] подчиненного и возразил вежливо, как всегда:
– Я не могу вмешиваться не в свое дело. Главнокомандующий справедливо скажет, что я ему навязываю свое мнение.
Видя, что в обычном порядке ничего сделать нельзя, я решил прибегнуть к испытанному средству и лично переговорить со штабом фронта, Я вызвал к аппарату капитана Рябцева.
«Хочу побеседовать с вами, дорогой Константин Иванович, на тему, которая волнует меня и вас, конечно, одинаково, – передавал я ему. – Я говорю без ведома моего начальства, но молчать в такую минуту невозможно. Вы, конечно, следили за тем, что у нас делается. Противник, который нас атаковал, опрокинут и отступил на целый переход, оставив в наших руках 70 тысяч пленных и 33 орудия. Но дальнейшее наступление задерживается из-за несогласованности действий между армиями. Теперь фронт должен взять на себя руководство дальнейшим развитием действий и нашим успехом помочь 8-й армии. Я знаю, что и старшие у нас держатся такого же мнения, но не хотят лично говорить с командованием фронта, боясь, что их одернут».
Я кончил и стал ожидать ответа Рябцева. Положение фронта оценивалось генералом Ивановым совсем по-другому. Успех 9-й и 11-й армий рассматривался как частный успех, и опасность по-прежнему висела над участком Брусилова.
«Позвольте, – снова застучал я, – ведь в бой у нас втянуто пять корпусов на фронте в 120 километров. Если его развивать дальше, успех перейдет в полный разгром австрийцев».
Рябцев согласился, обещал доложить об этом генерал-квартирмейстеру фронта и через два часа вызвал меня к аппарату.
«Сделать ничего не удалось, – равнодушно выбивала лента. – Главнокомандующий считает, что все происходящее у вас не может иметь серьезного значения, да и патронов маловато. Общей директивы на наступление он не даст».
Аппарат продолжал стучать, не выбивая букв. Видно, Рябцев хотел еще что-то сказать, но не решался или не мог подобрать слова. Но вдруг на ленте появились слова: [97]
«Сердцем и умом разделяю и сочувствую всему тому, что вы мне сказали... Если бы вы знали, какая здесь царит затхлая атмосфера, вы бы поняли весь ужас, охватывающий каждого нового человека. Вам известно первое лицо штаба (Рябцев имел в виду бывшего начальника штаба жандармов генерала Саввича). По-видимому, главным доводом является то, что начальство, как сказал генерал Иванов, не даст капитанам командовать фронтом».
В тот же вечер Лечицкий и Щербачев отдали приказ об отходе. Брусилов, ожидая прибытия подкреплений, тоже продолжал катиться на восток.
Через месяц же, когда противник пришёл в себя, подбросил свежие силы и укрепился, главнокомандующий приказал сделать то, что так легко было сделать в сентябре. Но то, «что упущено в одно мгновенье, – как писал Шиллер, – целая вечность не может восстановить». Все атаки кончились полной неудачей, войска понесли тяжелые потери, и тот порыв, который поднял их в наступление в сентябре, перешел в жуткое озлобление.
Через несколько дней после окончания наступления генерал Лечицкий получил сообщение о том, что император взял на себя верховное командование, отправив Николая Николаевича командовать войсками Кавказского фронта. Начальником штаба главного командования был назначен генерал Алексеев{14}.
Новый верховный главнокомандующий пожелал лично познакомиться со своими войсками и прибыл в 11-ю армию; генерала Лечицкого пригласили присутствовать на смотре и представиться государю. Суровый старик после всего пережитого не хотел видеть своего императора. Он приказал доложить Николаю, что положение на фронте армии не позволяет ему отлучиться ни на час, хотя у нас царило то, что называют полным затишьем.
В это время повернулось и колесо моей судьбы. Я получил назначение в штаб 7-й армии. Это не радовало и не печалило меня. Правда, мне тяжело было оставлять друзей, с которыми я сжился в трудные дни операций в Галиции, но нравственно я так измучился нелепостью того, что мне пришлось видеть, что был рад какой угодно перемене. [98]
Товарищи тепло проводили меня. Братья Ракитины утешали:
– Ничего, Александр Иванович, ничто не помешает нам одержать победу над Германией и Австрией. Физические и моральные силы их будут истощены раньше, чем наши, и это приведет к страшному кризису, который мы используем как нужно.
Но Суворов качал головой:
– Дорогие друзья, я с горечью должен сказать, что ваши предположения – лишь прекрасная мечта. Вот послушайте, что пишут социал-демократы, – и он показал нам листовку Петроградского комитета большевиков, найденную в одной из рот 11-го корпуса. «Снова вас оторвали от ваших семей, – говорилось в этой листовке, – дали в руки ружье и послали защищать престол и отечество от врагов. Вам говорят, что враг – немцы. Они, дескать, напали на нашу страну и угрожают все поработить и разграбить. Но разве мы свободны? Разве над нами не свищет полицейская нагайка? Разве царские слуги не бросают нас в тюрьмы, когда мы боремся за лучшую долю для наших жен и детей? Братья рабочие, вы знаете, что это делает царь Николай со своими помещиками, полицейскими и казаками».
Суворов покачал головой и грустно сказал:
– Русский народ не забудет того позора и ужаса, который мы пережили в 1915 году. Мы идем прямой дорогой к революции. [99]
Война на Черном море. 1916 год
В марте 1916 года я был назначен во флот, в штаб десантного отряда. Мерно постукивая колесами, скорый поезд вез меня в Севастополь. После тяжелых боев в Галиции я ехал в Крым, к берегам теплого Черного моря. Ночью поезд миновал Мелитополь. Стоя у окна вагона, я смотрел на залитую лунным светом степь и ждал восхода солнца и прихода весны. Мне не хотелось пропустить ни одной картины Крыма, который я любил за голубое, сверкающее на солнце море, за силуэты гор в синеве неба. Вспомнились красивые слова Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но в свете пережитого эти слова звучали насмешкой. Трудно было себе представить более кощунственное зрелище, чем война: враждующие армии поставили в первой линии тысячи стрелявших друг в друга орудий, а за ними во второй линии высились шеренги алтарей, за которыми служители Христа – бога «всепрощения и любви» – звали свою паству истреблять друг друга. Пушки и алтари были равноценным оружием войны.
В надвигавшемся голубом рассвете я вспоминал длинные ночи, проведенные в боях в Галиции. В эту зиму страшна была не смерть, даже не рана. Страшна была жизнь в сырых, промозглых окопах. Страшна была грязь, облепившая все – лошадей, окопы, землянки, грязь, из которой, казалось, нет выхода. Страшны были не столько снаряды врага, сколько свирепствовавшие болезни. И в этом аду люди все же стремились к свету и счастью. Сквозь холод и туман, сквозь непрерывную [100] опасность смерти в душе из бесконечно далекого прошлого вставали аккорды скрипок Большого театра, звучала «Лунная соната» Бетховена; перед умственным взором проносились классические танцы Шопенианы. Выходит, прав был Короленко: человек создан для счастья, а не для боев в галицийских болотах. Как могло человечество придумать такую мерзость, как война? Я ездил зимой на несколько дней в отпуск домой, и этот вопрос мне поставил мой шестилетний сын:
– Папа, – говорил он, – почему война?
– Мы защищаем свою родину.
– Папа, но ведь и немцы защищают свою родину.
Это была сказка, которой не верили даже дети! И все же я прятался от необходимости решить этот вопрос за старую дырявую ширму: «Если мы будем разбиты, немцы оставят нам одни глаза, чтобы оплакивать наш позор».
Поезд стремительно мчался вперед. Заалели вершины гор под Бахчисараем; за Мекензиевыми горами на горизонте показалась и тотчас скрылась полоска голубого моря. Потом, за новым поворотом, море снова открылось, уже ближе, больше и шире.
В Галиции была еще зима. Снег еще лежал в окопах. В Крыму же весна, торжествуя, вступала в свой права. Поезд, сделав крутой поворот, проскочил несколько туннелей у Инкерманских скал и спустился к Севастопольской бухте. Прозрачная голубовато-зеленая вода, теплая и ласковая, плескалась у самого полотна железной дороги. На поворотах пути бухта раскрывалась вся, и вдали был виден широкий морской простор. В самой глубине залива стояла Черноморская эскадра. К старым, но еще мощным линейным кораблям присоединились только что законченные постройкой дредноуты «Мария» и «Екатерина». Приземистые, с низкими мощными башнями, с широкими трубами, эти два корабля делали русский флот безусловным хозяином на Черном море. У стенки, тесно прижавшись друг к другу, выстроились эскадренные миноносцы, высоко подняв над водой острые, как бритва, носы. Посреди бухты стояли суда всяких наименований и назначений: авиаматки и крейсера, транспорты и юркие посыльные корабли. Все вместе взятое представляло собой грозную морскую силу. Солнце только что взошло и освещало флот нежными [101] лучами, едва пробивавшимися сквозь дымку утреннего тумана. Радостно было сознавать свою принадлежность к этой могучей морской силе. Еще поворот, и поезд, проскочив туннель, подошел к нарядному дебаркадеру станции Севастополь.
Я бывал здесь в мирное время, в радостные для меня дни веселья и отдыха после окончания военной академии. И теперь я в душе надеялся, что в Севастополе будет легче жить и работать, чем в Дантовом аду зимней кампании в Галиции. Но это настроение сразу же было разбито суровой действительностью войны, В то время как я высаживался на вокзале, в бухту входил эскадренный миноносец «Жаркий». Его вел высокий и красивый юноша, смелый моряк и любимец женщин лейтенант Веселаго. «Жаркий» возвращался от берегов Кавказа, и после его прихода по городу пронесся крик боли и негодования. Немецкая подводная лодка торпедировала госпитальное судно «Портюгаль», на котором в качестве сестер милосердия плавали жены, матери и сестры севастопольских моряков. «Жаркий» находился как раз в районе, где произошла трагическая гибель судна, и подобрал плававших на воде матросов. Один из спасенных, молодой матрос, рассказал примерно следующее. Он находился в кормовой части, помогая поднимать на палубу раненых, доставленных с берега на санитарных баркасах. «Портюгаль» стоял на якоре. Было утро, и его белые трубы с большими красными крестами ясно различались километров за десять. Вдруг неподалеку от «Портюгаля» показался сначала перископ, а потом и вся немецкая подводная лодка. Так как знаки Красного Креста согласно международным, всеми признанным обязательствам обеспечивали кораблю неприкосновенность, все спокойно смотрели на маневры подводной лодки, которая не спеша и в полной безопасности обогнула безоружный корабль и застопорила ход не более чем в 400–500 метрах от него. Сестры в белых косынках и врачи стояли у борта, глядя на это редкостное зрелище. Вдруг от лодки отделилась полоска белой воды и стала стремительно приближаться к борту «Портюгаля». С командного мостика раздался тревожный крик вахтенного офицера: «Мина!» Но было уже поздно! Немецкая торпеда ударила корабль в середину. Раздался взрыв, и огромный столб воды поднялся в небо. Корабль [102] переломился пополам и быстро стал погружаться серединой в воду. Раздались истерические крики женщин, команды; вспыхнула паника, но все это длилось одно мгновенье. По скату палубы, быстро погружавшейся в пучину моря, люди скользили вниз, напрасно цепляясь за поручни, за выдающиеся предметы. Нос и корма корабля высоко поднялись в воздух и затем так же стремительно ушли в воду. Немцы, не предупредив судно о нападении, лишили команду всякой возможности сделать что-либо для спасения раненых, жалобные крики которых напрасно оглашали воздух. Вода скрыла все! Спаслись несколько человек, находившиеся во время минной атаки на корме; они успели спрыгнуть в воду и спаслись, уцепившись за всплывшие после гибели «Портюгаля» плавучие предметы.
Что думал, что чувствовал зверь, нажавший рычаг спускового приспособления минно-торпедного аппарата, когда он без предупреждения топил корабль? Видно, командир лодки был одним из тех, которые несколько лет спустя создали национал-социалистическую партию Германии, отбросив большую и культурную страну к временам средневекового варварства...
Я был назначен в распоряжение адмирала Каськова; высадкой с моря предполагалось овладеть крепостью Трапезунд.
Адмирал Каськов, маленький сухой старичок, всегда чисто выбритый, с густыми еще волосами цвета «перца с солью», живой и впечатлительный, был одним из передовых людей Черноморского флота. Он мечтал о прорыве через Босфор в Средиземное море, о том, чтобы уничтожить пробку, запиравшую Черное море, и открыть России возможность получать помощь развитых промышленных стран для ликвидации недостатка оружия и боеприпасов.
Адмирал держал свой флаг на бывшем пассажирском пароходе «Александр Михайлович», до войны ходившем на линии Одесса – Константинополь. Это был элегантный небольшой кораблик с веселой нарядной кают-компанией, отличными каютами, прекрасными палубами для прогулок. После грязи окопов и холода Галиции мне показалось, что я попал в рай. Здесь даже сама война не казалась такой ужасной. По внешнему виду все не походило на то, к чему я привык во время [103] своей службы на сухопутье. Всему надо было переучиваться. Я был помещен не в комнате, а в «каюте». Ходил не по полу, а по «палубе». Спускался к себе не по лестнице, а по «трапу». Открывал не окно, а «иллюминатор». Натыкался на палубе не на груды веревок, а на «бухты концов». Надо мною смеялись, что я не знаю, что такое бак и шторм-трап, камбуз и гальюн. Мне предстояло познакомиться со свойствами боевых и небоевых кораблей и установить их ценность в десантной операции, в борьбе за берег, изучить опыт десантных операций прошлого, помня о неудаче, совсем недавно постигшей союзников у Дарданелл.
Жизнь во всех деталях отличалась от того, что было на сухопутном фронте, и в то же время здесь тоже давала себя чувствовать самая настоящая война; мирная и боевая жизнь взаимно переплетались.
Через несколько дней после моего приезда в Севастополь в морском собрании был вечер. Катера доставляли офицеров с боевых кораблей к прекрасным дорическим колоннам Графской пристани, невольно переносившим всякого, кто поднимался по её широким ступеням, в ту отдаленную эпоху, когда на берегу Севастопольской бухты стояла еще греческая колония Херсонес.
С Графской пристани открывался вид на небольшую нарядную площадь морского собрания, также украшенного дорическими колоннами, поддерживавшими балкон, с которого площадь, бухта и находившиеся в ней корабли были как на ладони. Для вечера большой белый зал морского собрания был освещен ярко горевшими огнями люстр. Офицеры в парадной форме, дамы в бальных туалетах. Все это поражало после окопов Галиции.
В зале оркестр заиграл вальс; пары закружились по блестящему паркету. Золотые аксельбанты и эполеты, черные сюртуки офицеров, шорох шелка, обнаженные плечи и блестящие глаза дам. Мне казалось, что я перенесен в другой мир, где нет ни ужасов войны, ни ежеминутно-караулящей смерти. На память пришли стихи Бунина:
Похолодели лепестки Раскрытых губ – по-детски влажных. И зал плывет, плывет в протяжных Напевах счастья и тоски. [104] Сиянье люстр и зыбь зеркал Слились в один мираж хрустальный. И веет, веет ветер бальный Теплом душистых опахал.
Только плотно завешенные окна зала, не пропускавшие ни одного луча света наружу, напоминали о войне. Нельзя было дать противнику возможности заметить с моря город и внезапно обстрелять его из тяжелых морских орудий.
После легкого ужина в уютной столовой морского собрания, когда короткая весенняя ночь подходила к концу, все стали расходиться. Я вышел на Приморский бульвар подышать свежил воздухом моря. Солнце еще не взошло, но было светло. Сидя над морем, я смотрел, сначала не обращая внимания, а потом с интересом на работу тралящего каравана, шедшего вдоль фарватера и очищавшего от мин вход в бухту.
Вскоре на горизонте показались дымы возвращавшейся эскадры. Шли могучие линейные корабли, и впереди них дозорные эскадренные миноносцы. После тяжелого похода на эскадре вздохнули свободно. Севастополь был уже на виду. Можно было разглядеть морское собрание. Все ожидали заслуженного отдыха. Эсминцы вошли в протраленный фарватер. Вдруг раздался оглушительный взрыв, и головной эсминец скрылся в огромном столбе воды, стремительно взвившемся в небо.
Все шедшие за ним корабли начали разворачиваться, чтобы уйти в море, так как никто не мог сказать, почему произошло несчастье; подводная лодка врага, поразив один корабль, быть может, продолжает караулить где-нибудь поблизости.
Через минуту, показавшуюся вечностью, дым и пар рассеялись, на поверхности не осталось даже следов корабля, поглощенного морем. Тралящие суда бросились к месту гибели и вытащили несколько мин с надписью «Христос воскресе!» Я вспомнил, что в этот день действительно была пасха. Подводная лодка немцев незаметно прошла вслед за тралящим караваном и поставила мины перед носом входившей на рейд эскадры. Ни один из моряков не был спасен. Жены и матери, ждавшие своих мужей и сыновей, никогда больше не увидят их!
Да, война на море была совсем не та, что на суше, [105] но тем не менее это была война. Силы русского флота значительно превосходили силы турок и немцев на Черном море. У противника было всего два крейсера – «Гебен» и «Бреслау» и 4–5 подводных лодок. Но противник делал все, что хотел. Его корабли бомбардировали безнаказанно русские приморские города, топили транспорты, атаковали одиночные корабли{15}.
В уютной кают-компании «Александра Михайловича» один из молодых офицеров штаба лейтенант Левгофт рассказал мне о том, что творилось во флоте.
Флотом командовал адмирал Эбергард, тот самый, который бесчеловечно подавил вспыхнувшее в 1912 году, после семилетнего затишья, революционное движение черноморских моряков. Про него никто не мог сказать, что он отличается чем-нибудь другим, кроме выдающихся способностей жандарма. Растрепанные бакенбарды и усталые глаза старого, хорошо пожившего барина, вялая походка, орлы на эполетах и самонадеянное, надменное выражение лица – вот портрет этого адмирала. Он мало смыслил в военно-морском деле и был бессилен справиться с теми огромными задачами, которые на него взвалила война.
Но Николай II поддерживал этого вешателя именно за то, что в трудную для трона и династии минуту он мог рассчитывать на Эбергарда. Как в свое время Аракчеев, Эбергард подавлял самостоятельную мысль своих офицеров и добился того, что они не смели делать ничего, не получив на это предварительно его «высокой» санкции.
Как-то раз после обеда я застал Левгофта на палубе «Александра Михайловича». Удобно усевшись в парусиновых креслах, мы смотрели на искрившееся под весенними лучами солнца море, и Левгофт поведал мне, как был упущен случай утопить «Гебен» – главного противника русского флота на Черном море.
– Вы знаете, – говорил он, – что все море перед Севастополем заминировано. Мины можно взрывать током с берега. В случае надобности, когда в бухту входят свои корабли, ток выключается, и мины опасны не более чем грецкие орехи. В ту знаменательную ночь, о которой я рассказываю, ждали прихода своих миноносцев, и ток был выключен. Миноносцы задержались в море. Начался рассвет, туман стал рассеиваться. [106]
Вдруг офицер, наблюдавший за минными заграждениями, к удивлению и радости, увидел, что прямо на них идет «Гебен». Достаточно было включить ток, и корабль, доставлявший столько бед, взлетел бы на воздух. Но без приказа офицер не имел права сделать это. Он позвонил в штаб крепости. Дежурный пошел будить начальника штаба. Пока его разбудили, пока он спросонья сообразил, что происходит, и отдал приказ включить ток, «Гебен» благополучно ушел с минного поля и, сделав несколько выстрелов по городу и крепости, скрылся в туманной дымке. Флот приучен ничего не делать без приказа свыше!
Я заметил, что такое же воспитание характерно и для сухопутных войск.
– Вам хорошо говорить: характерно. Но ведь морская служба немыслима без самой широкой, самодеятельности. Уж на что чисто техническое дело – уход за башней. Но когда в это не вкладывается добрая воля, то башни отказывают в самый нужный момент. Недавно мимо Херсонесского маяка шли наши линейные корабли, имея головным «Пантелеймона». Был туман. Внезапно, как это бывает, туман рассеялся, и на расстоянии 20 кабельтовых прямо по носу эскадры появился «Гебен». Он имел восемь 11-дюймовых орудий, а на эскадре было двенадцать 12-дюймовых пушек. Перевес был явно на нашей стороне, но в кильватерном строю огонь по носу может вести только одна башня головного корабля, пока корабли не развернутся в строй фронта. Нужно было сразу открыть огонь хотя бы из одной носовой башни «Пантелеймона». Но не тут-то было. Башня не действовала. В электропроводке произошла какая-то авария. Пока наши корабли развернулись, «Гебен» сделал несколько выстрелов по «Пантелеймону» и ушел, скрывшись в тумане.
– Это какой «Пантелеймон»? – спросил я. – Он не назывался в 1905 году «Потемкиным»?
– Он самый. По нему жестче всего прошлась метла и в 1905 году; однако через семь лет на нем снова сосредоточились наиболее активные революционеры. Собрание делегатов, готовившее восстание в 1912. году, решило, что и на этот раз он должен возглавить движение. Но провокатор выдал. [107]
– Пожалуй, в результате именно этих разгромов корабль оказался недостаточно боеспособным?
– Конечно, так.
Я с грустью должен был признать, что во флоте господствовали те же нравы, что и на сухопутье, и с теми же результатами.
Вскоре после этого нашего разговора с Левгофтом началась операция по овладению Трапезундом.
В приветливый вечер 3 апреля посыльное судно под флагом начальника высадки вышло из Севастополя в Батум; адмирал Каськов должен был вступить в командование соединенными силами армии и флота, назначенными в операцию. В Севастополе погода стояла тихая, но едва повернули за Херсонесский маяк на юго-восток, «Александра Михайловича» стало трепать безжалостно.
Длинные, пологие волны шли одна за другой под углом к курсу корабля. «Александр Михайлович» тяжело взбирался на гребень, потом, медленно перевалившись на левый борт, скатывался вниз. Волны ударяли в борт корабля и обдавали палубы тучей брызг, летевших по ветру до самого капитанского мостика.








