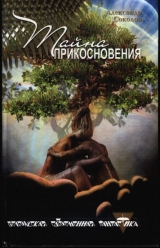
Текст книги "Тайна прикосновения"
Автор книги: Александр Соколов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Потом Санька был приглашён вожаками района на «дело». Нужно было поставить на место зарвавшегося Наглика. кличка у парня такая. Тот на улице Урицкого сколотил свою бригаду и посмел обидеть ребят, близких к Близнецам. Надо думать, что братья не посчитали момент серьёзным и подготовились к разборке плохо. Десять человек их «бригады» стали прочёсывать слабо освещённую улицу в холодный декабрьский вечер. Наглик вывел на свою улицу, которую знал, как свои пять пальцев, в два раза больше, вооружив своих «солдат» палками и пустыми бутылками. Вот одна-то из этих бутылок и угодила в голову нашему Саньке… Я не успела в темноте проследить её полёт, но шапка смягчила удар, парень упал на землю, к нему подбежали трое противников: пытаясь бить его ногами, они стали падать, недоумевая, что с ними происходит. Я старалась как могла. Но всё– таки пару раз по лицу ему попали. Ватага понеслась дальше по улице, а Санька, шатаясь, с окровавленным лицом, постучался в первую же попавшуюся квартиру на первом этаже. Дверь открылась и тут же захлопнулась. Так, прижимая окровавленный шарф к разбитому глазу и носу, он и просидел в подъезде, пока не оправился от шока. Близнецы всё-таки восстановили свой поруганный авторитет, Наглик был нещадно избит, а затем, попавшись за воровство, сел в тюрьму. Санька же рассказывал всем в техникуме, что его разбитое лицо – результат удара хоккейной клюшкой. С этого случая он не участвовал больше в «боевых вылазках», но на танцах в обществе Близнецов появлялся регулярно.
– Слушать тебя интересно, Амелия. Подумать только, какой интересной жизнью ты живёшь! Так что, выходит, нет власти в городе, коль такое творится? В своё время, после войны, Жуков в Одессе разрешил переодетым и вооружённым офицерам отстреливать грабителей и бандитов на улицах. Он выпускал их в ночное время, как приманку.
– Власть занята своим делом, а народ – своим. После амнистии Хрущёва, знаешь, сколько выползло на волю зэков? Это они несут в народ лагерную культуру, лагерный сленг и лирику. В каждом дворе можно увидеть парнишку с гитарой, которого окружает детвора, слушающая лагерный шансон и постигающая законы лагерного общака. Кажется, от вождей до вожачков, вся страна пропитана презрением к нижестоящему, слабому.
– Ну ты и даёшь, Амелия! Откуда такие подробности?
– Из города, подружка, из города! Здесь всё это не так заметно. Ну, к примеру, видела ли ты кровавые драки в самом центре города, когда одна толпа идёт стеной на другую? Потом побеждённые убегают, вскакивают на ходу в едущий трамвай, их догоняют и начинают добивать прямо в трамвае! Когда Хрущёв опомнился, то предоставил возможность общественности навести порядок. Срочно стали создаваться народные дружины на предприятиях, в городских районах. И в них первыми пошли вчерашние бандиты. Оказалось, что с повязкой на рукаве можно усмирить любого своего соперника.
– Да чёрт с ними! Страна диких, испуганных чиновников когда-нибудь закончится, вот посмотришь. Начнётся страна бесстрашных и непуганых – и горе ей будет до тех пор, пока вся чиновничья рать не станет людьми нормальными, работающими на народ. Ты лучше скажи, какие Амуры посещают нашего подопечного?
– О! Здесь Санька совсем запутался! На Новогоднем праздничном вечере они со Стасиком Крутских, его товарищем, танцуют по очереди с Шурочкой Куприяновой, весёлой хохотушкой, не совсем выговаривающей букву «р». У Саньки окажется её косынка, и он достанет ее ночью из кармана, положит на лицо и станет, засыпая, вдыхать смешанный аромат её тела, волос и духов. Стас начнёт отнимать у него косынку, и завяжется борьба, они опрокинут все стулья. Глухой Лука ничего не услышит, а встревоженная баба Настя явится на пороге.
Затем у него появится некая Рита, миниатюрная блондинка с большими, пугающими глазами. Он познакомится с ней на танцах, будет провожать её до дома, боясь прикоснуться к лёгким, цвета льна волосам. А потом окажется, что она пьет всё, что ей нальют, что спит со многими и за его спиной насмехается над нерешительным кавалером.
А совсем недавно, в «Карлухе», он познакомился с Ниночкой, девочкой необыкновенной красоты. У неё глаза испуганной газели, чёрная коса. Я давно ничего не видела подобного! Они вечерами ходят по улицам города, болтают о всякой чепухе, причём наш студент не берёт её даже за руку. Только после месяца знакомства он первый раз поцеловал этот цветочек, и теперь они часами целуются, и Саня приходит домой поздно, совсем разбитый, с болезненными ощущениями в паху. Розенфильда, он всё ещё девственник! Эх, хотя бы на часок превратиться в плотное горячее тело, каким я была когда-то! Для меня это пытка – всё видеть, переживать за других и не иметь возможности почувствовать даже тысячной доли того, что чувствуют эти люди. Тебе не надоело быть этим сгустком воздуха, не знающим ни жизни, ни смерти, только взирающим на все происходящее, как посторонний наблюдатель?
– Амелия, ты не посторонний наблюдатель! Ты часть потока, что зовётся жизнью, ты опыт беспокойной души, вечно переживающей за подопечных людей. Неужели тебе будет интереснее топтать раздвоенными копытцами траву в Гель– сифанском саду?
– Да нет, конечно! – тихо прошептала Амелия. – Что ж, пора прощаться. На дворе ужасный холод, мне нужны минуты, чтобы пролететь эту сотню километров, но я успею закоченеть! Это единственное, на что расщедрился наш Создатель! Я уже предвкушаю, как буду согреваться в тёплой комнате и смеяться над моими студентами. Пока, пока.
* * *
После похорон отца Паша вернулась из Новохопёрска, забрала Ивана из больницы.
– Ваня, ты должен ещё неделю побыть на больничном дома, – заявила она не терпящим возражений тоном. – Ты посидишь с Олей, поможешь ей делать уроки, а я поеду в Воронеж, к Зиночке, сходим с ней на кладбище к Лиде, как раз девять дней будет, заодно завезу Саньке продуктов.
На улице Свободы Паша появилась с двумя тяжёлыми сумками. Жорж наконец-то получил трёхкомнатную квартиру рядом с парком «Живых и мёртвых», совсем недалеко, поэтому была возможность переночевать у Зины и без помех поговорить. Галина Павловна выражала недовольство по поводу месторасположения квартиры: в «ЖиМе», как звали этот парк в народе, находилась танцплощадка, и по вечерам, три раза в неделю, оттуда доносилась музыка.
Зиночка накрыла стол, достала из буфета бутылку водки.
– Давай Пашенька, помянём Лидочку да папу твоего Ивана Степановича!
Ах, Лидочка, Лидочка! Ведь какая красавица была! Как в этой цветущей женщине поселилась страшная и редкая болезнь? Паша всегда жалела, что война спутала её планы, что ей так и не удалось стать врачом.
– Умирала в полном сознании. здесь, в областной больнице. Похудела очень. Володя не отходил от неё, а я ночевала в больнице. – рассказывала Зина. – Последние её слова были: «Зиночка, не бросай моих детей, будь им матерью! Володю тоже не оставляй, пропадёт.». Пашуня, возьми сыру, свеженький, с молокозавода только привезла.
Зина заплакала. Так и сидели они с рюмками в руках, вытирая глаза платочками.
– Ты знаешь, что сказал Серёжка отцу? «Папа, пусть нашей мамой будет тётя Зина»! Ты можешь себе представить?
– Я обязательно отсюда заеду к ним, в Верхнюю Хаву. Как сам Володя?
– Пьет, Паша. Ты же знаешь, как он её любил. Он и при ней себе позволял, а сейчас.
– А как мой пострел, появляется?
– Редко. В основном, наверное, когда стипендия кончается. Накормлю и с собой заверну. Спрашиваю: деньги есть? Есть, есть, тётя Зина! А знаю точно, что нет. Суну ему в карман – он и улетел. Ездила к нему в техникум, беседовала с руководительницей группы. Говорит, на третьем курсе стал учиться хуже, в спортзале пропадает. Зашла в их столовую. На гарнир дают гороховое пюре, а котлеты – наполовину с хлебом. Ты знаешь, в Воронеже стало плохо с продуктами. Появились очереди за молоком, хлеб и булки выпекают с примесью молотого гороха. Я тебе сейчас покажу батон зеленоватого цвета.
Зина протянула Паше засохшую булку с зелёным оттенком.
– Нормальный хлеб покупаю по блату! Недавно приезжал на поезде Хрущёв. Люди говорят, вдоль железнодорожного полотна с московского направления шли поля кукурузы, которую не успели убрать. К его приезду к тракторам прицепили рельсу и положили «королеву», чтобы генсек её не увидел. Но нашлись люди, которые доложили, он устроил разнос начальству, а когда вышел на балкон гостиницы «Воронеж», чтобы выступить перед собранными на площади горожанами, кто-то кинул на балкон зелёным батоном, потом полетели несколько яиц. что творилось после этого в обкоме – не описать! Он поснимал всех, а снабжение города перевёл из категории «А» – для крупных промышленных городов – в категорию «Б». Так что твои сумки будут ко времени.
– Зинуля, а как твой Слава?
– Окончил Саранское училище, работает лётчиком – инструктором в местном аэроклубе. Уже успел жениться и развестись. Жить с мамой не хочет, снимает квартиру.
– Он же у тебя красавец писаный, Славка-то. И читает много.
– Да вот, красавец, а потихоньку и выпивать стал. Правда, он добрый у меня, ласковый. Цветы мне приносит. Отец тут выискался, хотел его увидеть. Я не позволила. А Борька твой как?
– Борька в Ленинграде. Помучился после института в Херсоне и сбежал. Сказал, что будет жить только в Питере. Он у нас сильно самостоятельный, всё приглашает в гости.
– Вот Пашуня! Как незаметно пролетело время! И наши дети взрослые. а давно ли мы с тобой учились в Борисоглебской школе и даже представить себе не могли, что сроднимся. Ты помнишь, как Жорж подарил мне полосатый вязаный шарф и шапочку? Я до сих пор ношу этот шарфик.
– Как же не помнить, Зиночка? Роднее тебя, кроме Ани, у меня никого нет. Аня приезжала на похороны отца. Кроме нас с ней, родственников больше не было. Папа не мучался. Соседи говорят, что не болел. Вечером выпил стакан водки, а утром – не проснулся. Мир праху его! Давай помянем!
* * *
Володя Киселёв оставил свой пост первого секретаря райкома и переехал в Воронеж, где была похоронена Лида, его жена. Теперь он работал главой инспекции по хлебозаготовкам, имел служебную машину и шофёра Роберта, мастера по разливу водки в компаниях.
Зиночка не задумываясь взяла шефство над Славиком и Серёжей, а заодно готовила ужин и для Володи.
В один из солнечных дней конца августа Володя вызвал к себе в кабинет своего водителя Роберта. Этот разговорчивый человек лет сорока пяти носил на лице постоянную улыбку, имел выступающий живот и неизменно хорошее расположение духа. Киселёв не видел его унывающим, хотя и знал, что Роберт собрался разводиться с женой.
– Вызывали, Владимир Иванович? – послышалось из-за приоткрытой двери кабинета.
– Да, Роберт заходи! Вот тебе деньги. Купишь две бутылки водки, закусить. Едем на бережок. Да, и хороший букет цветов!
– Каких цветов, Владимир Иванович? У нас что, праздник?
– Праздник, праздник! Меньше вопросов! Самых красивых роз, для женщины!
Ехать «на бережок» для Роберта было привычно, а вот поручение купить букет его озадачило. Уже давно Роберт присмотрел место на берегу реки Воронеж, недалеко от Чернавского моста, куда можно было проехать на УАЗике. Его начальнику полюбилось это место, и они частенько спускались вниз, к реке, раскатывали «скатерть-самобранку» на берегу.
В этот день Киселёв закончил раньше обычного и, раздав указания, заспешил из инспекции. У машины он придирчиво осмотрел букет алых роз, купленных Робертом, и уселся рядом с ним.
– Поехали!
С проспекта Революции возле памятника Петру Первому они свернули направо, к Чернавскому мосту. Дальше Роберт сворачивал ещё несколько раз, ехали по бездорожью, среди частного сектора, пока не оказались на песчаном берегу. Здесь было пустынно, тихо – шум машин, катившихся по мосту, сюда не долетал.
Володя вышел из машины, глядя на желтую воду реки, курил, пока Роберт разворачивал скатерть. Водка «Московская», колбаса полукопчёная, колбаса «докторская», банка говяжьей тушёнки, луковица, два помидора, свежий хлеб. Вот и весь нехитрый стол! Водитель знал, что начальник любил закусывать тушёнкой и что эта его привычка сохранилась с войны. Он быстро вскрыл банку и, сделав пригласительный жест рукой, тут же стал разливать водку в гранёные двухсотграммовые стаканы: себе – полный, начальнику – одну треть.
Обычно Роберт ставил стакан на тыльную часть руки, подносил ко рту, не расплескав ни капли, прихватывал губами край стакана и медленно цедил водку, демонстрируя всем, какое он получает удовольствие. Если не знавшие Роберта собутыльники пытались предлагать ему ещё «по рюмочке» после стакана выпитого, он неизменно повторял: «Нет, не могу! Сегодня я за рулём!»
После стакана водки он мог целый день водить машину, и за всю жизнь с ним не случилось ни одной аварии. Сам он говорил: «Потому что езжу аккуратненько!» Его знала вся милиция города, он здоровался с каждым гаишником за руку. Володя считал своего водителя бесценным.
– За что пьём, Владимир Иванович? – спросил Роберт, поднимая стакан.
– За конец моей одинокой жизни! Сегодня, Роберт, я делаю предложение Зине, сестре Ивана. Лидочка наказала ей присмотреть за нами. Скоро детей в школу отправлять, а как я один с ними? Так что породнимся – дальше некуда!
– Всё уже обговорено?
– А ты как думаешь – что я вот так, с бухты-барахты, принёс цветы и – в ЗАГС? Сначала сестру Пашу подослал, чтоб почву прощупала. Поговорили меж собой, Зина не против. Теперь надо официально! Ну, давай!
– Будем! – отозвался Роберт, процеживая свой стакан через зубы. – А я вот, Владимир Иванович, развожусь! Детей нет, и жизни мне нет с Валюхой. Чужой стала! Будем менять наши три комнаты, которые мне достались ох как трудно! Пришлось прописать родителей, которых уже нет.
– Подожди! А нам съезжаться надо! Так может, и искать не будем?
– А что – замётано!
– Тогда всё, Роберт! Больше не пьем! Поедем – обрадую Зиночку, вручу ей цветы, и всё такое.
В сентябре Володя расписался с Зиной в ЗАГСЕ, и в этом же месяце они переехали в трёхкомнатную квартиру на улице Куцыгина. Роберт скончался от инсульта через два года, не дожив до пятидесяти. Говорили, что после развода он не отказывался и от второго стакана, не прочь был выпить и третий.
* * *
Ось жизни семьи Марчуковых постепенно смещалась в города державы, вся мужская молодая поросль осела в мегаполисах, а в деревне оставался последний одинокий воин – Иван Марчуков. Он и не помышлял отправляться в город вслед за всеми, хотя такая возможность у него была. Евсигнеев стал заместителем председателя облисполкома в Воронеже, и его прочили на должность председателя. Друг юности Ивана Гаврюша Троепольский давно уже величался Гавриилом. После повести «Белый Бим – чёрное ухо», которую читал и ценил сам генсек Брежнев, к нему пришла слава, теперь он известный на всю страну писатель. Марчуков искренне радовался за друзей и сам подумывал о том, чтобы сесть за письменный стол, даже начал делать кое-какие наброски.
Но всё же Иван решил доживать в собственном доме, ухаживать за садом и принимать летом у себя детей, а может быть, в скором времени и внуков. Город – это не для него!
Но – увы – стало подводить здоровье. Простуды с завидным постоянством преследовали Марчукова, он страдал одышкой и всё чаще оказывался в новой больнице, той, которую строили под его непосредственным патронажем: своё партийное поручение он выполнил, и право перерезать красную ленточку ножницами ему предоставили вместе с первым секретарём райкома.
Каждый раз, когда надо было подлечиться, он являлся к главврачу Ядыкиной в сопровождении Паши и, улыбаясь своей лучезарной, только ему присущей улыбкой, говорил: «Людмила Васильевна! Военфельшера второго ранга не могу ослушаться! Выполняя её приказ, явился в Ваше распоряжение!»
Ядыкина отводила для него отдельную палату с окном на сосновую поляну, и поскольку чаще всего сюда приходилось являться осенью, вечнозелёная хвоя оживляла пейзаж. Иван набирал с собой книг и читал самозабвенно, удивляясь, как много ещё он не успел прочесть. Разъезжая по району по работе, он частенько заворачивал в Курлак, чтобы нанести визит директору школы. Они сидели подолгу, пили чай, и после этих встреч Иван каждый раз подолгу находился под впечатлением от общения с этой незаурядной личностью. Вот настоящий учитель, думал он, из тех, которые не считают сельскую школу тесным для себя местом. Если бы все были такие, как он!
Было время, когда Иван горел на работе, а теперь он делал положенное и спешил под крышу своего дома, где ему было тепло и спокойно. Пашу всерьёз беспокоил сустав травмированной ноги, порой невозможно было встать на неё, но она потихоньку расхаживалась и за делами забывала о боли. Вместе они ожидали приезда сыновей, и тогда наступал в доме настоящий праздник. Из погреба доставались солёные огурчики, помидоры, квашеная капуста, мочёные яблоки.
За сыновей Ивану переживать не приходилось. Лишь единственный раз он попытался дать совет старшему и понял, что этого делать не следует. Ещё когда тот приезжал на каникулы в Курлак, Иван завёл разговор о том, что пора сыну подумать о партии. На что получил ответ категоричный: «Папа, я не собираюсь вступать в партию, поэтому думать тут не о чем. Не от вас ли с дядей Колей я слышал, что там одни проходимцы? Ведь таких, как вы, там единицы.». Из этого он понял, что его сын не дипломат и не собирается щадить его чувства, как это сделал в своё время он сам, когда отец спросил, верует ли он в Бога.
Ему хотелось успокоить старика, и он ответил – «да». Что ж, может, так и честней? «Если бы в партию больше шло хороших людей, может, всё было бы по иному», – сказал он сыну, но тот снова возразил: «Пап, но хорошим людям вряд ли нужны партии».
Борис принял самостоятельное решение и сбежал из Херсона, куда его распределили после института. Молодых специалистов нещадно обманули, подсунув никчёмную работу, не предоставили обещанное жильё. После нескольких лет мытарств в городе без жилья и приличной работы сын, наконец, одолел этот холодный город, к которому прирос душой..
В шестьдесят пятом году они с Пашей, Санькой и Олей приехали на его свадьбу, поднялись по мраморным ступеням Дворца бракосочетаний на Неве. Иван был в Питере впервые, и всё увиденное помогло понять, почему его сына так притягивает к этим гранитным берегам.
Родители невесты были простыми тружениками, отец работал рабочим на крупном заводе. Во время бракосочетания Паша тихонько шепнула: «А невеста наша красивая!»
Последний день свадьбы был омрачён поднявшейся у Ивана температурой. Домой он возвратился больным, и Паша вновь принялась лечить его всеми способами, которых она знала тысячи.
В поезде Ивану приходили в голову невесёлые мысли о том, успеет ли он увидеть своего внука? С каждым годом ему становилось труднее дышать, и хотя он не сдавался и по-прежнему трудился с лопатой в руках в огороде, часто приходилось останавливаться, чтобы отдышаться и откашляться.
Сын Санька удивил Ивана своим непредсказуемым «виражом». Велись речи о подготовке для поступления после техникума в институт, а он поехал поступать в лётное училище. Что ж поделаешь! Он не может выбирать судьбу для своих сыновей. На аэроклубовской фотографии, где курсант снялся вместе с друзьями у самолёта, Иван прочёл надпись, сделанную рукой сына: «Спасибо, «птица»! Ты пареньку дала родиться – в небе!»
И вот теперь он лейтенант и служит на Камчатке. Вот куда занесла судьба! В шестьдесят седьмом они отметили с Пашей её пятьдесят, а он в это время летал в Вязьме, а затем в Грозном на истребителях. Паша переживала, изводила себя страхами, а он её успокаивал своеобразно: «Ты в Вязьме была в окружении, а он там сейчас летает. Напиши, пусть попробует домик Вьюговой найти, тот, где ты сидела в погребе». Но по весне начался паводок, и на аэродроме «Двоевка», что под Вязьмой, от воды вспучились бетонные плиты, в том числе и те, которые начали укладывать немцы для стартовых площадок «ФАУ». Сына перевели в Грозный.
В первый свой отпуск Александр привёз с Камчатки красной рыбы, несколько трёхлитровых банок икры и жирную атлантическую сельдь в больших круглых банках. Такие деликатесы они и не помнили когда ели. Привёз сынок и бутылку отборного армянского коньяка, купленную им в Москве. Этой минуты, когда он появился у калитки в форме лейтенанта авиации, забыть нельзя.
Иван долго водил его по саду, напоминая о том, какие деревья они сажали с ним вместе, а какие он посадил уже без него. Сын вырос, возмужал и был очень похож на Пашу.
Олечка решила сдавать экзамены в медицинский институт в Воронеже, но не прошла по конкурсу и как-то даже не переживала по этому поводу. Серьёзно взяться за подготовку у неё не получалось, она часто засыпала за учебниками, на самые ласковые слова Ивана отвечала раздражённо. Взяв деньги у своей тёти Зины, она неожиданно укатила в Ленинград, да и осталась там, заявив, что ей там нравится и она будет работать на крупном заводе «Электросила», набирающем рабочих с предоставлением общежития и прописки.
Вот так они с Пашей остались одни, и Иван стал подумывать о пенсии. В июне шестьдесят девятого ему исполнилось шестьдесят, но уходить пока не предлагали – Аннинское сельхозуправление нуждалось в специалистах.
Летом семидесятого Иван много работал в саду, окреп, чувствовал себя гораздо лучше. Его лицо загорело от постоянного пребывания на солнце, он чаще стал улыбаться и шутить. Паша узнавала в нём прежнего Ивана, каким он был в молодости.
А у неё с ногой становилось всё хуже и хуже. Все домашние обязанности взял на себя муж, и после того как Паша побывала в Воронеже у известного хирурга, ей прописали сильнодействующее лекарство. Через какое-то время она снова стала ходить, а вскоре – правда, с палочкой, – вышла на работу в больницу.
Именно в это время к ним зачастила Маша, смазливая, разбитная бабёнка, ни на минуту не закрывающая рот. Ей не было ещё сорока лет, она была женой Анатолия Токарева, рабочего совхоза. Их участки соприкасались огородами, а дом выходил на соседнюю улицу. Маша заходила к Паше то за солью, то за спичками, и ее живой говорок легко переключался с одной темы на другую, а быстрые глаза как бы ненароком пробегали по кухне и комнатам. Она притворно вздыхала, делясь своими проблемами, да рассказывала о своём бестолковом, пьющем муже. Поговаривали, что детей у них не было из-за её бурных похождений в молодости, да и сейчас её синие глаза под чёрными бровями продолжали искриться, а статная осанка и высокая грудь привлекали внимание мужчин. Когда появлялся Иван, Мария деликатно прерывала разговор и исчезала, уважая статус хозяина, и Паша ценила эту её деликатность, тем более что только ценой усилий Марчукова им удалось получить участок в этом районе. Анатолий когда-то был работником МТС у Ивана, и неплохим. Но почему-то после женитьбы запил.
Паша не знала, а Иван не считал нужным докладывать ей, что Мария заходила и когда хозяйки не было дома. Её болтовня носила лёгкий, ни к чему не обязывающий характер, разве что улыбка была щедрее, полные губы обнажали белые, здоровые зубы; как бы невзначай сдвигалась юбка одной рукой, обнажая колено, когда она поднималась по ступенькам, да глаза лучились больше обычного…
Так Марчуковы постепенно привыкли к соседке, и даже иногда Мария помогала Паше убраться по дому, учитывая её трудности с ногой. Паша считала необразованную женщину ниже положения, которое занимала их семья, и относилась к ней снисходительно.
Гром грянул среди ясного дня неожиданно. В один из последних летних дней Паша пришла с работы чернее тучи, сразу легла на диван и разрыдалась.
– Пашенька, что случилось? – присел рядом Иван.
– Это тебя надо спросить, что случилось! – ответила она сквозь рыдания. – Опять ты за старое! Конечно, кому нужна хромая жена!
– Да в чём дело, в конце концов? Ты можешь объяснить?
– Уже в больнице говорят о тебе и нашей соседке!
– Вот те раз, ты в своём уме?
– Я-то в своём, а вы с ней совсем спятили! Давай эту гадюку сюда!
Оказалось, что «гадюка» уехала в деревню, к своим родителям. Пока шёл к соседям, Иван вспоминал её разговорчики о том, что «его жёнка совсем больна, а он-то мужик хоть куда!», её игривые телодвижения, которые можно было расценивать как угодно… Она даже пыталась его один раз приобнять, пришлось осадить женщину, повысив голос: «Маня! Оставь эти шутки, а то скажу Анатолию!» «Ой, пужалась я тваво Анатолия!» – отвечала соседка.
Иван не оставил так этого дела, съездил в больницу к санитарке, распространявшей слухи. «Дык ить сама ж Машя и болтала про всё. Говорить, ты – ейный мужик, и что, дескать, ты у неё в кармане. А мне Пашу жалко!» – бормотала пожилая женщина.
В доме воцарилась невыносимая обстановка. Паша не верила мужу и засела писать письма сыновьям о том, что стала никому не нужна, что всё, что она сделала для «папы» и для детей, теперь не имеет смысла и что ей лучше умереть, чем жить в такой невыносимой обстановке. Причём саму суть дела она не объясняла, и сыновья, переписываясь меж собой, решили, что её болезненная мнительность связана с травмой. Александр прислал письмо, в котором успокаивал мать и скоро обещал приехать в отпуск.
Иван решил подавать в суд на соседку Токареву, но Паша воспротивилась: «Не хватало нам шума на весь Аннинский район! Вот так тебе платят за твоё добро! А может, ты и раньше с ней путался, а теперь решил поселить под бочок?»
Марчуков хватался за голову двумя руками и уже перестал чувствовать под ногами землю. Он приходил на работу и ловил взгляды с затаённой улыбочкой или откровенные усмешки. За что на его голову свалилось это, когда, вырастив детей, он уже думал о спокойной и размеренной жизни в собственном доме? Разве люди хуже диких собак, которым не живётся в своём жилище и они стремятся обгадить чужое, чтобы оставить на нём метку своего запаха, метку своего несчастья? Да, у Мани нет детей и муж пьяница. Да, у них маленький домик с малюсенькими окошками, за которыми никогда не рассветает и никогда не поют песен, а он возвел дом большой, с просторными светлыми окнами, из которых слышны песни. Как же он раньше не разглядел эту простушку Маню? Он попытался всё это вновь и вновь объяснить Паше, но жена не хотела его слушать. Не было больше сил ходить на работу, и в первых числах октября он решил взять больничный.
Стоял на редкость погожий солнечный день, и он пошёл пешком до райкома. По дороге почувствовал боль за грудиной и энергично растёр ладонью правый бок. Боль отступила. Запахи осени кружили в воздухе вместе с листвой, и он, проходя под клёном, поймал в ладони багровый лист, похожий на пятерню. С этим листом и зашёл в свой кабинет. В помещениях ещё никого не было, и он подумал о том, что пришёл слишком рано, но и находиться дома в этот ранний час ему не хотелось – Паша не разговаривала с ним и всё время плакала.
Иван присел за стол и принялся разбирать бумаги. Неожиданно вернулась боль. Своими железными пальцами она обхватила его грудину, он почувствовал, что нечем дышать, хотел подняться со стула, но стал оседать головой на стол: утренний свет померк в его глазах.
Врачи скорой помощи расстегнули на нём рубашку, сделали укол, положили на носилки. Пульс прощупывался. Один из санитаров, пожилой дядька, осторожно вытащил зажатый в его руке кленовый лист и положил в карман пиджака, которым накрыли Марчукова: «Может, в больнице ещё на него посмотрит?» Его повезли в больницу, которую он строил и которая оказалась последним прибежищем одинокого сельского романтика, мечтавшего собирать с родной земли небывалые урожаи.
вовсе вдруг пропадает. «Аритмия!» – думала она, поправляя трубку капельницы. Главврач Ядыкина сказала: «Остановка сердца.» «Но у него никогда не болело сердце!» – вмешалась Паша. «Возможно, на фоне лёгочной эмболии. С таким лёгким, как у него, возможна закупорка сосудов». «Может, его надо срочно везти в Воронеж?» «Этого делать нельзя, надо прокапать капельницы, восстановить сердечный ритм!»
– У тебя сердечко прихватило, родной! Не делай резких движений. Ядыкина говорит, прокапаем капельницы, и всё образуется. Ты у меня не такое выдерживал.
– Пашуня. ничего не было! Ты веришь мне? Это мерзкая, лживая баба. – с трудом шептали его губы.
– Молчи! Тебе надо отдыхать и ни о чём не думать. Я уже всё знаю, прости меня и выздоравливай. Я буду с тобой. Санька телеграмму дал. Завтра приезжает. Он в отпуске, ездил по Прибалтике, заехал к Боре, у нас планирует пробыть неделю.
– Хорошо. Хоть увидимся.
На тумбочке, покрытой белой салфеткой, рядом со стаканом воды лежал багровый кленовый лист. Паша не спрашивала, откуда он, но и выбрасывать не решалась. Ей принесли в палату вторую кровать, и она ночевала здесь, поминутно вскакивая по ночам. Иван спал плохо, часто просыпался, жаловался на боли в груди. Она сама делала ему уколы.
Эти октябрьские дни выдались на редкость солнечными – лучи светила, дробясь о густые кроны сосен, заглядывали в палату с утра, играли бликами на белых стенах, в форточку залетал насыщенный осенней свежестью воздух.
Иван дышал тяжело, его лоб покрывала испарина, и Паша вытирала влагу полотенцем. Сегодня он выпил наконец-то чашку горячего бульона и, после укола, уснул. Паша вышла в коридор и увидела сына. Он шёл к ней в белом халате, накинутом на гражданскую одежду. Она зарыдала в его объятиях, но потом успокоилась, и они прошли в комнату старшей сестры, где никого не было.
– Ну что, мама, как он? Что случилось?
– Сердце, сознание потерял на работе. Ядыкина говорит, всё зависит от организма, шансы – пятьдесят на пятьдесят. Но ты вида не подавай, улыбайся!
– Мам, ну что я – маленький? Ты лучше скажи, что у вас стряслось? Что за письмо ты мне прислала?
– А ничего, Сань! Так, всё мои болезни да плохое настроение от этого. Одиноко нам, оттого и плохо! Господи, лишь бы только он выздоровел! Я уже позвонила Евсигнееву, он завтра должен привезти профессора. А где твои вещи?
– Так я сначала домой, ключ нашёл под половицей, а потом сюда.
– Сынок, ну как ты там летаешь, на своей Камчатке? Не страшно?
– Ты как та мама, которая говорила: «Сынок, летай потише и пониже!» Прости, пойдём к папе!
– Он сейчас уснул, а то всю ночь мучился, под утро говорит мне: «Ни сна, ни отдыха измученной душе!» Он всегда что-нибудь цитирует.
Паша снова заплакала, и сын обнял её.
* * *
Всю неделю, что осталась от отпуска, Александр ходил дорожками, ставшими знакомыми, от дома до больницы. Мама практически жила в палате отца, а он каждый день варил на керогазе курицу и нёс бульон и другую провизию дворами, чтобы сократить путь. Он подолгу сидел с отцом, вглядываясь в его осунувшееся лицо. Знакомые глаза были рядом, но смотрели из неведомой дали, словно между ними стояла невидимая преграда, которая неожиданно разделила их, таких близких людей и – как оказалось на деле – таких далёких… Он жил рядом с отцом и, оказывается, ничего толком не знал о нём, никогда не задумываясь о его делах и проблемах. Теперешнее их общение сводилось к тому, что он старался что-то рассказывать, а отец слушал. Слушал оттуда, из-за своей преграды: говорить ему было трудно, и он с усилием старался улыбаться – ему надо было держаться перед сыном. и он держался, шутил, но его глаза не могли обмануть, в них сквозила отрешённая тоска расставания с этим миром, со всем, что ему было так дорого.








