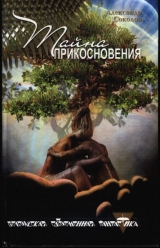
Текст книги "Тайна прикосновения"
Автор книги: Александр Соколов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Закончив играть, Нина повернулась на вращающемся стульчике к гостям, и все зааплодировали.
– Ваня, твой выход!
– Да, да, Ваня – «Дремлют плакучие ивы.»! – поддержала Зина.
Иван не любил, чтоб его упрашивали, пел всегда с удовольствием, но не стал выходить к инструменту, предпочитая петь, сидя за столом.
– Как жаль, что нет Пашуни! Помощники у тебя слабые! – вздохнула Нина. Действительно, голосом в этой компании больше никто не обладал, Давид даже и не пытался петь, а Нина с Зиночкой могли только тихонько подпевать.
Нина проиграла вступление к романсу, и Иван, откинувшись на спинку стула, запел:
Дремлют плакучие ивы,
Тихо склонясь над ручьём…
Струйки бегут торопливо,
Шепчут о чём-то былом.
Шепчут, всё шепчут…
О чё-о-о-м-то былом…
Думы о прошлом далёком мне навевают они.
Сердцем больным, одиноким рвусь я в те прежние дни…
Рвусь я, всё рвусь я …
В те пре-е-е-жние дни!
Где ж ты, родная, далёко?
Помнишь ли ты обо мне?
Так же, как я, вспоминаешь, плачешь в ночной тишине?
Плачешь, всё плачешь …
В ноч-но-о-й ти-шине!
Голос у Ивана был не сильным, но проникновенным, глубоким. Он, как говорили, пел не горлом, а грудью. Это был «второй» голос, хорошо поставленный ещё в церковном хоре. Романс закончился, снова все зааплодировали, а у чувствительного неразговорчивого Давида мелькнула в уголке глаза слезинка.
– «Белую акацию», Ваня. «Белую акацию»! – запросила Зиночка.
Пели белогвардейский романс, каким считался «Белая акация», вспоминали таинственные превращения, которые претерпел романс в годы гражданской войны. Неизвестно кто заменил в песне темп на маршевый, и, с новыми словами, лирический романс о любви двух сердец под белыми акациями зазвучал так: «Слушай, рабочий, война началася! Бросай своё дело, в поход собирайся!»
Мало этого, немцы перед началом войны использовали романс в своих целях: двадцать второго июня ночью фашисты передали в эфир эту музыку, превратив её в пароль для наступления.
К концу вечера распелись все сидящие за столом, и даже Давид стал не в такт подтягивать за остальными. Иван спел «На Кубе…» и ещё несколько русских романсов. Ниночка опять сетовала, что с ними нет Паши.
«Насытились тела и души, и уж ко сну пора, клонится голова!» – продиклами– ровал Иван и закашлялся.
– Как со здоровьем, Ваня? – поинтересовался Давид. – Если что беспокоит – у меня есть врач знакомый, очень хороший.
– Его к врачам не загонишь! Обещал сходить в областную, к фтизиатру, а сам взял билет на утренний поезд, – ответила за Ивана Зиночка.
* * *
Иван ехал в поезде домой и размышлял о своих недоброжелателях, пишущих «наверх» жалобы. В глубине души он считал, что все советские хозяйства на земле, включая и колхозы, должны перейти на денежное вознаграждение за труд, что платить работающим на земле надобно и за качество труда. Ведь труженики земли хотят иметь не только продукцию, полученную от урожаев, но и хорошую одежду, радиоаппаратуру и приличное обустройство жилья. Вернувшиеся с войны мужики прошли всю Европу и увидели то, чего лучше бы им не видеть. Только и слышны были разговоры о том, как «там у них». Многие подробности Иван узнал и от Володи, Пашиного брата, закончившего свою войну в Вене.
Но он трезво оценивал «существо момента» и даже не пытался высказываться в этом отношении с «высоких трибун». Он регулярно читал газеты и, как член партии, был обязан не только поддерживать генеральный курс, но и активно внедрять его в жизнь.
А газеты пестрели в это время гневным осуждением «отщепенцев» разного рода. Шла борьба с теми, кто стал на «линию наименьшего сопротивления» и потакает желаниям меньшинства, борьба с «обезличкой и очковтирательством». Поднять колхозы с колен после войны многим было не по силам, поэтому зачастую выполненные планы были только на бумаге…
Ему многое удалось только потому, что он начинал с самого необходимого: открыл столовую для работников, где можно было бесплатно пообедать, решил для многих проблемы жилья, стал запасать лес для строительства новых домов, – и люди сразу потянулись в совхоз, к работе, где были видны какие-то перспективы…
Он собирал лучших работников по всей округе, прижал воров и пьяниц. Наконец, он открыл начальную школу, где учился и его Борька. С каким нетерпением сын дожидался, когда наступит этот день – первое сентября! А родителям было радостно смотреть, с каким упоением он носился с книжками и портфелем.
Может, его дети пойдут по его стопам, и, может быть, для них уже не будет войн, и они в будущем совершат такое, что ему и не снилось?
Глава 18. БОРЯ МАРЧУКОВ: «ДАЛЁКАЯ ВОЙНА… РОДИНА: ЧТО ЭТО СЛОВО ДЛЯ МЕНЯ?» (из воспоминаний)
Это были мои первая зима и первый новогодний праздник, которые я запомнил.
Игрушек почти не было, но нашлись какие-то открытки, бумага, кусок картона, и я часами увлечённо вырезал разноцветные флажки: сгибая пополам каждую полоску, прятал в сгиб нитку, склеивал половинки мылом – клея не было – получались красивые гирлянды.
Не один десяток новогодних праздников остались в прошлом, подробности большинства стёрлись в памяти, но тот, самый первый, запомнился как символ моей новой, счастливой жизни.
Недавно обнаружил в ящике связку старых, поблёкших флажков, вдохнул чудом сохранившийся, щелочной запах того, «военного», мыла, живо вспомнил конец сорок третьего года.
В нашей гостиной объявилось разлапистое, зелёное чудо – пушистая сосенка, с пахнущими смолой, клейкими кончиками веток. Я сам развесил на ёлке-сосенке самодельные флажки да несколько игрушек, сохранившихся с довоенного времени. Под ёлку откуда-то отец притащил Деда Мороза – тоже довоенного.
Никогда больше я не вдыхал такого густого хвойно-смолистого запаха. Никогда ёлка не казалась мне такой красивой.
В последний вечер сорок третьего спать мне не хотелось, я сидел за столом вместе с мамой Аней и Марией Фёдоровной. Отца не было, скорее всего, он Новый год праздновал в правлении.
Я не слушал разговора женщин, смотрел на ёлку и думал о том, как хорошо жить здесь, где зимой много снега, растут ёлки и сосны, как жаль, что далекодалеко, в ауле, теперь ветер свистит и гонит песок, Абдунаби, дедушка и бабушка сидят на ковре при свете коптилки, и у них нет ёлки.
– Мама, – сказал я, – давай позовём к нам Абдунаби, дедушку, бабушку, пускай приезжают..
Мама засмеялась:
– Что ты, Боренька. Это очень далеко – вспомни, сколько мы ехали. Да и потом – идёт война.
Подперев кулаком щеку, мама Аня печально смотрела, как Мария Фёдоровна собирала карты.
– Тётя Маша, а бывает, что карты врут?
– Бывает, Анечка, бывает. – охотно соглашалась Мария Фёдоровна. – А мы вон чего, мы чичас по-другому.
Запалив свечу, она загасила лампу, потом скомкала лист бумаги, положила на чистое блюдце, поднесла его к стене и подожгла – на стене заплясали тени. Женщины притихли, мама смахнула слезу, и мне тоже стало грустно. Не было никаких вестей от второй моей мамы, не было вестей и от моего дяди Володи…
Мария шептала что-то, но нельзя было разобрать ни единого слова – ей не было вестей от мужа.
Что можно было увидеть в мерцаниях тлеющей бумаги, в отсветах и тенях на стене?
Наверное, тысячи женщин по всей России так же гадали в эту ночь, затаив дыхание, следили за пламенем, пытаясь увидеть на стене хоть какой-то отблеск надежды на жизнь близких, воюющих на фронте…
Я разбирал книжный хлам, пылившийся на чердаке нашего деревенского дома, и вдруг сердце моё дрогнуло – будто встретил родного человека, которого знал и любил ещё мальчишкой.
Я держал в руках свою первую книгу, которую когда-то прочитал самостоятельно от корки до корки, с которой не расставался до школы и после того как начал учиться. Это был сборник рассказов, стихов, сказок и загадок для детей, посвящённый новому, сорок четвёртому году.
Страницы книги были словно опалены дыханием войны: рядом с вечными на все времена радостями детства – ненависть к недобитому врагу, которого тогда я представлял смутно, только по картинкам и карикатурам.
Я подолгу рассматривал картинки, они были так похожи на то, что я видел из саней зимой, когда отец брал меня с собой прокатиться.
Огромная луна висит в морозном круге над заснеженной степью, по которой, теряясь вдали, вьётся, убегает санный путь, а по нему – уже далеко – одиноко трусит лошадка, запряжённая в сани. Рисунок этот словно был переведён в слова, напечатанные тут же. И то и другое так соответствовало друг другу, включая мои личные впечатления от поездки с отцом, что врезалось безотчётно и в сердце, и в память.
Чудная картина,
Как ты мне родна!
Белая равнина,
Полная луна.
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далёких Одинокий бег.
Когда я заново, спустя годы, прочитал эти строки, мне показалось, что я всю жизнь чувствую власть над собой этих коротких строчек, и она остаётся такой же, как власть луны, равнины, дороги – на той незабываемой картинке в книжке моего детства, и в моём сознании.
Сказка Евгения Шварца «Два брата» меня завораживала, заставляла неметь:
«Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но всё-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети.»
Каждый раз я переставал дышать в том месте, когда Старший выгонял Младшего – неодетого! – из дома в тёмную морозную ночь. Мне чудилось, что я отчётливо слышу, как Младший стучит кулаками в дверь. Старший решил прочитать всего пять строчек «Приключений Синдбада-морехода», а потом пустить Младшего домой, но зачитался и позабыл о нём. И я чувствовал его ужас, с каким он кинулся во двор…
«Стояла тёмная-тёмная ночь, и тихо-тихо было вокруг. Брат пропал бесследно. Свежий снег запорошил землю, но и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица Рок.»
Мне было до слёз жаль обоих – и бедного Младшего и несчастного Старшего, с его раскаяньем: «Ах, если бы время можно было передвинуть на два часа назад!»
Магически действовало на меня и стихотворение, которое я выучил наизусть:
Ты каждый раз,
Ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метёт метель
И что идёт война.
Тогда я был уверен, что эти слова обращены именно ко мне, именно эти пять строчек не давали мне забыть, что война идёт, что там, на войне, мать, которая меня родила.
Ложась спать, я невольно поворачивал голову к окну. Сквозь морозные узоры на стекле я вглядывался в проступающую черноту ночи, слушал завывание вьюги и представлял занесённую снегом степь и лежащих на снегу бойцов. Перед отъездом мать пела у моей кровати: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи.»
Но вот пришла весна, российская весна, которую я не помнил и которую мне заново приходилось открывать.
В парке, на большой поляне, поросшей пронзительно зелёной молодой травой, принаряженные бабы, пожилые мужики, парни и девушки толпятся возле выделанных из цельного куска коры лубков, которые установлены с наклоном. На вытоптанные в траве пятачки скатываются разноцветные, красочно разрисованные яйца. Девушки и женщины по случаю Пасхи одеты в пёстрые ситцевые платья, парни допризывного возраста красуются в хранимых со старых времён отцовских кумачовых, голубых, белых рубахах-косоворотках.
Тут мало кто верил в бога, но в парк все приходили охотно – то была весёлая увлекательная игра, участие в которой принимали и мы, дети.
Ранней весной, когда ещё холодная почва пропитана влагой, бегая повсюду, мы мяли её голыми пятками. В чернозёме быстро протаптывались тропинки, мягкая земля пружинила под ногами. Мы не замечали ни воздуха, ни земли – у нас были свои, мальчишечьи заботы.
И только потом, в зрелой жизни, мне вспоминалось податливое, грузное тело родной земли, готовое родить; что ж, мне довелось узнать и другую землю – твёрдую как камень, изнывающую под гнётом песков и солнца, но, тем не менее, и там жили люди, и это были люди, о которых я до сих пор храню память.
В моей памяти остался навсегда огромный парк, по левому краю от нашего дома стоят могучие тополя – за каждым из стволов могла спрятаться ватага ребятишек. Тропинка под тополями то здесь то там схвачена, словно узловатыми пальцами, толстыми змееподобными корнями. Запрокинешь голову – высоко, под синим небом, едва разглядишь вершины тополей, будто не облака плывут мимо, а парят в вышине эти высоченные мачты. А рядом, прямо перед тобой – заскорузлая, вся в морщинах, глубоких бороздах, толстенная кора. Кажется, стояли эти старцы здесь всегда и будут стоять, наверное, после нас.
«Деревья разговаривать не умеют.» – как жаль!
По окраине парка до самого пруда тянется глубокая канава, за которой – вал, обсаженный вишнёвыми деревьями. Перебраться через ров нам ничего не стоило, и вот они уже под рукой – шершавые, с шишками янтарного клея, толстые стволы в густых кронах, словно окраплённых спелыми до черноты вишнёвыми ягодами, наполненными ароматным соком, от которого наши рты и руки делаются красносиними.
За валом – яблоневый сад, и слухи о сторожах стреляющих солью, только притягивали нас. Набеги наши начинались, как только появлялись ещё зелёные, кислые на вкус яблочки. Но как сладко было прятаться в зарослях, красться к ближней яблоне, а потом что есть духу уносить ноги, кубарем катиться в канаву и нестись к спасительным сараям.
Сторожа гоняли нас, как надоедливых птиц, но не помню, чтобы кто-то от них пострадал. Скорее всего, отец просил охранников не трогать мальчишек.
От центрального въезда в парк уходит вглубь жасминовая аллея, она отделяет сад от поляны, на которой собирается народ во время праздников. В два широко отстоящих друг от друга ряда идут высокие, густые кусты – в них очень удобно прятаться. Во время буйного белого цветения густой дурманящий запах кружит голову; над цветами жужжат пчёлы.
Однажды в самом конце парка расположилась воинская часть. Палаточный городок, с ровными, как по ниточке расставленными рядами палаток, затмил все наши игры. Целыми днями мы болтались поблизости, наблюдая за солдатами и командирами, одетыми в новенькую тёмно-зелёную форму. Военные угощали нас кто чем мог. Мы же горящими глазами смотрели на кожаные ремни, погоны и оружие, примеряли их пилотки и фуражки.
Когда опустела поляна, как опустела и какой тусклой сделалась наша жизнь!
Этому событию предшествовали возвращение навсегда моей настоящей, военной, мамы и отъезд той единственной мамы, к которой я привык и которую любил. Мама Аня вышла замуж и уехала, а я долго не мог с этим смириться. Пусть «военная» хороша и – всем на зависть – красива, но лучше бы – были рядом обе.
И ещё новость: пришло письмо из далёкой Австрии, от дяди Володи. В нём фотография с надписью: «Смотрите, вспоминайте, никогда не забывайте!». Молоденький солдатик, гвардии рядовой с орденами и медалями на груди.
И, наконец, пришла весть о победе.
Я глядел на взрослых, танцующих в парке под патефон, стоящий в траве. Среди них – отец с матерью. Все до слёз радовались долгожданному окончанию войны, и я старался радоваться вместе с ними. Я не мог понимать всего значения победы, но всеобщая радость заражала, хотелось добавить к ней и своё умение веселиться, сделать всем что-нибудь хорошее.
Я переходил от одной группы к другой – где пели, где плясали, смеясь и плача, – и услыхал, как соседский мальчишка Иван Громов пел «Яблочко». Живо припомнил слова, которые мне когда-то напел в Алешках Семён. Иван пел явно не то!
Возле патефона отец принялся переворачивать пластинку, и в этот момент, желая повеселить всех и заполнить паузу, я принялся петь, отбивая дробь ногами:
Эх, яблочко, куда ты котисся,
Попадёшь милой в рот – не воротисся!
Эх, яблочко, да на тарелочке,
Надоела мне жена, пойду к девочке!
Реакция слушателей для меня была полной неожиданностью: все как-то притихли, а маму я видел такой впервые в жизни – сдвинутые к переносью брови, сверкающие глаза. Я ждал похвалы и ничего не понимал: что произошло? Смутно почувствовал, что виноваты слова песни, но что в них такого? Может, я плохо спел?
Отец тут же разрядил обстановку шуткой, все засмеялись, веселье продолжалось, только мама весь вечер сидела грустная, на глазах у неё появлялись слёзы, на которые никто не обращал внимания: сегодня плакали все!
Всё лето я прожил в радостном ожидании: мне исполнилось семь лет, и теперь– то уже наверняка меня примут в школу!
И действительно, осенью я с другими мальчишками отправился в школу, гордо сжимая ручку портфеля. Вся школа помещалась в одной классной комнате, где стояли два ряда парт. (Но какое это имело для меня значение – это была моя первая школа!).
Обучение велось одновременно: первый класс помещался с третьим, второй – с четвёртым. Пока первоклашки занимались чистописанием, рядом у третьего класса шёл другой урок. Со всеми управлялась одна старенькая учительница. В каждом классе не набиралось и десятка учеников.
Спустя десятки лет мне кажется, что давно уже всё вымерло, превратилось в прах, в золу, но оглянусь назад – детство моё выглядит отчётливо, выпукло, и я нет-нет да возвращаюсь к нему, чтобы почерпнуть чистой воды. Чистый родник детства. Глоток из него даёт мне новые силы жить и верить.
Глава 19. РЕАЛИИ – И ФАНТАЗИИ НА ВОЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Паша покормила сына, и он сразу же уснул. Она готовилась положить его в кроватку, когда забежал Борька из натопленной кухни:
– Мама, ну дай подержать Саньку! Я не уроню, ей-богу!
– Держи. Аккуратненько! Ну, всё, хватит, видишь, он уснул. Что за малыш! Ест, да спит, да пелёнки пачкает! Хоть бы заорал ради приличия. Тьфу, тьфу – не сглазить бы! Ты уроки сделал?
– Да, мама! Ты же знаешь, я сразу после школы делаю.
– Ну ладно… Папа вот-вот должен приехать, сегодня он будет проверять твои уроки.
На кухне готовился праздничный ужин: весь совхоз уже знал о награждении директора медалью, а всего коллектива – переходящим знаменем. Иван звонил в правление, чтобы заказать машину на станцию. Мария Фёдоровна (та, с которой Паша везла Борьку из Манкента) накрывала столы для руководства и передовиков в столовой, которой она заведовала. Но Ваня всё равно захочет чего-нибудь домашнего, поэтому Феклуша жарила его любимые котлеты, и запахи доносились в комнату.
Паша отложила томик «Тихого Дона», подошла к окну, чтобы открыть форточку. Иван вечерами читал Шолохова вслух, и все домочадцы: Мария Фёдоровна, Феклуша, Борька, – а также гости (часто заходили Зотовы), – рассевшись в комнате на двух диванах, слушали.
На улице стояла сырая промозглая погода, дул пронизывающий ветер, но свежий воздух был ребёнку необходим: Паша повернула защёлку на форточке, и она неожиданно осталась у неё в руке – выпали шурупы. Порыв ветра резко распахнул внушительного размера форточку (внутренняя была приоткрыта), и на занавесках вздулись пузыри холодного воздуха. Паша поняла, что ей нужны молоток, гвоздь и кусок проволоки, чтобы всё исправить и оставить форточку открытой ровно на столько, сколько нужно для притока свежего воздуха. Потом Иван сделает как надо.
Она отправилась за инструментом.
Меж тем на занавесках творились странные вещи. Два воздушных пузыря прогуливались вдоль тяжёлой портьеры, беседуя друг с другом. Их разговор не могли слышать люди, разве только грудные младенцы, но вся беда в том, что у младенцев в памяти потом ничего не оставалось…
А разговор был любопытный!
– Амелия! Я совершенно замёрзла сегодня на улице! И почему нас не послали работать на Цейлон? – говорила одна «воздушность», на что другая отвечала:
– Розенфильда, нет разницы, где работать, вот только Создатель явно перестарался. Зачем нам нужно быть чувствительными к холоду? Он полагает, что таким образом мы будем лучше понимать людей, здесь живущих, и мотивацию их поступков. Когда я забираюсь внутрь к кому-то, то стоит мне побыть там пару дней, я уже знаю о своём подопечном всё: как течёт его кровь в сосудах, чем дышат его тело и душа и даже то, что сам о себе не знает обладатель того и другого. Вот, например, Феклуша: эта особа имеет младенческий интеллект! Целыми днями она готовит еду, стирает, гладит, топит печь. Тихая, покладистая – слова от неё не добьёшься. А ты знаешь, какими ругательствами она обкладывает тех, кто ей не по нраву? Стоило тут одному плохо отозваться об Иване – она целый час поливала его русским отборным матом, не произнеся вслух ни одного слова! Но через час в её памяти, как на магнитной ленте, всё уже стёрлось, она всё забыла и была готова переваривать новые раздражители. Если бы ты знала, что ей снится во сне! К ней приходит почти каждую ночь красавец-принц, и этот принц лицом похож на Ивана. Да, он подобрал эту сироту, пристроил, и теперь она не знает что такое голод и холод.
– Ну, это в духе Марчукова! Он подбирает всех обиженных судьбой, помогает им. Потом многие из них делают ему гадости, но его и этим не проймёшь – он такой, и всё тут! Это мой объект, уж я-то за него отвечаю!
– Если отвечаешь, то почему не позаботилась о его здоровье? – съехидничала Амелия. – По-моему, у него никудышные лёгкие.
– Ты что, забыла инструкцию? Старик категорически запретил вмешиваться в жизненные циклы людей. Процессы должны протекать естественным путём, повинуясь её величеству Генетике. Организм должен сам бороться за жизнь или умереть! В какие-то моменты жизни – другое дело. Я сопровождала повозку, когда Иван вёз малыша с Пашей из больницы. Ему из этой пукалки, которую он называет револьвером, было бы ни за что не отбиться от стаи голодных волков. Пришлось вмешаться! Плотный сгусток воздуха влетает волку в пасть, и его переворачивает на спину. Несколько часов он лежит обездвиженный, затем встаёт как ни в чём не бывало, забывая о том, что ещё недавно был голодный. Ой, какая мягкая эта портьера, и как здесь тепло! Амелия, не забывай, что главное для нас – вот эти подрастающие два мужичка, которых нам с тобой сопровождать по жизни. Их окружение – фактор вторичный, тот, который не имеет права вредить проекту. Давай взглянем на малыша!
– Я-то не забываю, – обиженно отвечала Амелия – ей пришёлся не по вкусу поучительный тон напарницы, – а вот ты – сначала нагрейся до комнатной температуры, а потом и подкатывайся к мальчику. От тебя же, как от Арктики, веет!








