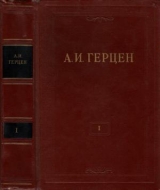
Текст книги "Том 1. Произведения 1829-1841 годов"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Шедше убо, научите вся языки, крестяще их во имя отца, и сына, и святаго духа.
Матф., гл. XXVIII, ст. 19.
О сем разумеют вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою.
Иоанн, гл. XIII, ст. 35.
Солнце уже склонялось к западу, пышная природа Юга была во всей красе своего вечного лета, когда в длинной платановой аллее, обвитой каменною оградой монастыря, показался игумен с юным другом своим, Феодором; уже неоднократно изливал он долго страдавшую душу свою в этот чистый сосуд, – сосуд церковный, божий. Старец радовался, найдя человека, который так вполне понимает его; в сотый раз повествовал он ему свою жизнь и свои надежды, и в сотый раз с умилением и благодарностию слушал юноша. Они сели на простой скамье, отененной широкими листьями пальмы; каленый воздух наносил дивный запах алоэ и лимонных деревьев. Огромные цветы магнолии, прощаясь с солнцем, хвастались своими красивыми венчиками. Ручные антилопы спокойно щипали траву, пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали с ветки на ветку. Старик, казалось, помолодел и таким образом продолжал свой разговор:
– Что может быть выше призвания апостольского?.. С живым словом в душе, с пламенною верой, с пламенной любовью ко всему человечеству и к каждому человеку идет он в общество людей. Для их блага переносит гонения и страдания; в их души, не отверстые истине, зароняет слово веры – и какое наслаждение, когда слово не погибнет – разовьется. Сильно живое слово, ничто не остановит его; тщетно земной человек противудействует своему спасению. Оно увлечет его.
Посмотри, как человек усиливается воздвигнуть башню Вавилонскую и как не может ничего сделать. Рим, твердейший столп храма земного, сильнейшее проявление человека Адамова, последняя твердыня его, – разве не носил зародыш своей гибели в самом развитии своем? Борение составляло его жизнь, ибо борение назначено в удел Адаму – пот, и пот кровавый. Но как во Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Господь примиряет с собою человека, и чем же? – Он снисшел до человека, чтоб человека возвысить до бога. Море благости и милосердия, он не хочет прямо простить человека: это уронило бы падшего, греховного; он дает ему самому средство искупления в Христе[96]96
Это мысль Данта.
[Закрыть]. И Христос, единый правый, страдает за всех виновных. Весь земная падает, весь небесная создается. Что за торжественный день для мира, когда он огласился в первый раз евангелием! Мир, истерзанный войною, услышал слово мира, мир попранный – слово свободы, мир ненависти – слово любви, мир неверия – слово веры. Всем говорило евангелие; исчезли племена и состояния, фарисей и саддукей отвергнуты, эллин и иудей приняты; всех манило оно в лоно божье, всех в объятия братства – первый Адам стал душою живущей, последний Адам есть дух животворящий. – И чтобы человек остался безответен гласу апостольскому? – Никогда! Никогда!
Нет, слишком мрачно смотрел любимец Его с Патмоса, когда, увлеченный своим восторгом, он писал огненные – строки Откровения Сион божий, весь Христова еще здесь, на сем мире, осуществится, она уже началась и вспять идти не может. – «Се дах пред тобою двери отверсты и никтоже может затворити их»… Пал Вавилон, пал Вавилон и не воскреснет более; пал великий город, облеченный в виссон, и порфиру, и багряницу, украшенный златом и камнями, и плачут о нем купцы, издали всматриваясь в развалины города, где они торговали и миррой, и фимиамом, и конями, и телами, и душами человеческими. Силен враг, живущий в развалинах, но он побежден, и мир, как Савл, сделается из гонителя апостолом, из воина крови воином Христовым. – Понятны мне грустные звуки, вырывающиеся из души Иоанна; его пламенный нрав не умел ждать; но неправ он; разве не при нем уже началась битва, на которую ангел звал вранов пожирать трупы сильных, и он, некогда склонявший главу на грудь Его, уже видел потрясенный Рим – словом евангелия? И кто же потрясли его? Эти гонимые, униженные, отреби миру, скитающиеся, нагие, в то время как о силу его раздробились народы всей земли. Оттого что голос их был голос бога, голос человечества, оттого что они душою предали себя Христу и своему призванию. Этого голоса не сковали темницы, не казнили секиры не растерзали тигры. Что против этой любви и веры могли легионы, и патриции, и цезари? Эти люди веры были сильнее сильных мира сего, которые с улыбкою презрения говорили о назарянах. «Ничего не имея, – по словам Павла, – и всем обладая».
Сын мой, несмотря на то, что я горько обманулся в людях, я убежден в скором утверждении царства Христова. Священные минуты, когда явилась мне впервые мысль этого Сиона, когда я прозрел ее в евангелии, когда так близко казалось мне осуществление ее… Настал для человечества день исхождения из Египта. Труден путь: и степи, и голод, и жар; но снова разделит Иегова нам Чермное море и введет в землю обетованную. Мы, может, погибнем в пути, но они перейдут – не достаточно ли одной этой мысли, чтоб с сладкою надеждой явиться пред судиею, исполнив долг свой? – Долго нам еще странствовать, и ужасно теперичное состояние. Гонения остановились, но слабые пали духом. Христиане сделались хуже язычников. Где эта семья, у которой было одно сердце, одна душа, где собственности не было, а было все общее, как говорит Лука? Где братство, в котором были и невежды, и ремесленники, и пахари, и старые женщины и из коих выбирались вожди церкви Христовой, и какие вожди? – Но не будем сетовать, пускай смердят и разлагаются остатки древнего мира; не из развалин его построится Сион, они нечисты. – Ежели б ты знал, что такое Византия… Грехи ее дошли до неба, и бог воспомянул неправды ее; на ней совершится громовое пророчество Исаии, она будет рабою иноплеменников. И там, в этой-то Византии, я видел великих светильников церкви; духовенство отделилось от мирян, и в нем сохраняется весь Христова; оно-то собиралось в Никее, в этот великий день веры оно не простило Константина, облитого тройною кровью – сына, племянника и жены. Да, среди пустынь, за стенами монастырей, возрастет слово Христово: «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла», – и оттуда пересодится на открытое поле, когда из него исторгнутся плевелы. – Догнивайте же, остатки Вавилона, снедаемые собственными пороками, гибните в сладострастии и сребролюбии, гибните в гнусных, позорных руках евнухов и женщин.
– Неужели, отец мой, ты рядом ставишь женщин с этими полулюдьми? – спросил юноша.
– Нет, но, – сказал игумен, строго взглянув на Феодора, – но бойся женщин; их красота – красота Авадонны.
– Но красота от бога и есть проявление его, говорит Августин, который сам любил.
– Горе тебе, ежели ты только нашел в Августине, – возразил старец. – Далила, обрезывающая власы Самсона, – вот образ всех женщин. Вспомни, что Сирах боялся их, как ядовитых скорпионов, более, нежели тигра и дракона. Их слабые души, их изнеженные тела привязывают к земле; не имея сил, они коварны; не имея возможности подняться, они держат нас, как жена Потифара, за край одежды. Женщина требовала главу Иоанна, женщина была первая преступница в обществе апостольском… но отчего же ты огорчился, Феодор? Но я знаю тебя… наш разговор зашел далеко, пора готовиться к девятому часу… Верь мне, юноша: скуделен сосуд этот, и гибельна красота его. Благословим память Марка, основавшего в твоей родине жизнь монастырскую. Здесь мы можем работать для человечества, и ничто не отвлечет нас. Семья Иисуса были его ученики, семья наша – братия.
Игумен кончил, встал и пошел по аллее. Юноша долго смотрел ему вслед и был взволнован. «Женщина требовала главу Иоанна, – думал он, – но дева родила Христа. Сирах… Сирах же говорит, что женщина добродетельная есть солнце, восходящее на небе господнем, ясный светильник на церковном подсвечнике. И кто распял Его? И кто стоял при кресте? О, ты, ты один справедлив, Сын божий, ты простил даже преступную…» Но вдруг лицо его вспыхнуло, слезы налились в глаза, и он воскликнул: «Ты прав, ты прав, отец святой».
V
15. За тем я вышла ранним утром из дома, чтоб найти тебя, – и нашла.
16. Я ложе мое украсила цветными коврами египетскими.
17. Я облила его миррою, алоэ и кинамонами.
18. Приди насладиться любовью.
Соломон, Пр., гл. VII.
За несколько лет перед тем как игумен доказывал Сирахом, что женщины страшнее дракона, и Феодор оправдывал их Сирахом, говоря, что они похожи на солнце, – опустел дом одного богатого гражданина в Александрии. Этот гражданин был женат на прелестной египтянке, любил ее, как африканец, – и она любила его, до тех пор пока не приехал в Александрию греческий вельможа с сыном. Византийский юноша, прелестный собою, со всею изысканностью нравов падающего царства, со всею привлекательностию ложного просвещения, понравился египтянке; она изменила мужу, потом сделалась грустна, задумчива; какая-то сокровенная мысль терзала ее; она не могла смотреть на обманутого и оставила его. Тщетно искал он ее; никогда не было ни малейшей вести о преступной. С того времени пышный дом его превратился в гроб, тоска снедала сердце, растерзанное сомнениями; он не знал о измене и не понимал причину бегства; худой, убитый, он больше походил на вызванного духа, нежели на человека. Много лет прошли в печали и слезах, и как наиболее питают надежду люди, не имеющие на нее никакого права, так и он ждал беспрерывно то ее возвращения, то какого-нибудь известия и, не получая никакого, тем с большею уверенностью хватался за всякую тень надежды. И вот однажды снится ему сон, будто ангел господень, с вечно юным лицом, с улыбкой на устах, летит с неба, летит прямо к нему, останавливает свой полет над его головою, качается на дивных крыльях и, сказав: «Нынче у храма св. Петра», летит наверх петь бога.
Он проснулся; сны иногда бывают так ярки, так выразительны, что нельзя им не верить. Он добавил к словам ангела смысл, который хотел, поспешно оделся и отправился к храму св. Петра. С ранней зарею сидел он уже на мраморных ступенях, под колоннадою храма, осматривая каждого человека, как таможенный пристав. Сначала прохожие были редки, потом целыми толпами двигались они по площади. Житель стран полуденных не умеет сидеть дома; многие укрывались от солнечного зноя под тем же порталом. Но где же она? Никто не обращал на него внимания, никто не говорил с ним, и он пользовался этим уединением особого рода, которое ощущает человек в толпе людей, когда не делит с ними ни их желаний, ни их мыслей. Твердо полагаясь на глас божий, он ждал и ждал. – Кто-то ехал на ослице в черном платье; он не спускал глаз с него; но это был монах. Инок подъезжал к храму, слез с ослицы и, как бы пораженный неподвижностью сидящего, дрожащим голосом сказал ему едва внятно: «Добрый день, господин». – Он не обратил на него внимания, не его искал несчастный. Монах оставил ослицу и взошел в храм; потом народ опять начал редеть, уходить; солнце садилось, ночь наступала, и отчаянный муж, второй раз теряя свою жену, тихими шагами побрел домой. Через несколько времени вышел монах, тотчас обратил глаза на место, где сидел несчастный, и, как бы обрадованный его уходом, поспешно сел на свою ослицу, вздохнул, перекрестился, еще раз вздохнул и поехал к городским воротам. Было поздно; сильный ветер дул с взморья; черные тучи, окровавленные снизу лучами солнца, роняли огромные капли теплой воды на растрескавшуюся землю. Феодор, взволнованный встречею и боясь грозы, не хотел ехать далее и свернул в монастырь Энат, лежащий возле Александрии. Служитель божий, гражданин всего мира христианского, в те времена везде находил отворенную дверь, и всюду приход его считался счастием, тем паче в монастыре, куда приходили все бедные и труждающиеся дети церкви.
Вечерняя молитва началась. Феодор взошел в церковь и удалился в небольшое углубление, бывшее в стене; там, никем не зримый, хотел он принесть свою молитву Искупителю. Тихое, стройное пение монахов едва было слышно, и тем невещественнее, тем неопределеннее, тем святее становилась песнь. Полузвуки согласовались с полумраком, в котором был погружен храм; своды, казалось, исчезли, стены – какими-то массами тумана; дым из кадильниц, виясь около изображений, придавал им таинственное движение. И шаги по каменному полу, и мелькание черной рясы, и ее шорох увеличивали торжественность, возможную только в храме божием и которую испытал всякий, с чистой душою входивший в церковь. Тем сильнее действовала она на мечтательного Феодора, – его можно было принять за изваяние; именно он, как статуя, выражал одно чувство – чувство молитвы. Иногда слабый вздох вырывался из груди его, как будто он упрекал себя в чем-то, иногда и слеза навертывалась, но восторг всё поглощал, соединяя все мысли в гимн.
…Близ углубления, где был Феодор, стояла молодая женщина, прелестная собой, как те девы Востока, о которых пел Низами; сначала молилась и она; но вскоре молитва исчезла с уст ее; беспрерывно смотрела она на юношу; освещенный последним остатком света, окруженный мраком, Феодор казался ей чем-то принадлежащим нездешнему миру; она думала видеть архангела, принесшего благую весть деве иудейской… Огненная кровь египтянки пылала.
Окончилось вечернее моление. Феодор пошел к игумну, не обратив на нее ни малейшего внимания, сказал ему о причине приезда и просил дозволения переночевать. Игумен был рад и повел Феодора к себе… Первое лицо, встретившее их, была женщина, стоявшая близ Феодора, дочь игумна, который удалился от света, лишившись жены, и с которым был еще связан своею дочерью; она приехала гостить к отцу и собиралась вскоре возвратиться в небольшой городок близ Александрии, где жила у сестры своей матери.
В ленивой груди жителя Юга бывают минуты торжественные; в такую минуту он переживет все, что по мелочи испытает гиперборей. У него страсть родится, подобно дочери Зевса, в полном вооружении. Зажженная однажды, она может гореть и жечь его до гроба. Его страсть любит до уничтожения предмета любви, пылает местью до уничтожения самого себя. Это огненная масса, внезапно воспламеняющаяся и никогда не тухнущая. Египтянка любила Феодора пламенно, безвозвратно. Бледные девы Севера не поверят этому; они не знают этого ада страстей, привыкнувшие к своим мечтам о духовном, о небе, то есть не о настоящем небе, а о том, которое они создали себе для бегства от скупой и туманной природы. Она с жадностию впивала каждый взор его – но этот взор был обращен к небу; с жадностию слушала каждое слово – но это слово было о боге. «Любовь, – сказал он, – вот основание мира, и апостол говорит, что недостаточна вера, ежели нет любви». Но не о земной любви говорил юноша, о земной понимала дева.
Взошедши в келью, для него приготовленную, Феодор бросился на скудную постель из банановых листьев и не тушил еще лампы, как вдруг начала отворяться дверь и тихо-тихо взошла какая-то старуха с темным, загорелым лицом наших цыган, с впалыми щеками и неверным взглядом; украдкой окинув горницу, она сказала: «Служитель Христов, есть человек, нуждающийся в твоей помощи; не откажись идти за мною». Феодор молча встал и пошел за нею. Вышли на двор, все было темно; подошли к какой-то маленькой двери; старуха отворила ее; за нею еще мрачнее; пустила его вперед и исчезла; но не долго стоял Феодор – его взял кто-то за руку, и на этот раз не высохшая, костлявая, угловатая рука старухи, а нежная, мягкая, трепещущая ручка, горячая, как каленое железо. Прикосновение во мраке всегда наводит ужас, и Феодор содрогнулся. «Сюда», – прошептал едва внятный голос, и он смиренно шел; небольшой переход оканчивался дверью; ее отворил его спутник, и в нем он узнал прелестную дочь игумна.
Полунагая, едва одетая легкой тканью, которая более обнаруживала ее красоту, нежели скрывала своими фантастическими драпри, трепещущая и огненная, стояла она перед ним, не смея ни поднять на него взора, ни оторвать его от пестрых цветов ковра, до которого чуть касались ее маленькие ножки. Слезы катились из ее глаз, засыхая на разгоревшихся, воспаленных щеках.
– Странник, – сказала она, долго принуждая себя сказать то, о чем молчать ей казалось так трудно, – прости меня… Странник, я люблю тебя… но, бога ради, не смейся надо мною… Я видела, как ты молился; твой вдохновенный взор, твое лицо, твой страстный взгляд не идут молитве; твоя душа пламенна, она не может удовлетвориться молитвою; ты обманываешь себя. Люби меня… может, тебе неизвестно это море блаженства, я тебе раскрою его, мы потонем в его волнах; я сожгу тебя моим поцелуем, я обовьюсь, как эфеу, около тебя, я умру, целуя тебя… – И, говоря это, дева в самом деле тонула в океане страстей и, полумертвая, дрожащая, готова была броситься в объятия юноши; но они не раскрылись. Спокоен и тих был взор Феодора; таким взором смотрит луна на бешеную Этну, пламенем раздирающую свою грудь.
– Дева, – сказал он ей, – благодари судьбу, что ты это говоришь мне, отжившему для мира сего; я не воспользуюсь слабостью овцы гибнущей. Вспомни, что ты христианка. Я соединю свои молитвы с твоими, чтобы господь извел из тебя злого духа, губящего душу твою. Дева, и я был порочен, и я знаю, как слабы женщины… тем сильнее будет молитва моя, тем спасительное тебе.
– Как, ты любил! – воскликнула она. – Ты любил! – и ревность к прошедшему взволновала ее грудь, в которой не было места и одной страсти. – Где она?.. но… но, может, ее уж нет, может, она изменила, может, в ней не было этой бешеной страсти? О, я заменю ее, я свободна, как птица небесная; бежим в Грецию, там…
– Остановись, – сказал Феодор, и ланиты его показали, что он еще человек; но что их оцветило – любовь или воспоминание? – Я богу дал клятву, и ничто не сокрушит ее.
– Лицемер, деве дал ты клятву; обманщик, тебе ли носить монастырское платье? Да, это ясно; теперь все понимаю – но я умею мстить; ты видел, как необузданны страсти мои… И неужели твое сердце до того принадлежит другой, что нет места для меня? Один час, одну минуту дай насладиться тобою, и я счастлива, и возьми после жизнь мою, на что мне она тогда; и в этой минуте я солью все, и рай позавидует мне. Ты смущен; нет, нет, эта грудь не из гранита!
И она бросила лампу на пол, и душистое масло струями разлилось по ковру, и светильня, вспыхивая, и потухая, и курясь, прожгла его… судорожная рука обвилась около юноши, дрожащие уста с своим огненным, сладострастным дыханием коснулись уст Феодора; тщетно хотел он вырваться.
– Нет, нет, ты мой, я тебя не пущу! – шептала она, целуя его.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ясно и душно было утро, когда на ослице тихо подъезжал Феодор к Октодекадскому монастырю, везя елей для храма. Черты лица его, утомленные зноем, выражали опять то же спокойное, святое чувство, с которым он выехал за два дня из этой ограды. По временам взор его делался мечтателен, далеко устремлялся в пространное поле и, казалось, выпрашивал какого-нибудь предмета или искал кого-нибудь, но тотчас приходил он в свое всегдашнее положение. Молитва виднелась на устах, молитва во взоре, молитва в нем самом… и привратник, тот же старец, которого он ждал целую ночь, но еще старее, отворил ему вороты, и он опять въехал в этот тихий, умерший двор, где люди не измяли зеленой травы, где одни черные рясы мелькали меж белых надгробных камней, где душистые лимоны и пышные смоковницы заслоняли одни черные рясы и белые надгробные камни.
VI
17. И сказала ему: «Еврейский раб, которого ты привел в дом свой, хотел меня обесчестить…»
20. Тогда бросил он его в темницу…
21. Но господь был с ним.
Моисей, Кн. бытия, гл. 39.
– Нет, это клевета, – сказал игумен Октодекадского монастыря, – гнусная, черная клевета. – И тень сомнения уже прокралась на его лицо, и он, казалось, разуверял себя более, нежели стоящего возле монаха.
– Но пояс, – возразил тот.
– Хорошо. Неси лобзание мира нашему брату и скажи, что я спрошу у обвиняемого, и да падет вся строгость на главу преступную.
Монах склонился и вышел. Лицо игумна было ужасно, жилы на висках налились кровью и бились; он был смущен, несмотря на свою обычную твердость, и не знал, верить ли или нет какому-то обвинению, и то укорял себя в сомнении, приискивая наказание виновному, то верил обвинению, приискивая доказательства к опровержению его; он то вставал и прохаживался, то садился; наконец, обращаясь к молодому монаху, сказал: «Позови брата Феодора и оставь его со мною наедине».
Тихая, аскетическая жизнь подняла так фантазию Феодора, так приучила его к созерцательности, что он целые часы проводил, мечтая то о прелестной жизни, которая готовится праведнику в обителях рая, то о соделании всей земли одною паствою Христа, то погружался в созерцание бога и, долго теряясь в бесконечном, вдруг спускался на землю; и как хороша она ему казалась тогда, как ясно выражала Его и как понятно говорило и это ветвистое дерево, и эта пернатая птица! В такой-то созерцательной минуте был он, когда его позвали к игумну; это было так обыкновенно, что он, нисколько не удивясь, пошел к нему с светлым вдохновенным лицом, торопясь пересказать все, что чувствовал.
С холодным и важным видом встретил его игумен, пристально посмотрел на прелестного юношу и уже почти оправдал его в душе.
– Феодор, – сказал он, подавая письмо, – прочти его и скажи, правда ли?
Феодор стал читать письмо. Игумен остановил на нем испытующий взор, но юноша спокойно прочел и твердо сказал:
– Видит бог, что ложь.
– Твой ли это пояс?
– Мой.
– Где ты потерял его?
– Не помню, святой отец; я хватился его, возвратясь из Александрии, уже дома.
– Это пояс женский, – прибавил игумен, рассматривая.
– Я с ним пришел семь лет тому назад, – ответил Феодор не совсем верным голосом и наклоняя голову, чтоб скрыть пурпур, покрывший щеки его.
Игумен не заметил. Туча пронеслась.
– Я был уверен в твоей невинности, сын мой; нет, ты не мог так пасть, бог не дает порочному такой души; тебя избрал он в свое воинство, – и игумен обнял его, и тронутый Феодор рыдая целовал в плечо старика.
Но чрез несколько месяцев опять явились монахи энатские; они принесли с собою младенца, бросили его середь двора и с злобной усмешкой сказали: «Братия, ваше дело вскормить чадо порочной жизни вашей!» Обиженная братия требовала, чтоб назвали виновного, – ей отвечали именем Феодора. – Никто не верил, все просили игумна, чтоб он допросил виновного, и игумен, непоколебимый в своей доверенности, спокойно сказал: «Судите его сами», твердо убежденный, что одно слово, один вид Феодора будет полным оправданием. Он втайне даже радовался торжеству своего друга. Призвали Феодора. Игумен ждал с нетерпением оправдания, ободрял его взглядом, улыбкой; и каково же было удивление старика, когда Феодор, преклоняя колена, трепещущий, прерывающимся голосом от слез едва произнес: «Прости, отец святой, прости… я обманул тебя, ужасно обманул». Старец был притоптан к земле, не мог поднять глаз, ни вымолвить слова; пятна вышли на его лице, рука перестала перебирать четки и судорожно дрожала. Наконец, гордо взглянув на братию, он сказал повелительным голосом: «Изгнать презренного обманщика из монастыря, он пятнает нас». И озлобленная братия, униженная поступком Феодора, осыпала его насмешками и бранью; даже несколько камней полетело в юношу; все волновалось и кричало; один обвиненный стоял спокойно; минута волнения прошла, – это был прежний Феодор, то же вдохновенное лицо, и ясно обращался его взор на братию и к небу; и когда игумен, боясь тронуться его видом, спросил: «Чего же медлите вы?» – тогда Феодор возвел очи к небу, говоря: «Господь, теперь я вижу, что ты обратился ко мне, что грешная молитва дошла до подножия твоего». Потом упал он ниц пред игумном и сказал: «Не прощенья молю я, но молись о душе преступной, которая никогда не забудет тебя…» Слезы не дозволили ему продолжать… «Молитесь и вы, братие», прибавил он, вставая и низко кланяясь им. Наконец подошел к ребенку, взял его на руки, поцеловал и с видом искренней любви сказал ему: «Не плачь, дитя, не плачь». Долее не мог вытерпеть игумен; он чувствовал, что слезы готовы брызнуть из глаз; он встали пошел в келью. Взошедши в нее, раздраженный и недовольный собою, сел к окну и смотрел, как монахи вели Феодора к воротам, наперерыв осыпая бранью, как вытолкнули его; все было к Феодору немилосердо, даже старый привратник ударил его тростью. Феодор терпел все, защищая ребенка и как будто взором говоря: «Он-то чем виноват?»
«Так я никогда не был обманут, – думал игумен. – Это – искушение дьявола… Но как добр, как восторжен он был сначала и все семь лет! Я его любил, как сына, более, нежели как сына… Но как же он читал письмо так спокойно? Надобно быть очень порочну, чтоб скрывать пороки. Его погубила, увлекла эта женщина, а он еще защищал их, порождение ехидны, лишившее рая первого человека… И в самое то время, как он признавался, в моем сердце кричал голос: „Он невинен!” Никогда не надобно доверяться этому голосу. А как он перенес стыд и наказание! Каким взором взглянул на меня!.. О Феодор, зачем ты пал? Ты мне был так необходим; кто заменит тебя?.. Но не стыдно ли жалеть о нем? Старик, вот плоды твоей опытности, мальчишка обманул тебя. – И он смеялся судорожным смехом. – Не прав ли я был, сомневаясь принять его в монастырь?» Тут он остановился, – эта мысль мирила его с собою, – и начал думать не о Феодоре, но о новых искусах для приходящих. Ужасно хоронить друга; но еще ужаснее видеть свою ошибку в человеке, с которым делил душу, помыслы, это – кусок мяса, оторванный от сердца, горячий, кровавый. Игумен после этого происшествия сделался еще мрачнее, не велел при себе поминать бывшего друга, старался стереть его в памяти – и не мог забыть.
Между тем несчастный Феодор, опозоренный, униженный, изгнанный, был встречен людьми, которые слышали о его вине и ругались над ним еще злее монахов. Посредственность до того ненавидит все высшее, что для нее торжество всякое падение; сверх того, она воображает, что, бросая камень в виновного, закроет свои пороки. – Яростными голосами кричала толпа: «Где же сын живого мертвеца, отказавшегося от земли?» Феодор вынимал младенца из мантии и говорил: «Вот он»; но в этом не была видна дерзость злодея, который нагло показывает клеймо варнака, но какое-то самоотверженное чувство своего преступления; казалось, он просил их наказать себя и был готов все перенести.
У Феодора не было ничего; бедность грозила ему своими худыми руками, посиневшими от стужи, иссохшими от голода; никто не подавал ему милостыни; на последние деньги купил он молока младенцу, сам питался кореньями и морскими раковинами… «И хождаше по пустыне скитаяся, очерне же плоть от зимы и зноя, и очи потемнеша от горького плача, и живяша со зверьми», – этими словами описывает мартиролог его жизнь.








