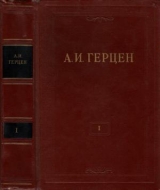
Текст книги "Том 1. Произведения 1829-1841 годов"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
<Чтоб выразуметь эту исповедь страдальца…>*
чтоб выразуметь эту исповедь страдальца, эту энергическую душу, вырабатывающуюся через мастерские часовщиков, передние, похоти, падения до высокого нравственного состояния, до всепоглощающей любви к человечеству. После «Исповеди» в 29 году в Васильевском я взял «Contrat social»; им Руссо надолго покорил меня своему авторитету; нигде я не встречал с такою увлекательной силою изложенными либеральные идеи. Я стал боготворить Жан-Жака, тогда и жизнь его, особенно поэтическое бегство от людей в Эрменонвиль, привязали меня еще больше лично к нему; он мне казался каким-то агнцем, несущим скорби всего человечества XVIII века. Я назвал любимое мое место в деревне Эрменонвиль и всегда поминал в нем гражданина женевского. Руссо в самом деле выражает все теплое начало французской философии XVIII века и все энергическое. Один Дидро может стать с ним рядом, но в Дидро нет этой чистоты sui generis[259]259
особого рода (лат.). – Ред.
[Закрыть], чистоты неподкупного Робеспьера, безумного Сен-Жюста. После «Contrat social» прочли мы с Темирой «Discours sur l’inégalité de l’homme» и т. п. Я было принялся за «Новую Элоизу», да бросил на второй части; мне, упивавшемуся небесными девами Шиллера, которые все похожи на его Деву чужбины, с их неприступною чистотою, с их неземною жизнию, не могла нравиться физически порывистая любовь Юлии, ни даже слог переписки ее с любовником. Жизнь действительную я в то время плохо понимал. Я искал в поэмах идеальные существа, какие-то тени, как все тени, имеющие образ человечий, но без тела. Несмотря на мое пристрастие к политическому учению энциклопедистов, вполне я не предавался им. Какой-то внутренний голос, инстинктуальный больше, нежели сознательный, боролся против грубого сенсуализма этой школы. Дух мой требовал свои права и отталкивал узкие истолкования. Может, чтение Шиллера направило меня выше воззрения Вольтера, может, гальванизм века будил этот голос в моей душе – не знаю, но всего очевиднее ненависть моя к материализму оказалась, когда я вздумал заняться естественными науками – это был богатый эпизод в одностороннем политическом направлении, ему я обязан долею хороших результатов, до которых достиг впоследствии; и если вторично спасся от односторонности.
<Конец 30-х гг.>
Заметки из «Записной тетради 1836 г.»
<Гретхен, в которую был влюблен Гёте…>*Гретхен, в которую был влюблен Гёте еще юношею («Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit»), не была ли основою Гретхен в «Фаусте»? Сходство огромное. И это не отнимает нисколько достоинства изобретения, разве его schwankende Gestalten[260]260
зыбкие виденья (нем.). – Ред.
[Закрыть] не могли созидаться из воспоминания сердечного, фантастического? И Клара в «Эгмонте».
<1836 г.>
<Ноября 6, 1836>*Ноября 6,1836
Весь вечер, занимаясь развитием мысли религиозной в жизни человечества и открыв некоторые весьма важные результаты, я радовался. Уже ложась спать, без всякой цели развернул Эккартсгаузена и попал на следующий текст св. писания: «И беси веруют и трепещут!»
Да, вера без любви – мечта!
Мышление без действования – мечта!
<1836 г.>
<Итак. Протестантизм и Густав-Адольф…>*Итак. Протестантизм и Густав-Адольф.
Пруссия (идея государства) и Фридрих II.
Эманципация – и Наполеон.
Три эпохи литературы.
<1836 г.>
Альбомные записи
<В альбом Т. П. Кучиной>*Первая любовь на все светит, все рáвно освещает; счастлива дева, на которую падает первый взор любви. Какою прелестью облекает ее молодое воображение, как пламенны о ней песни, как нежно юноша плачет. Это – лучшая минута в жизни.
A priori
Jean Paul Richter.
<1831 г.>
<В альбом В. А. Витберг>*Усталый путник прислонился к разбитому дубу – некогда этот дуб рос к небу; теперь мрачным памятником грозы и прежней славы стоит он, обожженный молнией, – одна юная ветвь, кротко склоняясь к земле, говорила о жизни, <при>-зывала луч солнца на свои листы, и привольно было светлому лучу играть в ее чистой слезе.
И путник благословил их, продолжая свою дорогу.
А. Герцен.
1837, ноября 12
Вятка.
<Отрывки из дневника 1839 г.>*
Владимир-на-Клязьме
Январь.
11-е
Новый год встретил меня у постели больной Natalie. Кругом тишина, не было ни посторонних взглядов, ни посторонних звуков. Странная перемена. Сбылась мечта, и сбылась с необъятной полнотой. Мы хотели быть вместе. Провидение соединило нас и оставило одних; да, по сю сторону – мы, по ту – люди. Мы точно забыты всеми в нашем уголку, где обитает любовь. Мы даны друг другу и за это обведены цепью, за которую никто не ходит; даже письма от друзей долетают редко, редко, едва ответ на два наши… и между тем мы так счастливы.
Новый год навевает много дум всякому; радостно встречая пришельца, я вздохнул о 1838 – он для меня был хорош – выкуп трех мрачных, ужасных предшественников. Лучшего года в мою жизнь не будет. Как скоро стираются несчастья, страдания, а минуты восторга, блаженства вечно живы, вечно свежи в душе; я забыл сердцем все, постигавшее меня с черного 20 июля 1834. А светлое – светит.
Новый год – всегда загадка, и мысль об ней наводит много меланхолического.
Мы годом ближе к смерти! – это верно.
А человечество годом ближе к великой эпохе братства и гармонии! – и это верно.
Остальное покрыто, время – тиран, от прошедшего оставляет тень, а будущему едва-едва приподымает завесу.
Пройдут столетия, и новый год навеет кому-нибудь те же мысли, те же мечты. Где я буду тогда? Будем ли мы так же вместе, Natalie?
Новый год есть периодическое memento mori![261]261
помни о смерти (лат.). – Ред.
[Закрыть]
Я дивлюсь геройству толпы: она толкует о смерти так, как о поездке в подмосковную; живет в своих мелочных отношениях, как будто каждому отпущено жизни, как Мафусаилу. Для чего они хлопочут о вздоре? – Они дети, потому и играют. Как им сделалось бы стыдно, ежели б
<После 19-го января>
Покойник был добр, но исполнен предрассудков и как человек прошлого века и как знатный человек. – Ну чем же был он виноват, что родился в такую эпоху и в таком положении?
Мы почти всегда осуждаем людей за вины, вовсе не от них зависящие. – Но он мог бы быть лучше в другую эпоху; это также доказывает бессмертие души, ежели мог, то и разовьется; за что же индивидуум будет принесен совсем на жертву человечеству?
Март
15, 16, 17, 18 марта
Не в самом ли деле в году есть дни, месяцы, особенно важные, климатерические, как говорили занимающиеся тайными науками? В таком случае март отмечен ярко в моей жизни.
25 марта 1812 я родился.
31 марта 1835 прочли повеление о ссылке.
3 марта 1838 первое свидание с Natalie после долгой, тяжкой и скорбной разлуки. С этого дня я должен считать светлую эпоху – за нею идут другие свиданья; но в главе их торжественное 3 марта. Одного недоставало для полного блаженства – Николая, и с ним свиданье было в марте.
Он пробыл у нас с Марией 15, 16, 17, 18*. 19-го я проводил его.
Когда я буду умирать, велю принесть себе мои письма, где я писал о 3 марта и хоть эту страницу о свиданье с другом. Мы четверо вдруг стали на колени и молились перед распятием. Душа так была светла, так торжественна!
Свиданье было нам необходимо; теперь я это понимаю вполне; мы передали друг другу повесть души за 5 лет, и после свиданья все это улеглось, и сердца наши закалились друг в друге, и мы благословили друг друга.
<Июнь>
13 июня. Десятый час.
О боже, о великий боже! Сохрани ее и сохрани его!
Тебя, существо неродившееся, тебя, в котором слились два бытия, Александр и Наталия, благословляю тебя, благословляю! Иди в жизнь, иди на службу человечеству, я тебя обрек на трудный путь, иди, благословляю тебя. – Может, погибнешь, но принесешь чистую душу. – Всею силою отца, всею силою воспитателя, всею силою магнетизма поведу я тебя по пути, не мною избранному для тебя, а богом для человечества.
Ее жизнию, твоей жизнию клянусь и присягаю.
Боже, сохрани же их!
<14 июня> Первый час!
Благодарю тебя, великий промысл!
Сердце бьется, еще чувства не укладываются в грудь, не токмо на бумагу.
Другие редакции
Лициний и Вильям Пен*
Scenario двух драматических опытов[262]262
Вслед за «Записками молодого человека» помещаю я Scenario моих несчастных драматических опытов, безжалостно убитых Белинским (XVI глава I части «Былого и дум»), который просил меня переписать стихи в строку, чтобы нельзя было заметить, что они писаны рубленой прозой на манер стихов. Сцены эти относятся к 1838; в них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно переработывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм.
[Закрыть]
I
Лициний.
Первая сцена. Рим во времена Нерона. Празднество нового года у Пизона, пышная оргия à ľantique[263]263
в античном духе (франц.). – Ред.
[Закрыть], у Пизона собрались сановитые патриции, художники, поэты, поклонники старины, представители славного прошедшего, недовольные легитимисты римской республики. Они уверены, что императорство не устоит, и в тиши работают, чтоб низвергнуть тирана. У них есть заговор, в нем участвуют избранные из избранных, сам Пизон, поэт Лукан, строгий, стоический римлянин древних дней Тразей и восторженная куртизана Эпихарис, которая не уступит ему в энергии и героизме.
Пир идет своим порядком: тосты, желания, политические намеки, цветы, вино, яства. В общем разгуле не участвует один молодой человек; больной, несколько юродивый, племянник Пизона, Лициний. Он недавно возвратился из Афин, родные заметили, что он с тех пор стал заговариваться. Вызванный из своих мечтаний, Лициний на веселый тост отвечает печальной речью. Он не верит в воскресение древнего Рима, и еще хуже, он и не желает его. На Риме лежит грех, грех Ромула; как бы, вызывая прошедшее из могилы, не вызвать Рема – голодного, одичалого в подземной жизни своей! Его ждут не граждане Рима, не патриции, его ждут бесправные, покрытые рубищем чернь спартаковская.
Гости привыкли к бреду Лициния, но тем не меньше на рассвете, после оргии, слова его действуют на нервы. Пир расстроивается.
Вторая сцена. В саду пизоновской виллы. Лициний очень болен, его мучит тоска, он велел себя положить под деревом. Возле него друг его первой молодости, юноша, блестящий умом и красотой, пылающий здоровьем, Мевий. Мысль Лициния занята смертью; как настоящий римлянин, он философствует, чувствуя ее приближение. Печален его взгляд. Он видит ясно, как все его близкие несутся в неминуемую гибель, он знает о их заговоре, он не верит в его успех, и вообще не верит, чтоб Рим можно было воскресить; его час настал, и спасти его нельзя и не нужно.
Мевий с ним согласен; он ясно понимает, что тех нравственных сил, которые поддерживали древнюю республику, нет больше. Он тоже не видит выхода в смысле реставрации, но он находит безумным страдать о вещах, которых нельзя переменить; не остается ли человеку еще другая жизнь, чисто личная, принадлежащая ему? Разве у него можно взять способность наслаждаться? Пусть же человек пользуется всеми дарами жизни, пользуется тем мгновением, которое ему уступлено судьбой и которое дается только раз. Мевий уверяет Лициния, что вообще в природе нет ни того счастия, ни того несчастия, о котором мечтают люди и которого боятся: жизнь почти всегда одинакая, и перемены поражают только со стороны. «Сегодня цветет одно дерево, а завтра другое». Теперь где-нибудь в полуразрушенных Фивах нет прежней исторической жизни, а змеям и ящерицам жить веселее, и птицам привольнее вить себе гнезда.
Лициний не слушает его; он вспоминает о встрече с каким-то пророком или волхвом, которого вера была так полна покоя, надежды, – если б он мог верить, он был бы счастлив, но веры нет в его сердце. Он забывается или впадает в забытье. Старик, плешивый афинский старик, волхв перед ним, он зовет его… дыхание слабеет, и юноша умирает.
Третья сцена, на форуме. Державный народ у себя дома, в своей приемной зале. Импровизатор поет наивычурнейшими стихами оду о доблестях божественного, августейшего Нерона, отца отечества. Лазутчики подсматривают, восхищаются ли люди хорошо одетые. За плебеями никто не смотрит, они и бранят Цезаря, но они его любят; бранят они его за то, что он стал скуп на гладиаторов, агенты успокоивают народ, говорят, что скоро будут травить в цирке дикими зверями каких-то назареев, что они уже привезены и содержатся в клетках, т. е. тигры и львы, а назареев скоро пригонят. Это успокоивает умы.
Патриции потом толкуют о тяжелых временах. Новая несправедливость Нерона сильно оскорбила их, какой-то сенатор был убит рабом, наследники хотели в наказанье убить всех рабов до единого; Нерон сказал, что это глупо, и запретил. После этого где же неприкосновенная святость собственности?
Приходит какой-то раб и рассказывает, что недалеко от города, на Аппиевой дороге, он видел какого-то колдуна с востока, что ему навстречу шли из Рима люди в белой одежде с зелеными ветвями, что за колдуном идет толпа нищих, женщин, они рассказывают, что он лечит прикосновением руки, что ночью около его головы видно сияние… «В цирк его, в цирк! – кричат со всех сторон. – Но сначала пойдемте его смотреть!»
Четвертая сцена. Уiа Аррiа[264]264
Аппиева дорога (лат.). – Ред.
[Закрыть]. С одной стороны дороги – родовой колумбарий Пизона, все приготовлено для сожжения тела Лициния. Похоронная процессия; отец Лициния идет печально за телом, его утешает Сенека, приводя в пример всех знаменитых отцов, потерявших детей, рассказывая мнения египтян о смерти.
Патриции-заговорщики рады случаю пошептать, с важностью сообщают они друг другу не важные вести, таинственно сговариваются на пустой сход. Родные устали и хотят есть.
В это время с противуположной стороны показывается на дороге поднимающийся в гору апостол Павел и останавливается перед расстилающимся амфитеатром Вечного города. Он благословляет языческую весь и, обращаясь к своим, произносит речь.
Отец Лициния продирается к нему и просит воскресить сына – «если твой бог велик, отдай мне сына и возьми у меня что хочешь». Апостол говорит ему, чтоб он молился и верил, потом, снова обращаясь к народу, пророчит кончину старого мира и водворение нового, смерть в первом Адаме и жизнь во втором. Окончив проповедь, он молится коленопреклоненный.
Лициний открывает глаза, приходит в себя и начинает узнавать Павла.
Павел продолжает речь. Народ, пораженный ужасом, видя оживленного покойника, молчит. Отец Лициния умоляет Павла взять часть его достояния. «Раздай бедным, – отвечает Павел, – мне не нужно!» Народ яростно рукоплещет. Отец зовет сына с собой, но тот, кротко взяв его руку, говорит ему: «Лициний твой умер, вот мой отец и моя родина, я иду по стопам его». Народ расступается, приветствует Павла. Сенека не верит в воскрешение, он думает, что Лициний был в летаргическом сне. Какой-то жрец находит, что это гораздо опаснее, нежели думают, и идет, во имя богов, делать донос в языческую консисторию.
II
Вильям Пен.
Та же мысль, тот же основной мотив и в «Вильяме Пене». Опять разрыв двух миров, опять отходящее старое теснит возникающее юное, опять две нравственности с ненавистью глядят друг на друга.
Вильям Пен исторических сцен не похож на исторического Пена, я плохо знал историю Англии того времени и имел самые общие понятия о Пене, населившем Пенсильванию. В моем очерке должно искать другую правду, не историческую; в Шиллеровом Дон-Карлосе так же трудно найти Дон-Карлоса испанских летописей, как в моем бледном Вильяме Пене хитрого квакера, описанного (с пристрастием, может, в другую сторону) Маколеем. Беда не в том, а в том, что очерк из английской, протестантской жизни кажется мне больше натянутым, чем «Лициний», особенно в конце.
В небольшом английском городе, в сырой, темной лачуге сапожник оканчивает субботнюю работу; в углу лежит больной ребенок, его сын, в лихорадке; одежда, которой он покрыт, коротка, в комнате холодно, топить нечем. Возле сапожника тощий, изнуренный работник. «Что ж, деньги от попа получил?» – спрашивает хозяин работника; работник говорит, что два раза ходил, но что кухарка не только не допустила его, но разбранила и строго-настрого запретила приходить до понедельника. Reverend[265]265
Преподобный (англ.). – Ред.
[Закрыть] сочиняет проповедь на завтра и все мирские дела оставил.
Сапожник крепился, он давно угрюм, в его голове давно бродят странные мысли, он сам их боится; но сосуд переполнился, этой капли недоставало, больной ребенок должен дрогнуть, они оба остаются два дня без пищи, потому что гeverend сочиняет проповедь.
– Не об милосердии ли? – спрашивает он и бросает свое шило; речь страстная, полная упреков и обличений, несется бурным потоком, и болезненный работник, пораженный, тронутый, повергается в прах перед ним, уверенный, что его устами говорит дух святой. Сапожник растет гневом и мыслью, завтра он идет в церковь, он прервет речь фарисея, он скажет проповедь, он сам священник.
Во второй сцене мы уже встречаем Чарлса Фокса, лейстерского чеботаря, раскольническим иересиархом, уже он не живет на месте; «слово», ему вверенное, дух божий его гонит с места на место, из одного местечка в другое с проповедью, с призывом на новую, евангельскую жизнь.
На дороге, ведущей от большого, сумрачного замка, лежит нищая старуха, разбитая параличом. Проходит Фокс, выезжает из ворот замка мальчик верхом. Нищая поет свою песню, мальчик с состраданием взглянул на нее, пошарил в кармане и бросил ей серебряную монету, но бросил так далеко, что безногой нищей нельзя и достать без больших усилий. Юноша хочет скакать далее, но перед ним мрачная фигура сапожника-пророка. Дюжей рукой пролетария он схватил лошадь под уздцы. «Ты сделал доброе дело, но сделал его скверно, – говорит он мальчику, – посмотри, куда ты бросил деньги, как же эта беспомощная женщина их достанет, подними их и отдай ей». Первое движение мальчика было желание вытянуть его хлыстом и дать шпору лошади. Но спокойно-строгий вид Фокса, его ожидающий взгляд и страшные слова поразили юношу. Он наивно говорит, что не видел, куда бросил монету, и в доказательство, что он напрасно его бранит, соскакивает с лошади и с улыбкой подает старухе деньги. Фокс, тронутый до слез, благословляет его. Мальчик этот – Вильям Пен.
Третья сцена в замке Вильямова отца. С тех пор как юноша встретился с Фоксом, прошло несколько лет. Отец его начальствовал где-то в колониях английским войском, завоевал земли, разбил неприятелей, заключил выгодный мир и теперь возвращается торжественно – отдохнуть – на родину. Его ожидают депутаты, присланные из Лондона с великолепными подарками, посланный короля с лентой, звездой и огромным пергаментовым свитком. Гремят литавры и музыка, является отважный полководец, ему говорят приветствия, он говорит приветствия; пробиваясь сквозь алдерманов, придворных и офицеров, бежит к нему его сын и бросается ему на шею. Старик радостно прижимает его к груди и вдруг отступает, спрашивая с удивлением сына, что за странный костюм на нем и как он смел явиться к нему так на встречу. Сын объясняет ему, что он принадлежит к братству, которое приняло эту одежду. Отец хочет обернуть дело в шутку, посылает сына снять платье и одеться прилично. Сын кроток, тих, но непоколебим. Отец начинает сердиться, и когда сын говорит ему: «Ты сам подумай, отец мой, не лучше ли тебе снять твой меч, ведь здесь нет врагов, кого ж ты хочешь убить им» – он выходит из себя и велит сыну удалиться. Четвертая сцена. Семейный совет в доме старика Отец созвал всех ближних своих, законников и духовных, чтоб в последний раз урезонить сына, и, если он и тут будет упорствовать, выбросить его из семьи, которую он пятнает. Вильям является не подсудимым, а судьей и обличителем (процесс сен-симонистов в 1832 году был еще жив в памяти в 38). Родные отказываются от него, легисты осуждают, духовные предают проклятию, отец хочет его лишить наследства. Наследники придумывают, какие улучшения они сделают в именье, как перестроят замок. У раздраженного старика поднялась подагра, его кладут в постель, и он умирает, не сделав завещания.
В пятой сцене Вильям Пен, теперь богач, располагающий как хочет своим именьем, сидит с стариком Фоксом, их занимает важный разговор. Вильям много ездил, он не верит ни в Англию, ни в Европу, для основания братской общины надобна свежая, девственная почва; эта почва по ту сторону океана, он продал свое имущество в Англии и купил корабли, он кликнул клич в Англию, Германию, Голландию и только просит благословенья Фокса. Жаль устарелому Фоксу отпустить его, и трудно самому расстаться со своей старой Англией, но наконец благословляет его на путь.
Шестая сцена, в Пенсильвании. Дряхлый Пен близок к могиле, он очень печален, мечтаемое евангельское братство не учредилось, а новый край, призванный им к жизни, растет с могучей красотой; везде слышится стук топора, реки покрываются барками, плуг подымает землю, починки растут в деревни, деревни в города. Все это видно из разговоров разных сетлеров и проч.
Наконец, весь этот длинный ряд картин, переданных мною довольно верно по памяти, sauf erruer et ommission[266]266
Если не считать ошибок и пропусков (франц.). – Ред.
[Закрыть] (очень естественных, если вспомнить, что я двадцать два года до них не дотрогивался), оканчивался таким чисто французским финалом: на могиле Вильяма Пена, в восьмидесятых годах прошлого столетия стоят три путника, пришедших поклониться его праху. Один их них Вашингтон, другой Франклин, третий Лафайет – граждане Северо-Американской республики.








