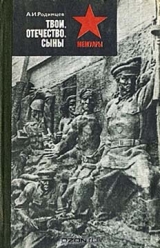
Текст книги "Твои, Отечество, сыны"
Автор книги: Александр Родимцев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Уступив машину медсестре и двум раненым солдатам, я шел со штабом 42-го полка, и в эти долгие часы ночного похода меня не покидало чувство удивления. Оно было понятно: в этом раздольном краю мы дрались временами за каждый метр пространства, за каждую высотку и мало-мальски выгодный рубеж, а вот сейчас в расположении противника смело и открыто совершала марш целая дивизия, и никто не вставал на ее пути.
Все же любая смена обстановки на фронте таит в себе возможности неожиданных действий: немцы, конечно, не предполагали, чтобы наша дивизия предприняла этот марш. У тех высот, которые недавно с боем были взяты полком Самчука, гитлеровцы теперь наверняка накапливали силы. А небольшое прикрытие, оставленное Самчуком, уже снялось с позиций и двигалось в нашем арьергарде. Каково будет изумление немцев, когда они увидят на высотах только отстрелянные гильзы да окурки!
Значит, неожиданность теперь была для нас решающим фактором успеха: оценив соотношение сил, мы могли избежать боя или навязывать противнику его. Опыт недавних сражений показывал, что гитлеровцы предпочитали воевать днем, а по ночам спали, пьянствовали, объедались трофейной курятиной и свининой, готовили посылки из награбленного имущества. Здесь, в населенных пунктах, отдаленных от передовой, они, пожалуй, чувствовали себя спокойно. Тем с большей уверенностью думал я о нашей контратаке, которую мы, конечно, должны были предпринять, если бы встретили противника.
Не встретить его было бы чудом: войска противника лишь недавно прошли этой дорогой и находились где-то очень близко от нас.
А ночь была на редкость ясная, тихая, пахнущая спелой рожью, пылью дороги, дыханием томленых трав. По дальнему горизонту временами вспыхивали зарницы, быть может, отблески дальних пожаров, и в зыбком их свете загорались и гасли волны хлебов.
Сколько прошли мы степных дорог от Южного Буга до Северского Донца, и всегда эти бескрайние хлеба, радость родной земли, щедрая награда земледельцу, были для нас неотступным, живым упреком, горечью без меры и границ. Молча шагали солдаты измятыми травами обочин, и сполохи света гневно блестели на стали их касок и штыков.
Я понимал это суровое молчание сердцем: нет, нам было недостаточно выйти из вражеского тыла без потерь. Мы должны были нанести потери противнику, проучить его, чтобы не торопился торжествовать победу, да так проучить, чтобы он запомнил этот урок.
Впереди наших усиленных батальонов шли головные походные заставы. Какой из них доведется первой встретиться с врагом? Усиленным батальоном 42-го гвардейского стрелкового полка командовал мужественный офицер Александр Данилович Харитонов, которого я хорошо знал по прежним боевым делам и верил в его находчивость и отвагу.
По моим расчетам головная походная застава Харитонова уже должна была приблизиться к селу Ульяновка, где наверняка находились войска противника, но никаких донесений от комбата не поступало. Вскоре со стороны Ульяновки донеслась ружейно-пулеметная стрельба. Значит, Харитонов предпринял контратаку.
Только под утро я узнал подробности событий, которые произошли в селе Ульяновка в ту ночь. На окраине села наши разведчики встретили местных ребят, и, с радостью узнав своих, ребята сообщили, что в Ульяновку под вечер прибыли 32 немецкие машины. Двенадцать были заняты солдатами, а на двадцати гитлеровцы доставили какой-то груз. Теперь они отдыхали, расположившись в здании школы и в ближайших к ней домах, а перед школой дежурили три автоматчика.
Харитонов быстро прикинул силы противника: если в каждой машине прибыло 20 фашистов, значит, вместе с офицерами и шоферами их было около трехсот человек. Решение могло быть только одно: внезапная ночная атака.
Сельские ребята сами вызвались проводить бойцов садами и огородами к школе и к автоколонне.
На каждую машину Харитонов выделил по три бойца, а к школе направил отборную группу из разведки. Атака началась через несколько минут, но гитлеровцы, оказывается, не спали. Они открыли из окон школы автоматный огонь и пытались обороняться у автоколонны. Машины были загружены горючим, и оно вспыхнуло при первых разрывах гранат, но нашим бойцам важно было не только разгромить врага, но и спасти бензин – он был теперь для дивизии самым драгоценным из трофеев.
Схватка у автоколонны вскоре перешла в рукопашную, и еще около полубатальона солдат противника перестало существовать. Группу офицеров, укрывшихся в здании школы, наши бойцы добили гранатами. Но отстоять от огня им удалось только три машины, которые и были доставлены в 42-й гвардейский стрелковый полк.
Все же для нас это была большая радость! Теперь мы имели возможность полностью заправить машины артиллерийского полка и противотанкового артиллерийского дивизиона. Значит, несмотря на отрыв от фронта и на все потери в многодневных боях, дивизия жила, еще являла грозную силу, и ей предстояли большие дела.
Печальный путь. Следы зверя. Дашенька. Генерал Горбатов. Встреча с двумя комдивами. Схватка в Нехаевке. Рыжий ефрейтор. Танковая колонна. В лесу.
Степь. Зной. Пыль… Кажется бесконечной наша дорога мимо безмолвных, словно вымерших сел, среди нескошенных нив, изрытых воронками бомб и снарядов.
Мы движемся на восток. Тоскуют родные поля. Уже закончился июнь, и солнце жжет беспощадно. В негромких разговорах солдат все чаще слышится слово «Дон», и в этом слове звучит надежда.
Неужели мы остановимся только на Дону? Впереди еще бескрайние просторы степей, на которых смогли бы уместиться целые европейские государства.
В пути умирают наши раненые. Мы молча хороним их у дороги. Солдаты проходят мимо свежей могилы, и кто-то роняет на нее золотисто-жаркие полевые цветы.
Многих мы не досчитываемся в колонне дивизии. Сегодня 1 июля. Из перелеска вышла небольшая группа усталых бойцов. Это остатки усиленного батальона нашего 34-го гвардейского стрелкового полка. Среди них есть раненые. Батальон был атакован танками противника, и наши воины сражались до последней гранаты. Те из них, кто уцелел в неравном бою, пробирались мелкими группами на восток в надежде отыскать родную дивизию. Какие испытания ждали их на опасном пути, если в окрестных селах уже расположились гитлеровцы?
С утра нас три раза бомбили вражеские самолеты, и мы не сомневались, что они прилетят снова. Было до боли обидно, что в дивизии нет таких необходимых теперь зенитных орудий, и мы отбивались только групповым огнем.
Однако молчаливая, серая от пыли колонна двигалась размеренно, без малейших задержек и остановок, и когда с высокого пригорка перед нами открылся зеленый хуторок с вербами над овалом пруда, лица солдат заметно просветлели – наконец-то их ждал отдых!
Но чем ближе скрытые в зелени садов строения хуторка, тем отчетливее следы пожаров и разрушений: как видно, здесь уже побывали гитлеровцы. На плотине, у пруда, я еще издали заметил большую пеструю груду тряпья. Над нею тяжело кружил ворон.
Навстречу движению колонны от хуторка мчался во весь опор всадник. Поравнявшись со мной, он вздыбил коня и спрыгнул на землю. Только теперь я узнал командира конной разведки Лукашова. Но таким взволнованным я видел лихого кавалериста впервые: брови его изломились, губы побелели, поднесенная к козырьку рука тряслась.
– Товарищ комдив… – Он задыхался и, казалось, не находил слов. – Они убили всех… Женщины, дети – все убиты.
– Спокойно, Лукашов. Вы были в этом хуторе?
Он с трудом пересилил спазму, стиснувшую горло:
– Так точно, я только оттуда. Это птицеферма колхоза, который здесь же, в шести километрах. Гитлеровцы прибыли сюда вчера утром и пробыли три часа. Они расстреляли все население хутора, а многих прикончили тесаками. Я заходил в дом бригадира: там в люльке лежит грудной ребенок, а в груди у него – нож…
Теперь я понял, что на плотине виднелась не груда тряпья, это были трупы расстрелянных. Я не ошибся. И хотя мне доводилось видеть много смертей, страшная картина расправы, учиненной гитлеровцами над десятком семей хуторка, навсегда, врезалась в память.
Мы не могли напиться здесь воды: единственный колодец был завален трупами расстрелянных. В пруду плавало множество дохлых уток и кур. Как видно, фашистам не понадобилась вся добыча, и часть ее они выбросили в воду.
Я шел единственной пустынной улочкой хутора, охваченный злой и тяжкой думой. Как же могло случиться, что немцы, давшие миру великих мыслителей, поэтов, музыкантов; нация, чью культуру мы, советские люди, с уважением и глубоким интересом изучали с детских лет, что эта нация вдруг осквернила себя, свою историю, свое имя бессмысленными и дикими преступлениями?
Разве крестьянский ребенок в скромной деревянной колыбели представлял какую-то опасность для буйной немецкой солдатни? А ведь возглавляли эту солдатню офицеры, лощеные франты, которых я видывал и в мирное время на парадах, на трибуне для военных атташе в Москве, – они щеголяли изысканностью манер! Как правило, теперь, оказавшись у нас в плену, они говорили о гуманности, эти кровавые псы. Но воины дивизии видели сейчас черные дела оккупантов, и немая, неистовая ярость клокотала в сердцах наших бойцов.
Я присел на скамейку под тенью клена и не заметил в раздумье, как ко мне приблизилась группа солдат.
– Разрешите, товарищ комдив…
Я вздрогнул: передо мной стояли четверо бойцов и старенькая седая женщина. Два бойца бережно поддерживали ее под локти.
– Эта старушка единственная осталась на хуторе, – доложил молоденький боец. – Мы привели ее к вам: она говорит, что хочет видеть главного командира.
Я встал, усадил старушку на скамью, и она вдруг схватила мои руки и, уронив голову, зарыдала. Я сделал знак солдату, и тот снял с пояса флягу, поднес женщине воды. Она пила жадно, не отрываясь, а потом вытерла рукавом глаза, снова судорожно схватила и затрясла мои руки:
– Ты видел, сынок? Ты все видел?.. Они не пожалели даже наших малюток, носили их на штыках!
– Ас чего приключилось, мамаша? Вы расскажите по порядку, а я слово в слово все передам воинам: мы будем беспощадно мстить!
– Слушай, сынок, ты видишь, что земля и небо красные от крови? Это моего сына Федора, дочери Настеньки, маленькой Дарочки, внучки, кровь… И крыльцо нашей хаты в крови: хата сгорела, сожгли анафемы, а кровь так и осталась, ее не тронул огонь…
Старушка временами заговаривалась, и в широко открытых, немигающих глазах ее тенью мелькало безумие.
– Рыжий Ганс… Это он верховодил. Здоровенный, рыжий, как медведь, небритый, в огромных ботинках. Сначала они переловили всех уток и кур, передушили, порезали, а потом стали отбирать получше. Половину выбросили в ставок. Рыжий ругался и кричал, что он, мол, любит жирную птицу. Потом он стал бродить по хатам, бить стекла и ломать мебель… В домике дедушки Цымбалюка, нашего старого бригадира, рыжий увидел Дашу. Красавица девушка – что очи, что брови, что русая коса! Ганс ее за руку: мол, идем со мной! Дашенька вырвалась, бросилась к двери, а этот рыжий пес успел схватить ее за косу. Дедушка Цымбалюк дома находился – стал на колени, плачет и просит, мол, отпусти внучку, не мучь, не позорь. И другие немцы сюда сбежались: хохочут, хватаются за бока. Дашенька белкой извернулась и зубами в руку этому разбойнику впилась. Взвизгнув, он ударил ее по лицу, а потом ногами стал топтать, тяжкими, огромными ботинками. Все это на дворе случилось, а дедушка Цымбалюк недавно тут цепом рожь молотил. Увидел он, что гибнет его любимая внучка, славная Дашенька-краса, поднялся на ноги, цеп схватил и того рыжего Ганса-собаку прямо по башке. Гад сразу зашелся, посинел, длинные ноги вытянул… а потом и начался погром. Дедушку всего ножами искололи, Дашу подняли на штыки и в колодец сбросили, женщин, детишек – всех до одного порешили. И мне бы теперь на плотине лежать или в колодце, да так случилось, что свет в моих глазах помрачился, и, видно, за мертвую меня приняли, кровососы… Сыночек мой, главный командир, кровь, она голос имеет, она кричит!..
– Мы слышим этот голос, мамаша, – сказал я старушке. – Слышим!
Мы похоронили погибших в братской могиле у пруда, под старыми вербами, задумчиво склонившимися у дороги, и последней почестью им прогремели три ружейных залпа. Я смотрел на лица бойцов – они словно окаменели, и в глазах их уже не было усталости, только всплески ярости, как отражение огня.
…И опять дорога, дорога… Жаркий ветер колышет зрелые колосья. Ворон медленно вырисовывает над нами витую спираль. Сколько же еще мы будем отходить? Этот вопрос я читаю во взглядах солдат, слышу в их голосах, даже в молчании. «Мы будем отходить до приказа, – отвечаю я самому себе. – Да, до приказа. А потом – стоять насмерть!»
Кто-то трясет меня за плечо. Я открываю глаза. Моя лошадка Воронок еле перебирает ногами. Рядом со мной едет командир кавэскадрона Лукашов. Он наклоняется, заглядывает мне в лицо, говорит озабоченно:
– Товарищ комдив, право, вам нужно отдохнуть. Трое суток… ведь вы трое суток не спали!
Ночью в сумрачном полусожженном поселке меня вдруг будит странно знакомый голос. Я вскакиваю с охапки сена, осматриваюсь по сторонам и снова слышу этот неотступный голос, донесшийся с дальнего хуторка:
«…Кровь, она голос имеет, она кричит!»
Вопреки всем усилиям гитлеровцев окружить нас и уничтожить, дивизия вышла из глубокого тыла противника и соединилась со своими войсками.
Однако наш отход не прекращался. С короткими боями отходили наши соседи – 226-я стрелковая дивизия генерала Горбатова, 15-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Василенко, 169-я стрелковая дивизия генерала Рогачевского. Как и у нас, у соседей не хватало ни боеприпасов, ни горючего. А сводки были тягостны и грозны: отходила не только наша 28-я армия, но и 38-я, отходил весь Юго-Западный фронт.
С генерал-майором Александром Васильевичем Горбатовым я встретился случайно в задымленной знойной степи. Он ехал в потрепанной легковой машине, пестрой от пулевых и осколочных пробоин. Неподалеку отсюда, сдерживая натиск мотопехоты противника, вели бой подразделения нашего 42-го гвардейского стрелкового полка.
Генерал узнал меня издали, вышел из машины, помахал рукой. Мы много раз встречались и раньше, и наши войска, постоянно имея локтевую связь, не раз оказывали друг другу боевую поддержку. Я пришпорил коня, осадил его перед машиной, спешился, и мы крепко обнялись. Впервые я заметил на висках генерала седину.
– Не спрашиваю, Александр Ильич, как дела. Знаю, что вы успешно вышли из тыла врага. Это, брат, здорово! Но обстановка на фронте крайне напряженная… Скажи, у тебя найдется хотя бы немного боеприпасов?
– Я сам, Александр Васильевич, хотел у тебя просить…
– А бензин?
– Мы вынуждены уничтожать машины.
Он глубоко вздохнул и засмотрелся на степь, по которой прямо от передовой медленно брело на восток усталое стадо.
– А колхозники все гонят стада. Фашистские летчики ради развлечения расстреливают с воздуха коров, лошадей, овец. Охотятся, дряни, за пастухами. Мне бы сейчас, Александр Ильич, немного боеприпасов, и мы бы эту назойливую шваль осадили. Так хочется дать им настоящий бой на прощанье…
Я не понял Горбатова и переспросил:
– Почему же… на прощанье? Мы с ними встретимся еще не раз!
Горбатов тряхнул головой, стиснул зубы:
– Ну, это конечно! И еще так будем гнать их, что пыль встанет столбом. А сказал я «на прощанье» потому, что сегодня с дивизией расстаюсь. Во фронт отзывают. Жаль расставаться, крепко я с нею сроднился, может быть, самую горькую пору здесь пережил.
Новость для меня была сверхнеожиданной: я уважал и ценил этого простого, сердечного человека, опытного командира, который личным мужеством, находчивостью и выдержкой заслужил любовь солдат. А выдержку Горбатову приходилось проявлять постоянно: с начала войны мы почти все время дрались против превосходящих сил врага. И столько раз в тяжелой, казалось бы, безвыходной обстановке, лично руководя боем и являя пример полного презрения к опасности, он поднимал на подвиги бойцов!
– Лучше бы ты не сообщал мне, Александр Васильевич, этой «приятной» новости, – сказал я. – Сам понимаешь, не с каждым соседом жаль расставаться.
Он положил мне руку на плечо.
– И все-таки верится, друг: мы встретимся при иных обстоятельствах. А вся эта лавина техники: танки, самолеты, бронетранспортеры, бесчисленные машины врага – все станет грудой металла и пойдет, на переплавку в наши мартены. Я говорю тебе: крепись! Я и себе это говорю, дружище…
Вскоре мы простились. Из-за пригорка в двух километрах от нас, вздымая смерчи пыли, снова выкатились вражеские танки. Они шли развернутым строем, и мне было отчетливо видно, как передовая машина замерла над овражком, попятилась и задымилась.
– Молодчина! – сказал я солдату, которого не знал и не мог узнать. – Только одна эта машина – что капля в море!
– Что верно, то верно, товарищ комдив, – неожиданно и совсем близко прозвучал знакомый голос. Я обернулся: передо мной с автоматом в руках, усталый и потный, стоял Борисов.
У меня мелькнула тревожная догадка: быть может, танки противника прорвались к нашему штабу?
– Почему вы здесь? Где штаб?
Борисов смахнул рукавом со лба капли пота, взял под руку автомат.
– Штабным офицерам пришлось отбиваться. Но не беспокойтесь: штаб отошел дальше на восток. Правда, есть раненые, однако это не беда, могло быть и похуже.
Он достал из-под гимнастерки и подал мне аккуратно свернутый лист бумаги. Эго было боевое распоряжение из штаба 28-й армии: командующий приказывал нам занять Колосково и прочно прикрыть направление Лавы – Колосково с задачей не допустить переправы танков противника в районе Дронова.
Бумажка выпала из моих рук, и Борисов тотчас ее поднял.
– Мы этого не сможем сделать, товарищ комдив. Противник бросил против нас целую танковую армаду. Танки вклиниваются в наши боевые порядки, отрезают полк от полка и батальон от батальона. Соседи отходят, и если мы попытаемся закрепиться, уничтожения нам не миновать.
Я невольно еще раз задумался над этой исключительно сложной обстановкой. В составе 28-й армии наша дивизия сражалась около пяти месяцев. Во взаимодействии с другими дивизиями мы успешно наступали и уничтожали отборные силы врага. Бои на подступах к Харькову, у Старого Оскола и Ольховатки стоили гитлеровцам многих тысяч солдат. Танковые соединения противника потерпели в этих боях невосполнимый урон. И всегда решения командующего армией генерал-лейтенанта Рябышева были правильны и дальновидны. Но сейчас он, по-видимому, не знал об истинном положении на поле боя, а дела ухудшались с часу на час: силы дивизии таяли, и не только снаряды, даже патроны были у бойцов на счету.
Авиация противника не давала нам покоя, самолеты гонялись за каждой машиной и за отдельными бойцами. Вражеские парашютисты, выброшенные в нашем тылу, учиняли поджоги и сеяли панику. Танковые колонны гитлеровцев отсекали нам пути отхода и навязывали неравные бои. Право, это было чудо, что наши измученные, израненные бойцы и офицеры находили в себе силы снова и снова отражать яростный натиск врага.
Вместе с Борисовым я возвратился в штаб, и мы избрали новый рубеж обороны. Мне удалось связаться по радио со штабом армии и сообщить о положении дел. А ночью, когда мы вели бой на новом рубеже, из штаба армии поступило распоряжение: дивизии отойти за реку Валуй и сосредоточиться в районе Репный, Ромашково, Кондобарово в резерве армии.
Казалось, теперь нас ждал отдых. Столько месяцев дивизия не выходила из боев! Эти месяцы могли бы вместить в себя многие годы, и в наших батальонах неспроста знали по фамилиям и по ратным делам ветеранов Киева и Конотопа. А все же сообщение, что мы идем в резерв, звучало странно. Нет, не то было время, чтобы думать об отдыхе, когда вражеские механизированные полчища двигались на Дон!
Но и выполнить этот приказ было непросто. Разобщенные танковыми клиньями противника, наши подразделения шли отдельными направлениями. Управлять в таких условиях войсками стало невозможно. Поэтому связь штаба с частями нам пришлось возложить на кавалерийский эскадрон, в составе которого еще насчитывалось до ста сабель.
Конники Лукашова все были ребята как на подбор: отличные кавалеристы и смельчаки. Одиночные всадники не раз прорывались к нашим подразделениям через цепь вражеской пехоты, уходили от погони танков и автомашин, кружили, будто издеваясь, перед колоннами противника, нарочно вызывали на себя огонь, чтобы командиры полков знали, где движется враг.
Штаб дивизии отходил самостоятельной колонной. Была она невелика и военной техники в излишке не имела: шесть автомашин да шесть пулеметов. С кавэскадроном, разведротой и комендантским взводом колонна насчитывала 250 человек. Однако теперь в поредевшем составе дивизии и мы представляли определенную силу, пожалуй, не меньшую, чем любой наш полк.
Утром 8 июля, отбиваясь огнем зенитных пулеметов от атак одиночных «мессершмиттов», мы вошли в село Нехаевка, что в восемнадцати километрах восточнее Валуек. Здесь уже находились какие-то наши подразделения. Решив, проверить, кто именно остановился в селе, я вошел в ближайший двор, распахнул дверь дома и невольно застыл на пороге: из-за стола навстречу мне одновременно поднялись командир 269-й стрелковой дивизии генерал-майор Рогачевский и полковник Истомин – он командовал 224-й стрелковой дивизией.
Мы поздоровались и некоторое время молчали. В другое время такая встреча была бы большой общей радостью, но к этому дню мы испытали так много огорчений и невзгод, что было не до приветствий. Молчание становилось тягостным, и я спросил:
– Значит, отходим вместе? Если у нас будет хотя бы малая передышка, к вечеру мы создадим боеспособную часть.
Рогачевский наклонил голову.
– Попробуем. Только у меня нет боеприпасов, а с голыми руками против танков не пойдешь. Как мы еще деремся, и сам удивляюсь, по два, по три патрона на солдата, и все же мы сдерживаем врага.
Истомин встал, встряхнулся, до хруста расправил плечи.
– Ну, кажется, немного отдышался. Я думаю, у нас есть какое-то время, и нужно дать возможность людям искупаться: гимнастерки от соли, как цинковое железо, блестят. Кстати, здесь отличный пруд, чистый и глубокий. Признаться, такое счастье чудилось мне уже несколько дней.
Мы вышли из домика, миновали вишневый сад, и перед нами сквозь осоку заплескался широкий, весь в бликах солнца, простор водохранилища. Солдаты бежали к воде, на бегу сбрасывая гимнастерки; торопливо ковыляли раненые, кто-то бултыхнулся с берега в нижнем белье – впервые за эти дни я слышал крики радости.
– Передайте по колонне, – сказал я связному, – пусть бойцы и офицеры группами, поочередно идут к пруду.
Боец с веселым криком бросился через сад, а я присел на корень вербы и стал раздеваться. Но едва я снял гимнастерку, как с берега послышался заливистый свист, условный сигнал наших конников. Прямо над кручей всадник вздыбил коня, метнулся через широкую канаву, проскользнул под низкими ветвями вербы и спрыгнул передо мной на землю. Это был вездесущий Алексей Григорьевич Лукашов. Тяжело переводя дыхание, он доложил:
– Немецкая мотоколонна входит головой на северную окраину Нехаевки!
Я быстро набросил гимнастерку.
– Сколько машин?
– Около тридцати. Все машины крытые. Есть ли в них солдаты противника, установить не удалось.
– Сейчас же передайте приказ командиру комендантского взвода старшему лейтенанту Бирюкову: выставить автомашины с зенитными пулеметами вдоль улицы и встретить колонну противника огнем. Разведроте прикрыть наш отход из Нехаевки.
Лукашов лихо вскочил на коня и ринулся прямо в густую листву сада. Этот мой короткий разговор с командиром кавэскадрона слышали два-три бойца, и мне не пришлось подавать команду, – в течение минуты все были на берегу, наспех одевались, подхватывали винтовки и бежали в свои подразделения. Возвращаясь из сада, я расслышал где-то неподалеку зычный голос Истомина.
Через минуту я увидел полковника на углу дома – он сам устанавливал станковый пулемет, а солдат, припав на колено, уже разматывал ленту.
Бой грянул тотчас же – я еще не успел миновать дом, как по деревьям, по стенам, по заборам зачиркали пули, зазвенели разбитые стекла, коротко загремели разрывы гранат.
Я выбежал в соседний переулок и увидел немецкую автоколонну: передние машины уже были охвачены огнем и дымом, из-под их брезентовых покрытий беспорядочно вываливались солдаты. Некоторые из них неподвижно лежали на земле, другие ползли, третьи, прячась за машинами, строчили из автоматов.
Скорее инстинктивно, чем намеренно, я выхватил пистолет. Теперь мне было ясно: немцев здесь не менее батальона. Отлично вооруженные, они, по-видимому, перебрасывались на какой-то близкий отсюда участок фронта и были в боевой готовности. Все же такая встреча в Нехаевке для них была неожиданной: пока они пытались занять круговую оборону, их нещадно косили наши пулеметчики.
Нельзя сказать, чтобы в увлечении неожиданным боем я утратил всякую осмотрительность. Но, как видно, в такие минуты всего не заметишь и не учтешь. Передо мной у перекошенного забора зашевелился бурьян, и здоровенный ефрейтор, рыжий и скуластый, стремительно поднявшись с земли, вскинул автомат.
Удивительно запоминаются эти напряженные секунды, неуловимо быстрые и в то же время четкие, холодно-ясные и неповторимые. Теперь все зависело лишь от того, кто первый из нас сделает движение и успеет выстрелить. По выражению скуластого, небритого лица мне было понятно состояние здоровяка-ефрейтора. Он был зол и рад: еще бы, перед ним был советский полковник, а такая добыча сулила многое. Впрочем, я не собирался становиться добычей и первый выстрелил. Пуля сразила его наповал, и я тут же подхватил немецкий автомат. Нужно было отходить, но как же отказать себе в соблазне выпустить очередь по фашистам у машин, тем более, что они находились так близко!
Патроны в моем трофейном автомате вскоре кончились, и я выбросил его. У ефрейтора оказались две гранаты, я взял их на всякий случай.
Кто-то мелькнул за углом сарая, показался и спрятался, и я приготовил гранату. В селе еще яростнее громыхал бой, и уже горели три или четыре дома. А тот, кто прятался за сараем, вдруг назвал меня по имени. Я узнал голос: Лукашов! Опять наш вездесущий наездник разыскал меня, даже в бою.
– Скорее, товарищ комдив, – торопил он, – ваша лошадь за этой усадьбой!
Наша колонна успела выйти из села и остановилась в лесу, на раздорожье. Мы догнали ее через несколько минут. Ко мне подбежал комиссар Зубков и передал донесение разведчиков. Они сообщили, что из соседнего села Большие Липяги движется на запад смешанная колонна – танки и бронетранспортеры, всего два десятка машин.
Сообщение было неожиданным и радостным, – по тону Зубкова я понял, что это наши машины.
– Отлично, комиссар! Мы немедленно свяжемся сними, и они помогут нам добить бандитов, что очутились в Нехаевке.
Однако у меня тут же мелькнуло сомнение:
– А вдруг, комиссар, наши разведчики ошиблись? Вдруг это немецкая танковая колонна?
Он усмехнулся, покачал толовой:
– Разведчики точно установили: танки наши!
– Все равно мы задержимся в лесу. Нужно еще раз уточнить, что это за колонна? Если мы рискнем выйти из леса, возможно, это будет наш последний риск.
Комиссар, казалось, был огорчен. Впрочем, конник, примчавшийся из Нехаевки, принес приятную весть: немцы удирали из села на уцелевших машинах, удирали, даже не подобрав раненых. Значит, крепким орешком оказались для фашистов штабы наших трех дивизий! И снова у меня мелькнула мысль, что, возможно, танковая колонна, замеченная нашими разведчиками, шла на помощь гитлеровцам, атакованным нами в Нехаевке. Ее могли вызвать по рации, и теперь она спешила нанести удар.
Я сообщил Зубкову, Борисову, Барбину и другим офицерам штаба направление нашего отхода в район села Вейделевки, на случай, если танки окажутся немецкими, а их атаке, это было ясно, мы не могли противостоять.
Как много может стоить ошибка разведчиков! Об этом я подумал через минуту, когда начальник оперативного отделения капитан Потапов доложил, что танки действительно оказались фашистскими. В этом теперь не приходилось сомневаться: колонна развертывалась перед лесом и принимала боевой порядок.
Минута – время почти незаметное, а сейчас нам была дорога каждая секунда. Как было условлено, Борисов возглавил разведроту и комендантский взвод: они погрузились на машины и двинулись на виду у противника своим маршрутом на восток.
Пять вражеских танков сразу же повернули за ними и открыли огонь. Но машины Борисова вскоре скрылись за пригорком.
Офицер оперативного отделения Колесник возглавил вторую, пешую группу. Сборы тоже были недолги: через две-три минуты поляна опустела.
Со мной остались только конники – два десятка бойцов и офицеров. Мы отходили последними; танки противника уже громыхали на опушке леса; ломаясь, трещал молодой дубняк; снаряд срезал над нами вершину сосны, и она, качаясь, повисла над нашей тропинкой.
Так и штабная колонна оказалась разделенной на три группы, и мы теперь ничего не знали ни о судьбе отряда Борисова, ни о Колеснике и его бойцах.
Время было за полдень, а в лесу стоял сумрак, и чем дальше в чащу, тем гуще кустарник и неприметней тропа.
Кратчайший путь к излучине Дона теперь помогла нам избрать единственная карта, которая сохранилась у Сергея Зубкова. Он берег ее как память: с нею в минувшем, 1941 году он выходил из окружения в Белоруссии. Старая карта как нельзя больше пригодилась. Дон был уже близко, но мы не знали, что и на этом небольшом отрезке пути нас ожидали новые опасности и невзгоды.
В глубине леса мы сделали передышку у ручья. Вода в нем была густая и красная. Мы пили эту густую, терпкую воду, и она запекалась на губах, как кровь.
Степь Донская… Солдатские думы. Снова танки. Гаврюша-герой. Встреча в степи. Трудная переправа. Рядовой Калугин. Гвардейцы собираются. Город у Волги. Мамаев курган.
Лес оборвался резко, и на опушке мы придержали коней. Впереди лежала пустынная степь, иссеченная балками, заиленными колдобинами, глинистыми оврагами. Вокруг только марево зноя над блеклыми травами, над бронзовыми хлебами – спокойный и мирный придонской пейзаж.
Был пятый час дня, и все мы очень устали: как-то не верилось, что еще сегодня мы подходили к Нехаевке, отбивались от «мессеров», провели бой с вражеской автоколонной, ускользнули из ловушки, которую готовил нам противник, бросив к Нехаевке танки.
Сверившись с картой, Зубков сказал:
– Движемся, братцы, точно по маршруту. Сейчас мы в шести километрах от Западной Вейделевки. Если там нет противника – подкрепимся и вскоре будем на Дону.








