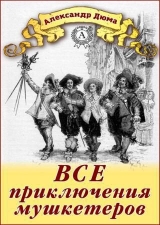
Текст книги "Все приключения мушкетеров"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 224 страниц) [доступный отрывок для чтения: 79 страниц]
Между тем кардинал ожидал хороших вестей из Англии, но никаких вестей не было, кроме неприятных и грозных.
Хотя ла Рошель была обложена, и хотя успех казался несомненным благодаря принятым предосторожностям и в особенности плотине, не пропускавшей в осажденный город ни одной лодки; но блокада могла продолжаться еще долгое время к великому стыду для армии короля и к великому затруднению кардинала. Правда, ему уже не нужно было ссорить Людовика с Анною Австрийской, потому что это уже было сделано, но нужно было помирить Бассомгхиера с герцогом Ангулемским.
Что касается до брата короля, то он, начав осаду, предоставил кардиналу заботу окончить ее.
Жители города, несмотря на невероятное упорство мера, хотели сдаться и составили заговор; мер велел повесить заговорщиков. Эта казнь успокоила буйные головы, решившиеся тогда дать уморить себя голодом. Эта смерть казалась им все-таки не такою быстрою и верною как смерть на виселице.
Осаждающие по временам перехватывали курьеров, отправляемых рошельцами к Бокингему и шпионов, посылаемых к ним Бокингемом. В том и другом случае суд был короток. Кардинал решал его одним словом: повесить! Короля приглашали посмотреть на казнь. Он являлся изнуренный, занимал лучшее место, чтобы видеть операцию во всей подробности: это его немного развлекало и заставляло терпеливо переносить осаду. Но не мешало ему очень скучать и думать беспрестанно о возвращении в Париж, так что если бы не попадались курьеры и шпионы, то кардинал, несмотря на свою изобретательность, был бы в большом затруднении.
Время шло, ла Рошель не сдавалась; последний пойманный шпион был с письмом. Бокингему писали, что город доведен до последней крайности, но вместо того, чтобы прибавить: «Если вы не подадите помощи раньше 15 дней, то мы сдадимся». Письмо оканчивалось так: «если вы подадите нам помощи раньше 15 дней, то мы все умрем с голоду».
Итак, ла Рошель надеялась только на Бокингема. Очевидно было, что если жители города получат верное известие, что им нельзя уже рассчитывать на Бокингема, то храбрость их пропадет вместе с надеждой на него.
Итак, кардинал с великим нетерпением ожидал из Англии уведомления о том, что Бокингем не придет на помощь ла Рошели.
В королевском совете часто рассуждали о том, не взять ли город силой, но совет не соглашался на это: во-первых, потому что ла Рошель казалась неприступною: притом кардинал все-таки понимал, что разрешить приступ, в котором французы должны были бы проливать кровь французов, значило бы отстать от века, а кардинал был тогда, что называют в наше время, человек прогресса. В самом деле, разграбление ла Рошели и убийство 4– тысяч гугенотов, которые ни за что бы не сдались, слишком походило бы в 1628 году на Варфоломеевскую ночь 1572 года, и притом такое крайнее средство, которое впрочем, вовсе не противно было королю, как ревностному католику, всегда опровергалось следующим доводом осаждающих генералов: ла Рошель невозможно взять иначе как голодом.
Кардинал не мог не бояться своей страшной посланницы, потому что он очень понимал эту женщину, то извивавшуюся как змей, то опасную как львица, не изменила ли она ему? не умерла ли она? Во всяком случае, он знал очень хорошо, что действовала ли она за него или против него, но что она не останется в бездействии, разве в случае особенно важных препятствий; что же могло помешать ей? Этого он никак не мог понять.
Впрочем, он имел причины рассчитывать на миледи: он знал в прошедшем этой женщины страшные тайны, которые могли быть прикрыты только его красною мантией, и чувствовал, что по какой бы то ни было причине эта женщина ему предана, потому что только в нем она могла найти защиту против угрожавших ей опасностей.
Итак, он решился продолжать войну и ожидать посторонней помощи только как счастливого случая. Он велел продолжать постройку знаменитой плотины, долженствовавшей произвести голод в ла Рошели; а между тем бросив взгляд на несчастный город, заключавший в себе столько величайших бедствий и столько геройских добродетелей, он припомнил правило своего политического предшественника, Людовика XI: «посевай раздоры, чтоб удобнее управлять».
Генрих IV, осаждая Париж, велел бросать через стены хлеба и других съестных припасов, кардинал велел бросать записочки, в которых представлял рошельцам, как несправедливо, эгоистически и варварски поступали их начальники; писал, что у их начальников было много хлеба, но что они не раздавали его; что они приняли за правило, что неважная вещь, если женщины, дети и старики умрут, только бы люди, обязанные защищать стены, были сыты и здоровы. Правило это, хотя не было вообще принято, но действительно применялось по необходимости; записочки кардинала поколебали его. Они напомнили осажденным, что умирающие дети, женщины и старики были их сыновья, жены и отцы; что было бы справедливее терпеть всем одинаково в общем горе, чтобы при одинаковых условиях все мнения могли быть единогласными.
Эти записки произвели именно то действие, какого мог ожидать сочинитель их: они заставили многих жителей войти в отдельные переговоры с королевскою армией.
Но в то время, когда кардинал видел уже, что употребленное им средство приносит плоды, и радовался, что употребил его, один житель ла Рошели, приехавший из Портсмута и успевший, несмотря на бдительность Бассомпьера и Томберга и герцога Ангулемского, над которыми наблюдал еще кардинал, пройти сквозь линии королевских войск, вошел в город и рассказал, что он видел великолепный флот, готовый к отплытию не позже как через неделю. Кроме того, Бокингем сообщал меру, что скоро объявлен будет великий союз держав против Франции и в нее вторгнутся в одно время английские, императорские и испанские войска. Это письмо читалось публично на всех площадях; копии с него прибиты были на углах улиц, и даже те, которые вступили уже в переговоры с неприятелем, прервали их, решившись ожидать помощи, так торжественно обещанной.
Это неожиданное обстоятельство встревожило Ришелье и заставило его невольно обратить снова взоры на другой берег моря.
Между тем королевская армия, не разделяя беспокойства своего единственного и настоящего начальника, проводила время весело; съестные припасы были в лагере в изобилии; деньги также; все корпуса соперничали в смелости и забавах. Ловили шпионов и вешали их; делали отважные экспедиции на плотину и на море, выдумывали самые безрассудные предприятия и хладнокровно приводили их в исполнение. В таких занятиях армия не замечала, как проходило время, между тем как оно бесконечно тянулось не только для рошельцев, мучимых голодом и сомнением, но и для кардинала, теснившего их блокадой.
Иногда кардинал, ездивший всегда верхом как последний из жандармов армии, задумчиво осматривал осадные работы, производившиеся по его приказанию инженерами, собранными им со всех концов Франции, и ему все казалось, что работы шли очень медленно. Если при этих осмотрах случалось ему встретить кого-нибудь из мушкетеров роты де Тревиля, то он подъезжал к нему, смотрел на него с особенным вниманием, и, узнав, что он не был из числа известных нам четырех товарищей, он обращал на другой предмет свой глубокий взгляд и свою обширную мысль.
Однажды, мучимый смертельною скукой, не надеясь уже на переговоры с городом и не получая никаких вестей из Англии, кардинал выехал без всякой цели, в сопровождении только Кагюзака и ла Гудиниера, и погруженный в глубокую задумчивость ехал тихим шагом по берегу моря. Поднявшись на один холм, он с вершины его заметил за плетнем, лежащих на песке и гревшихся на солнце, как редко показывающемся в это время года, семь человек, окруженных пустыми бутылками. Четверо из них были наши мушкетеры, приготовлявшиеся слушать чтение письма, только что полученного одним из них. Письмо это было так важно, что для него бросили карты и кости, лежавшие на барабане.
Трое остальные заняты были откупоркой огромной сулеи с коллиурским вином; это были слуги тех господ.
Кардинал, как мы сказали, был в мрачном расположении духа, а когда он бывал в таком расположении, то ничто так не усиливало скуки его как веселость других. Притом у него было странное предубеждение: он всегда думал, что других веселило именно то, что было причиной его печали. Сделавши знак Кагюзаку и ла Гудиниеру, чтоб они остановились, он сошел с лошади и подошел к подозрительным весельчакам, надеясь, что скрытый за плетнем и тихо ступая по песку, он мог подойти на такое расстояние, чтобы подслушать что-нибудь из разговора их, казавшегося ему очень интересным: за десять шагов от плетня он расслушал гасконский выговор и не сомневался уже, что остальные трое были так называвшиеся неразлучные, т. е. Атос, Портос и Арамис.
При этом открытии желание его подслушать разговор усилилось; глаза его приняли странное выражение и кошачьим шагом он подкрался к плетню, но до него доходили еще только отрывистые звуки, без всякой связи, как вдруг громкий крик заставил его вздрогнуть и обратил на него внимание мушкетеров.
– Офицер! – закричал Гримо.
– Ты, кажется, что-то сказал, – закричал ему Атос, приподнимаясь на локте и смотря на Гримо своими сверкающими глазами.
Гримо не отвечал ни слова, а протянул только указательный палец по направлению к плетню, показывая на кардинала и его свиту.
Мушкетеры вскочили с мест и поклонились кардиналу с почтением.
Кардинал, казалось, был взбешен.
– Кажется, господа мушкетеры велят караулить себя? – сказал он. – Разве есть опасность, что англичане придут по сухому пути, или мушкетеры считают себя старшими офицерами?
– Ваша эминенция, – отвечал Атос, один среди общего ужаса сохранивший спокойствие и хладнокровие, никогда его не покидавшие, – мушкетеры, когда они не на службе, или когда служба их кончена, пьют и играют в кости, и они офицеры очень важные в отношении к своим лакеям.
– Лакеи! – сказал кардинал; – лакеи, которым приказано предупреждать своих господ, когда кто-нибудь идет, это уже не лакеи, а часовые.
– Вы видите, ваша эминенция, что если бы мы не приняли этой предосторожности, мы могли бы пропустить случай засвидетельствовать вам наше уважение и поблагодарить вас за милость, которую вы нам оказываете, удостоив подойти к нам. Д’Артаньян, – продолжал Атос, – вы сейчас только желали иметь случай выразить вашу признательность г. кардиналу; воспользуйтесь этим теперь.
Слова эти произнесены были с непоколебимым спокойствием, отличавшим Атоса в минуты опасности, и самою изысканною вежливостью, делавшею его величественным в эти минуты.
Д’Артаньян подошел поближе и пробормотал несколько слов благодарности, остановившись на половине фразы при мрачном взгляде на него кардинала.
– Все равно, господа, – продолжал кардинал, не отступая от начатого им разговора: – все равно; я не люблю, чтобы простые солдаты, оттого только, что они имеют честь служить в одном из привилегированных корпусов, разыгрывали роль вельмож, и дисциплина должна быть для всех одинакова.
Атос дал кардиналу окончить фразу и, поклонившись в знак согласия, отвечал:
– Мне кажется, что дисциплина нисколько нами не нарушена. Мы не на службе и полагали, что можем поэтому располагать своим временем, как нам хочется. Если мы так счастливы, что вашей эминенции угодно дать нам какое-нибудь особое приказание, мы готовы вам повиноваться. Вы изволите видеть, – продолжал Атос, нахмурив брови, потому что этот допрос начинал выводить его из терпения, – что мы готовы на всякий случай; вот наше оружие.
И он указал пальцем на 4 ружья, стоявшие вместе возле барабана, на котором лежали карты и кости.
– Поверьте, ваша эминенция, – прибавил д’Артаньян, – что мы вышли бы вам навстречу, если бы могли предполагать, что это вы подъезжаете к нам с такою малою свитой.
Кардинал кусал усы и губы.
– Знаете, на кого вы похожи, когда вы все вместе, как теперь, вооружены, и когда ваши лакеи у вас на страже? – сказал кардинал. – Вы похожи на заговорщиков.
– О, это совершенно справедливо, – сказал Атос, – и мы действительно составляем заговоры, как вы могли сами видеть однажды утром, но только против рошельцев.
– Э, господа политики! – отвечал кардинал, нахмурив брови, – в ваших головах, может быть, скрывается не одна тайна; жаль, что их не так легко читать, как вы читали это письмо, которое спрятали, когда увидели меня.
Атос покраснел и подошел ближе к кардиналу.
– Можно подумать, что вы, в самом деле, подозреваете нас и допрашиваете; если это правда, то удостойте объяснить нам, в чем дело, по крайней мере, мы будем знать, в чем нас обвиняют.
– А если б это и в самом деле был допрос, – отвечал кардинал; – другие не ниже вас, г. Атос, подвергались моим допросам и отвечали на них.
– Но я ведь сказал вашей эминенции, что если вам угодно будет нас допрашивать, мы готовы отвечать.
– Что это за письмо, которое вы читали, г. Арамис, и спрятали?
– Это письмо от женщины.
– О, я понимаю, – сказал кардинал: – в отношении к этим письмам надо быть скромным; но все-таки их можно показать духовнику, а вы знаете, что я имею на это право.
– Ваша эминенция, – сказал Атос со спокойствием, тем более ужасным, что он рисковал своею головой, давая подобный ответ: – письмо это от женщины, но оно не от Марион де Лорень и не от г-жи д’Эгильон.
Кардинал побледнел как смерть; глаза его страшно заблистали; он обернулся, как будто желая отдать приказание Кагюзаку и ла Гудиниеру.
Атос заметил это движение; он сделал шаг к ружьям, на которые трое друзей его пристально смотрели, как люди, не расположенные позволять арестовать себя. С кардиналом были только двое; мушкетеры, считая со слугами, были всемером; он рассчитал, что партия будет неравная, тем больше, что Атос и его товарищи действительно составляли заговор, и вдруг, как он часто это делал, весь гнев его перешел в улыбку.
– Хорошо, хорошо! – сказал он, – вы храбрые молодые люди, верные и днем, и ночью; не худо беречь себя тем, кто так хорошо оберегает других; господа, я не забыл той ночи, когда вы провожали меня в гостиницу Красной Голубятни; если бы была какая-нибудь опасность по той дороге, куда я еду, то я попросил бы вас проводить меня; но как ничего опасного нет, то оставайтесь тут, опоражнивайте ваши бутылки, доигрывайте партию и дочитывайте письмо. Прощайте, господа.
И сев на лошадь, подведенную ему Кагюзаком, он сделал им приветствие рукой и уехал.
Молодые люди стояли неподвижно и провожали его глазами, не говоря ни слова, пока он исчез из виду.
Тогда они взглянули друг на друга.
Все были в большом смущении, потому что, несмотря на дружеское прощание кардинала, они понимали, что он уехал взбешенный.
Один только Атос презрительно улыбался.
Когда кардинал исчез из виду, то Портос, которому хотелось излить на кого-нибудь свой гнев, вскричал: – Этот каналья Гримо поздно закричал!
Гримо хотел отвечать, но Атос поднял вверх палец, и Гримо не сказал ни слова.
– Вы отдали бы письмо, Арамис? – сказал д’Артаньян.
– Если бы он этого потребовал, – отвечал Арамис своим нежным голосом; – то я одною рукой подал бы ему письмо, а другою приколол бы его насквозь шпагой.
– Я этого и ожидал, – сказал Атос; – и потому вмешался в ваш разговор. Удивляюсь, как этот человек неблагоразумен до того, что позволяет себе говорить такие вещи; можно подумать, что он всегда имел дело с женщинами и детьми.
– Любезный Атос, – сказал д’Артаньян, – я вам удивляюсь, но все-таки мы были неправы.
– Как неправы! – сказал Атос. – Кому же принадлежит воздух, которым мы дышим? океан, на который мы смотрим? песок, на котором мы лежали? письмо вашей любовницы? разве кардиналу? Этот человек действительно воображает, что весь свет принадлежит ему; вы уже и струсили, отвечали, заикаясь, как одурелый; как будто Бастилия уже стояла перед вами и гигантская Медуза превратила вас в камень: разве влюбиться значит быть заговорщиком? Вы влюбились в женщину, которую кардинал велел заключить в тюрьму; вы хотите отнять ее из рук кардинала; это все равно, что игра, письмо – это ваши карты, зачем же вам показывать свои карты противнику? так не делается. Пусть он угадывает! мы угадали же его карты!
– Это все справедливо, Атос, – сказал д’Артаньян.
– В таком случае нечего больше и говорить об этом; Арамис, продолжайте читать письмо вашей кузины с того места, где помешал кардинал.
Арамис вынул письмо из кармана; три друга подвинулись к нему, а слуги расположились по-прежнему около суши.
– Вы прочитали только одну или две строчки, – сказал д’Артаньян, – начните уже снова.
– Хорошо, – отвечал Арамис.
«Любезный кузен! кажется, я решусь отправиться в Стене, где сестра моя поместила маленькую служанку нашу в монастырь Кармелиток; бедняжка решилась поступить туда; она знает, что во всяком другом месте спасение души ее будет ненадежно. Впрочем, если дела нашего семейства устроятся так, как мы желаем, я думаю, что она, рискуя погубить свою душу, возвратится к тем, о ком она сожалеет, тем больше, что она знает, что о ней думают постоянно. Между тем она не совсем несчастна: она желала бы только, чтобы жених написал к ней что-нибудь. Я знаю, что письма нелегко проходят через решетки монастыря, но, как я вам доказала, любезный кузен, я не совсем неловка, и я взяла бы на себя это поручение. Сестра моя благодарит вас за память о ней. Она сначала очень беспокоилась; но теперь спокойнее с тех пор, как послала туда доверенное лицо, чтобы там не случилось чего-нибудь неожиданно.
Прощайте, любезный кузен, пишите к нам как можно чаще, то есть каждый раз, когда будете уверены, что письмо будет верно доставлено. Целую вас.
Мария Минсон».
– О, сколько я вам обязан, Арамис, – вскричал д’Артаньян. – Любезная Констанция! наконец я узнал, где она; она жива; она в безопасности в монастыре; она в Стене! Где это Стене, Атос?
– В Лорени, за несколько миль от границ Альзаса; когда осада кончится, мы можем поехать в ту сторону прогуляться.
– И надо надеяться, что это скоро будет, – сказал Портос, – потому что сегодня утром повесили одного шпиона, который объявил, что рошельцы питаются кожей своих башмаков. Если предположить, что съевши кожу, они примутся за подошвы, то я не знаю, что потом им останется, разве есть друг друга.
– Бедные глупцы! – сказал Атос, опоражнивая стакан превосходного бордосского вина, которое хотя тогда не было в такой славе как в наше время, но было не хуже нынешнего; – бедные глупцы! как будто бы католическая вера не есть самая выгодная и самая приятная из всех. А все-таки, – сказал он, – они молодцы. Что вы делаете, Арамис? – продолжал Атос; – вы прячете письмо в карман?
– Да, – сказал д’Артаньян; – Атос прав: его надо сжечь; да и то опасно; кто знает, может быть, кардинал знает секрет возобновить письмо из пепла.
– Наверное, знает, – сказал Атос.
– Что же вы хотите сделать с этим письмом? – спросил Портос.
– Гримо, поди сюда, – сказал Атос.
Гримо подошел.
– Чтобы наказать тебя за то, что ты говорил без моего позволения, друг мой, ты должен съесть этот кусок бумаги; потом чтобы наградить тебя за услугу, которую ты нам этим окажешь, ты получишь за это стакан вина; вот возьми прежде письмо, жуй его хорошенько.
Гримо улыбнулся, и, смотря на стакан, наполненный Атосом до краев, он разжевал бумагу и проглотил.
– Браво, Гримо! – сказал Атос, – теперь возьми вот это; да можешь не благодарить.
Гримо молча выпил стакан бордосского вина, но глаза его, поднятые к небу во время этого приятного занятия, говорили за него очень выразительно.
– Теперь, – сказал Атос, – мы почти можем быть спокойны; разве кардиналу придет гениальная мысль разрезать брюхо Гримо.
Между тем кардинал продолжал свою прогулку, ворча про себя:
– Решительно, эти четыре человека должны быть мои!
IV. Первый день пленаВозвратимся к миледи, которую мы на время потеряли из виду, занявшись берегами Франции.
Мы найдем ее в том же отчаянном положении, погруженную в самые мрачные размышления, в том мрачном аду, за дверями которого она почти потеряла всякую надежду; в первый еще раз ею овладели сомнение и страх.
Два раза счастье изменяло ей; два раза она видела, что ее разгадали и изменили ей, и в обоих случаях причиной неудачи ее был роковой гений, посланный самим небом, чтобы побороть ее: д’Артаньян победил ее, эту непобедимую силу зла.
Он употребил во зло любовь ее, унизил ее гордость, помешал ее честолюбивым замыслам, и наконец, лишил свободы и угрожает даже жизни. А главное, он поднял один угол маски ее, – этого щита, которым она закрывалась, и который составлял всю силу ее.
Она ненавидела Бокингема, так как ненавидела всех, кого любила, и д’Артаньян отвратил от Бокингема бурю, которою угрожал ему Ришелье в лице королевы. Д’Артаньян выдал себя за де Варда, к которому она имела страсть тигрицы, неукротимую как вообще страсть женщин подобного характера. Д’Артаньян знал ее страшную тайну, а она поклялась, что никто не узнает ее, не заплатив за это жизнью. Наконец, когда она получила средство, которым могла бы отомстить врагу своему, это средство отнято у нее из рук и теперь д’Артаньян держит ее в плену и пошлет ее в какой-нибудь грязный Ботани-Бей, в какой-нибудь отвратительный Тибюрн Индийского океана.
Она не сомневалась, что причиной всего этого – д’Артаньян; кто другой мог покрыть ее таким стыдом, если не он? Только он мог сообщить лорду Винтеру все эти страшные тайны, открытые им одна за другой роковым случаем. Он знает ее зятя и верно написал к нему.
Сколько ненависти в душе ее! она сидит неподвижно, устремив сверкающие глаза в глубину пустынной комнаты своей и глухие вопли, вырывающиеся по временам с дыханием из глубины груди ее, вторят шуму волн, ударяющих с воем, как вечное я бессильное отчаяние, в скалы, на которых построен этот мрачный и грозный замок! Сколько прекрасных проектов мщения, теряющихся в дали будущего, составляет она в уме своем, озаряемом проблесками бурного гнева ее, против мадам Бонасьё, против Бокингема и в особенности против д’Артаньяна.
Да, но для того, чтобы мстить, необходимо быть на свободе, а чтобы освободиться из тюрьмы, нужно разломать стену, или перепилить решетки, или прорубить пол; подобные вещи возможны для человека терпеливого и сильного, а не для желчной и раздражительной женщины. Притом, для этого нужно время; целые месяцы, годы, а ей оставалось только 10 или 12 дней, как говорил лорд Винтер, брат и тюремщик ее.
Если бы она была мужчиной, она испытала бы эти средства освобождения и может быть, ей удалось бы; но, к несчастью, природа ошиблась, одарив ее такою мужественною душой и дав такое слабое и нежное тело.
Поэтому первые минуты заключения были ужасны: она не могла превозмочь нескольких судорожных движений ярости. Мало-помалу она удержала порывы бессильного гнева своего, нервическая дрожь прекратилась, и она начала собираться с силами как отдыхающий змей.
– Да, глупо выходить из себя, – думала она, устремив огненный взгляд на зеркало. – Гнев есть доказательство слабости. Это средство никогда мне не удавалось, если бы я действовала против женщин, то, может быть, нашла бы, что они слабее меня и могла бы остаться победительницей, но я должна бороться с мужчинами, а перед ними я не больше как слабая женщина. Итак, надо действовать, как следует женщине; сила моя заключается в слабости.
Тогда, как будто желая испытать, какие изменения могла она придавать выразительному и подвижному лицу своему, она заставляла его принимать все выражения от гнева, безобразившего черты лица ее, до самой нежной, кроткой, соблазнительной улыбки. Потом она поправила волосы, сделав прическу, которая всего больше была ей к лицу. Наконец, довольная сама собой, она сказала:
– Ничто еще не потеряно. Я все-таки прекрасна.
Было около 8 часов вечера. Миледи заметила кровать и думала, что отдых освежит не только мысли ее, но и цвет лица. Но она не успела еще лечь, как ей пришла другая лучшая мысль. Она вспомнила, что ей говорили об ужине. Прошло уже около часу с тех пор, как ее привели в эту комнату, надо было ожидать, что ужин скоро принесут. Пленница не хотела терять времени и решилась в тот же вечер сделать попытку узнать характер людей, которым поручено было стеречь ее.
За дверью показался свет; этот свет возвещал о приближении ее тюремщиков. Миледи живо бросилась опять в кресло, откинув назад голову, с распущенными волосами, с полуоткрытою грудью, положив одну руку на сердце, другую опустив вниз.
Засовы отодвинулись, дверь со скрипом отворилась, и послышались шаги.
Поставьте там этот стол, – сказал Фельтон, которого пленница узнала по голосу.
Приказание было исполнено.
– Принесите свеч и смените часовых, – продолжал Фельтон. Это приказание, отданное поручиком одним и тем же лицам, доказало миледи, что прислуга ее состояла из тех же людей, которые стерегли ее, т. е. из солдат.
Приказания Фельтона были исполнены со скоростью, доказывавшею хорошее состояние дисциплины его подчиненных.
Наконец Фельтон, не взглянувший еще на миледи, обратился к ней.
– А, она спит, – сказал он, – это ничего; она поужинает, когда проснется.
И он хотел уйти.
– Нет, поручик, – сказал один из солдат, подойдя к миледи, – она не спит.
– Как не спит! – сказал Фельтон, – что же она делает?
– Она в обмороке; лицо ее очень бледно и совсем не слышно дыхания.
– Правда, – сказал Фельтон, посмотрев на миледи, но не приблизившись к ней ни на шаг; – поди, скажи лорду Винтеру, что пленница его в обмороке потому я не знаю, что делать; это непредвиденный случай.
Солдат пошел исполнить приказание своего офицера; Фельтон сел в кресло, стоявшее близ двери, и ждал, не говоря ни слова. Миледи вполне обладала женским искусством видеть сквозь ресницы, не открывая глаз; она заметила, что Фельтон сидит к ней спиной; она смотрела на него в продолжение 10 минут, и во все это время бесстрастный сторож ее не оглянулся ни разу.
Она подумала тогда, что если лорд Винтер придет, то присутствие его придаст новую силу тюремщику ее; итак первая попытка ее была неудачна; она перенесла это, как женщина, у которой есть еще много средств. Она подняла голову, открыла глаза и тихо вздохнула.
При этом вздохе Фельтон, наконец, оглянулся.
– А, вы проснулись, – сказал он, – в таком случае мне больше нечего здесь делать. Если вам что-нибудь нужно будет, вы позвоните.
– О, Боже мой, как я страдаю! – бормотала миледи гармоничным голосом своим, которым, как древняя волшебница, она очаровывала всех, кого хотела погубить.
И выпрямившись на кресле, она приняла положение более грациозное и небрежно, чем прежде.
Фельтон встал.
– Вам будут подавать кушать три раза в день, – сказал он; в 9 часов утра, в час и в 8 часов вечера. Если это вам не нравится, вы можете сами назначить время, и в этом отношении желание ваше будет исполнено.
– Но неужели я всегда буду одна в этой большой и мрачной комнате? – спросила миледи.
– Для вас нанята одна женщина; она завтра придет и будет являться к вам всегда, когда вам угодно.
– Благодарю вас, – отвечала с покорностью пленница.
Фельтон слегка поклонился и хотел выйти.
Когда он был уже в дверях, в коридоре показался лорд Винтер, в сопровождении солдата, известившего его об обмороке миледи. Он нес в руке флакон со спиртом.
– Что такое? что здесь случилось? – сказал он насмешливым тоном, видя, что пленница его уже на ногах и Фельтон уходит. Мертвая уже воскресла! Фельтон, дитя мое, разве ты не понял, что тебя приняли за новичка и разыграли перед тобой первое действие комедии, которую, без сомнения, мы будем иметь удовольствие видеть всю до конца.
– Я так и полагал, милорд, – сказал Фельтон; – но как пленница наша все-таки женщина, то я счел нужным оказать ей внимание, которое всякий благовоспитанный человек должен иметь к женщине, если не для нее, то, по крайней мере, самого себя.
Миледи вздрогнула всем телом. Слова Фельтона прошли холодом по всем жилам ее.
– Так эти прекрасные волосы, так искусно распущенные, – продолжал лорд Винтер смеясь, эта белизна тела и этот темный взгляд не соблазнили еще твое каменное сердце.
– Нет, милорд, – отвечал бесстрастный молодой человек, – и поверьте, что уловки и кокетство женщин никогда не искусят меня.
– В таком случае, храбрый поручик мой, оставим миледи придумывать другие средства и пойдем ужинать: о, у нее изобретательный ум; будь уверен, что второй акт комедии последует скоро за первым.
С этими словами лорд Винтер взял Фельтона под руку и увел его, смеясь.
– О, я найду, что для тебя нужно, – ворчала миледи сквозь зубы; – будь спокоен, несчастный монах в солдатском мундире.
– Кстати, – сказал Винтер, остановясь на пороге; – я надеюсь, миледи, что эта неудача не отнимет у вас аппетита. Попробуйте этого цыпленка и этой рыбы; клянусь вам честью, что они не отравлены. Я очень доволен своим поваром, и так как он не наследник мой, то я имею к нему полную доверенность. Подражайте в этом мне. Прощайте, любезная сестрица! до будущего обморока вашего.
Миледи не могла перенести этого: руки ее судорожно сжались, зубы заскрежетали, она следила глазами за движением двери, затворявшейся за лордом Винтером и Фельтоном, и когда осталась одна, то снова впала в отчаяние; она взглянула на стол, увидела нож, бросилась к нему и схватила его; но она жестоко ошиблась; нож был из гибкого серебра с закругленным концом.
За дверью, неплотно затворенной, раздался хохот, и она опять отворилась.
– Ха, ха, ха, видишь ли, любезный Фельтон, – вскричал лорд Винтер, – что я тебе говорил? Этот нож был для тебя, дитя мое; она убила бы тебя, это одна из странностей ее отделываться так или иначе от людей, которые ей мешают. Если бы я послушался тебя и велел подать ей стальной и острый нож, Фельтон не существовал бы; она бы зарезала тебя и потом всех нас. Видишь, Джон, как хорошо она умеет держать нож.
В самом деле, миледи судорожно сжимала оружие, но при последних словах Винтера рука ее ослабела, силы оставили ее.
Нож упал на пол.
– Вы правы, милорд, – сказал Фельтон, тоном глубокого отвращения, отозвавшимся в сердце миледи, – вы правы, я ошибся.
И оба снова ушли.
Но на этот раз миледи была внимательнее, чем в первый раз; она прислушивалась, как шаги их удалялись и затихли в коридоре.
– Я погибла, – бормотала она, – я нахожусь во власти людей, на которых могу иметь столько же влияния, как на бронзовые или гранитные статуи; они знают меня хорошо и защищены против всякого оружия моего. Но нельзя же, чтобы это кончилось так, как они хотят.
Действительно, как показывало это последнее размышление и инстинктивное возвращение к надежде, страх и слабость ненадолго овладевали этою сильною душой. Миледи села к столу, поела нескольких кушаньев, выпила немного испанского вина и почувствовала, что решимость снова возвратилась к ней.








