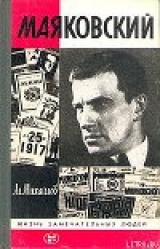
Текст книги "Маяковский"
Автор книги: Александр Михайлов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
Он тут же позвонил по телефону Новицкому, тогда директору ВХУТЕИНа, рассказал ему о Горяеве, и, узнав, что экзамены уже закончились, попросил для Горяева сделать исключение. В этот день и решилась судьба талантливейшего художника Виталия Горяева. Он и оформлял выставку Маяковского.
Энтузиазм нескольких добровольных помощников и огромное желание и энергия самого Маяковского довести замысел до исполнения сделали свое дело. 1 февраля 1930 года выставка была открыта.
Маяковский не любил юбилеев (»...юбилей – это край кладбищенских ям; это речи и фимиам...»). Так для чего ему нужны были этот юбилей и выставка, почему он придавал им такое большое значение? Ответил на это в стихах: «...юбилей – это ремонт в пути, постоял – и дальше гуди»; «Юбилей! А для нас – подсчет работ, перемеренный литрами пот».
Верно: «подсчет работ». То, что нашло поэтическое выражение во вступлении к поэме «Во весь голос».
К подведению творческих итогов Маяковского, видимо, подталкивало тревожившее его душевное неустройство, гнетущее одиночество. И может быть, недоверие свыше: ему было, видимо, отказано в визе на поездку во Францию.
Одна иностранка (Лила Герреро), впервые увидевшая Маяковского, на его вопрос: «Почему вы на меня так смотрите?» – ответила: «Знаете... я думала, что вы бог, а у вас глаза неудачника». Потом она объясняла: «Его взгляд, как мне показалось, загорался, когда он чувствовал тепло восхищения или любви, но потухал, когда его не поддерживал этот огонь, в котором он так нуждался...»
Он избегал одиночества, все время стремился быть на людях, много выступал, вопреки запретам врачей, доведя себя к началу апреля 1930 года до крайне болезненного состояния. Однако успокоения не находил. И кажется, не очень подняло дух Владимира Владимировича домашнее юбилейное чествование, которое ему устроили товарищи 30 декабря 1929 года, хотя устроено оно было с выдумкой.
Было это, по рассказам Кассиля и Лавута, так. На квартиру в Гендриков переулок принесли афиши, плакаты, книги, альбомы. Из столовой вынесли стол, гостей было много, так что сидеть пришлось на диванчиках, на подушках, разбросанных по полу. Лавут и артист МХАТа Яншин разложили и развесили экспонаты. Афиши прикнопывали даже к потолку. Наискосок красовалась длинная лента: «М-А-Я-К-О-В-С-К-И-Й».
Маленькая столовая с крашеными полами, с двумя низенькими удобными банкетками в полосатых чехлах, расположенными по бокам высокой молочно-белой кафельной печи, прислонясь спиной к которой любил читать Маяковский свои новые вещи друзьям, – превратилась в выставочный зал.
Из театра привезли корзины с костюмами. Мейерхольд помогал гостям в подборе костюмов и масок, бород, шляп. Устроили настоящий маскарад.
По уговору, Владимир Владимирович появился на своем юбилее, когда все гости уже были в сборе и все было готово к его встрече. Посреди комнаты устроился с гармонью Каменский. Появляется юбиляр – нарядный, усмехающийся. Хор исполняет шуточную кантату с повторяющимся припевом:
Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Ура, ура, ура!..
Юбиляр садится верхом на стул, надевает на себя маску козла и козлиным блеянием отвечает на все «приветствия». Маску объясняет так: «Надо иметь нормальное лицо, чтобы соответствовать юбилейному блеянию».
Асеев исполнил роль критика-зануды, допекающего Маяковского своими неумными выступлениями, он приветствовал его «от лица широких философских масс: Спинозы, Шопенгауэра и Анатолия Васильевича Луначарского». Произносил длинную путаную речь, а затем спохватывался, что попал не на тот юбилей, что пришел чествовать совсем другого поэта... «От подрастающего поколения» выступила дочь одного из художников, она преподнесла поэту перевязанный розовой ленточкой свиток стихов: «И все теперь твои мы дети, в том смысле, что ученики...»
В ответ Маяковский нежно блеет из-под маски, Каменский на гармони играет туш.
Кассиль загадывает шарады для юбиляра – выстраивает наглядные «цитаты» из стихов Маяковского, которые он должен разгадать. Асеева с женой сажает на диван: что это за цитата? Маяковский отгадывает: «Маленькая, но семья» (Из «Юбилейного»).
Потом один из гостей садится за стол, а другой с сердитым видом вынимает из кармана вечное перо, с размаху кладет на стол и уходит. «Понял, понял! – кричит Маяковский. – «Разговор с фининспектором»: «Вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами!»
Юбилейному торжеству был задан мажорный тон. Гости танцевали под гармонь, пели, пили шампанское, фотографировались. Владимир Владимирович, громоздкий и как-то особенно неловкий в маленькой столовой, танцевал фокстрот с Норой Полонской. А она была в красном платье, выделявшем ее среди гостей...
Был ли весел Маяковский?
Уже под утро его с трудом упросили почитать стихи. Владимир Владимирович долго отнекивался, жаловался на горло, говорил, что все давно им сделанное сейчас уже неинтересно. Все-таки упросили.
Этот юбилейный сюжет, по воспоминаниям Льва Кассиля, приоткрывает нечто такое, что дает возможность понять состояние Маяковского.
«...Сперва он читает «Хорошее отношение к лошадям». Он встает и, взявшись рукой за угол шкафа, обведя нас медленным, навсегда запоминающимся взглядом, читает негромко и с внезапной угрюмостью:
Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.
Он читает, постепенно добрея, строка за строкой отпуская голос. И вот уже читает щедро и полновластно. И разом все посерьезнели вокруг. Уже не шутка, не веселые именины поэта, не вечеринка приятелей – всех нас вдруг прохватывает, как сквозняк пройдя по всем извилинам мозга, догадка, что минуту эту надо запомнить.
И вдруг с какой-то очень простой и несомненной ясностью, так, что захолонуло сердце, никем не произнесенное, но каждым подслушанное, возникает слово: История. И стены не то стали прозрачными, не то совсем ушли, далеко стало видно окрест. И время загудело в ушах.
А он читает, глядя куда-то сквозь стены.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте -
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
И ворочает саженными плечами, словно впряженный в какие-то огромные оглобли, словно круто ступая в гору...
И все ей казалось -
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
Заглушая хлопки, сразу, едва закончив, он говорит:
– Старо все это! Старо! Надоело. У меня вот новые стихи выкарабкиваются. Вот это будет действительно стих! Увидите. Лучше всего, что я написал.
И хотя он читает по просьбе гостей еще стихотворение «История про бублики и про бабу, не признающую республики», но смотрит он уже поверх нас, поверх стихов. Он уже прислушивается к тем новым словам, новым строчкам, которые повелительно гудят в нем.
И мягко отодвигаясь, как бы боясь повредить кому-нибудь, он уходит в другую комнату и долго стоит там, облокотившись на бюро, стиснув в руке стакан с недопитым чаем. Что-то беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое проступает в нем».
Лавуту показалось, что «Хорошее отношение к лошадям» Владимир Владимирович прочитал «более мрачно, чем обычно», что «Историю про бублики...» читал несколько рассеянно, что на этот раз в его исполнении почти отсутствовали гротесковые интонации...
Совсем не случайным, конечно, было нежелание читать. Совсем не случайно было выбрано пронзительно-грустное стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». А потом, видно, не желая все-таки завершать юбилейные «торжества» на такой щемяще грустной ноте, читалось гротесковое стихотворение, но читалось как-то без обычного сатирического блеска и темперамента...
«Очень поздно, почти к утру уже, – продолжает Кассиль, – приезжает один неожиданный гость. Он когда-то был близок с Маяковским, шел с ним рядом в жизни, работал вместе. Но потом перестал понимать Маяковского, стал отставать, сбиваясь в сторону, вняв голосам, которые казались ему благоразумными. Этого человека уговорили, что не по пути ему с Маяковским, что загубит он себя, что не по плечу ему, не по дыханию крутизна, избранная для себя Маяковским. И враги потихоньку потирали руки, когда им удалось отбить его у Маяковского.
Сегодня он пришел, чтобы обнять Маяковского и, забыв раздор, поздравить. Долгие годы дружбы связывают их.
– Я соскучился по вас, Володя! Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги.
Но Маяковский, медленно отвернувшись, говорит, не глядя на гостя:
– Ничего не понял. Пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, что это как пуговица: сегодня оторвал – завтра пришить можно обратно... От меня людей отрывают с мясом!.. Пусть он уйдет.
И тот, забыв шапку в передней, выбегает на мороз. Кто-то из гостей догоняет его, сует шапку. Он идет по Гендрикову с непокрытой головой, держа шапку в руках».
Неожиданным ночным гостем был Борис Пастернак...
Отвлечемся несколько от юбилейного сюжета – Пастернак слишком значительная фигура, чтобы ничего больше не сказать по этому поводу. В его отношении к Маяковскому трудно уловить ясность и последовательность. Ясно, пожалуй, только одно, и это проявилось сразу, с первой встречи, о которой здесь было рассказано и о которой так замечательно и подробно Пастернак написал в «Охранной грамоте», что его необычно притягивала к себе личность Маяковского, что он попал в мощное поле притяжения молодого поэта и со всею силой большого таланта и недюжинного характера противился его влиянию на себя.
Мелкие перипетии длительное время, однако, не нарушали общего товарищеского, почти дружеского фона их взаимоотношений. Так было до середины 1927 года, когда имя Пастернака перестало появляться в списке сотрудников «Нового Лефа». Именно в это время Вяч. Полонский обрушил серию резких статей на Леф и на Маяковского, и Пастернак солидаризировался с ним, весьма замысловато и путано объяснив свой разрыв с Маяковским и Лефом.
В июне 1927 года он сообщил Полонскому о своем решении выйти из Лефа и оформить свой выход в виде письма Маяковскому. «Вы знаете, – пишет он Полонскому, – как я его люблю и продолжаю ценить – метаморфическим авансом». В письме же к Маяковскому, не опубликованном тогда, говорится:
«Честь и слава Вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана (в статьях Полонского. – А. М.) именно на Вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю».
Как далеко в это время разошлись Пастернак и Маяковский, говорит не столько отношение к Лефу, сколько то, что именно «метод доказательства» Полонского, его анализ стихов поэта, сделанный грубо иупрощенно, поддерживался Пастернаком.
Но и после этого со стороны Маяковского был сделан жест, более чем красноречиво свидетельствующий о желании сохранить добрые отношения. На первом издании «Хорошо!», подаренном Пастернаку, он написал: «Борису Вол с дружбой, нежностью, любовью, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением и пр., и пр., и пр.». Книга эта при жизни Пастернака была обнаружена у букиниста...
И все же, даже поверив в преднамеренность этого жеста, многое остается загадкой. В последующие годы отношение Пастернака к Маяковскому колебалось некоторыми сомнениями, но в «Охранной грамоте» он написал о поэте сразу после его смерти. Из того, что сказано о Маяковском лефовского периода, попутно возникает групповой портрет его ближайшего окружения.
Пастернак пишет: Маяковский «почти как долгу был верен всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличия посредственной клики... он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций, и ложных, неоправданных притязаний».
Кажется, никогда и никому Пастернак не давал столь уничтожающих характеристик.
И как упрек Маяковскому: он «до конца что-то находил» в людях из этого окружения, но это «были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности».
Легко оспаривается утверждение насчет «добровольно усугубленного» одиночества – оспаривается никогда не иссякавшим стремлением Маяковского к сближению с людьми, в том числе и из литературной среды. Для этого он и в РАПП шел. Пастернак верно подметил, что Маяковский одинок в этом окружении и осознает свое одиночество.
Хотя бы некоторого уточнения требует состав окружения. Из него естественно исключается Асеев, с ним Пастернака связывала многолетняя личная дружба. Исключается, по-видимому, Каменский и Крученых, поэтический талант которых он ценил. С похвалою говорил о Константине Большакове, давнем друге Маяковского. Характеристика сводится к ближайшему окружению. Так откуда же у Пастернака такая вызывающая неприязнь к людям, с которыми еще три-четыре года назад он встречался за одним столом, вел общие беседы, отстаивал общие лефовские интересы?
Разочарование в Лефе, понятное и естественное у Пастернака, не коснулось, например, его отношений с Асеевым. Стало быть, не только из-за Лефа Пастернак дает выход резкой неприязни к ближайшему окружению Маяковского. Проницательный ум, он, конечно, и прежде на счет его не строит иллюзий.
В то же время ночной визит на юбилейное празднование без всяких сомнений говорит о том, что и Пастернак по-своему тяжело переживал разрыв, что его по-прежнему тянуло к Маяковскому.
Остается предположить, что причина – или одна из главных причин – разрыва личных взаимоотношений Маяковского и Пастернака кроется в ближайшем окружении поэта. Вот откуда, помимо, конечно, «фиктивных» творческих репутаций, происходит такая непривычная для Пастернака и не допускающая даже малейшего снисхождения жестокость морального осуждения этих людей...
А теперь вернемся на юбилейное празднование. Оно не освободило душу поэта от груза одиночества, душевное неустройство с нарастающей тяжестью давило на него, выбивало из привычного состояния. Но «глупая вобла воображения» все равно не давала покоя, в блокнот ложились строки отменной чеканки, через головы современников он обращался к потомкам:
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Строки эти должны были предшествовать энергичным ритмам (другими они не могли быть у Маяковского) поэмы о пятилетке. Поэт подводил итоги. А рядом складывались строки совсем иного душевного строя: «Любит? не любит? Я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши».
И эти строки тоже были написаны для вступления к поэме о пятилетке – второго, «лирического» вступления. И в них тоже – «итоги», печальные итоги не принесшей ему счастья любви.
Душевная рана от нее легла на сердце. Она не заживала. Пришло более ясное понимание никчемности попыток вернуть любовь. Пришло нравственное успокоение.
Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт...
Подведение итогов личной жизни он начал раньше по времени. Необходимо было произвести расчет с прошлым, чтобы начать жизнь по-новому. Ведь если отвлечься от «взаимных болей, бед и обид», то мир предстанет прекрасным.
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданью
Не столько ей, сколько себе внушает поэт мысль о красоте и величии мира. Ему необходимо, чтобы преодолеть личную драму, прорвать блокадное кольцо бытового и литературного окружения. Он уже не в том возрасте, когда можно поехать на Пресню, припасть к коленям матери, Александры Алексеевны, поведать ей печаль свою... И поедет, и отогреется, отойдет душой под добрым материнским взглядом, но не об этом же с нею, не взваливать же на плечи этой никогда ни на что не роптавшей и не упавшей духом под гнетом судьбы, но такой хрупкой женщины еще и свои горести...
Нет, выход надо искать в работе, в решительном и бесповоротном переустройстве быта. Есть милая, прекрасная, обаятельнейшая женщина Нора Полонская, она его любит. Но ее удерживают семейные узы, театр, который она не может бросить. Опять сложности, ему всегда что-то мешает, и это что-то предстоит преодолеть, разрушить – немедленно.
Для этого надо укрепиться духом.
Выставка!
Могла ли она поддержать дух поэта, взбодрить его, помочь преодолеть чувство одиночества? Конечно! Ведь идея состояла в том, чтобы обозначить рубеж для творческого перевооружения. Началась первая пятилетка, время великого энтузиазма, трудового самопожертвования, Маяковский необычайно чутко улавливал ритм и пафос времени, ему, нетерпеливому, хотелось еще более ускорить шаги пятилетки, доказать кому-то, что он значит как поэт. Он подгонял самое время, он говорил:
– Я всегда ненавидел медленно текущее время, оно отдаляло от нас будущее человечества.
Что же получилось с выставкой?
Для нее были собраны книги (все издания), газеты, журналы, в которых сотрудничал Маяковский, периферийная пресса. Экспонировались плакаты «Окон РОСТА», книги и журналы, в которых писалось о Маяковском, Владимир Владимирович не хотел ничего приукрашивать на своем пути, поэтому на стенде красовалась и пасквильная книжонка Шенгели «Маяковский во весь рост». Экспонировались также макеты оформления постановок «Мистерии-буфф», «Клопа», некоторые рукописи. На этот раз Маяковский, никогда не афишировавший своего участия в революционной работе, получил из Госархива и выставил материалы московского охранного отделения, департамента полиции, Бутырской тюрьмы, касающиеся его арестов. Карта Советского Союза показывала маршруты поездок по городам страны. В пяти альбомах были собраны вырезки из газет и журналов о творчестве Маяковского, его произведениях, вечерах, постановках его пьес.
Экспозиция вышла весьма впечатляющая. Владимир Владимирович видел это, ведь он сам руководил оформлением. И все же перед открытием, окидывая взглядом экспозицию, спрашивал то у одного, то у другого из помощников или случайно зашедших в клуб федерации: «Как вы находите?» Получал желаемый ответ, не дослушивал, отвлекался к каким-то недостаткам.
Он очень хотел, чтобы выставка была блестящей, чтобы открытие прошло торжественно, празднично, красиво и в то же время по-деловому. Получилось не совсем так.
На открытии в основном была рабочая и вузовская молодежь, учащиеся. Но не было... писателей. Ни новых его коллег по литературному объединению рапповцев, ни рефовцев, с которыми поэт организационно порвал, ни других, близких и далеких, с кем спорил, кого поддерживал. Он – приглашал, рассылал билеты.
Сохранился список для рассылки билетов на открытие выставки – он внушителен и по количеству и по составу. В этом списке Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, работники Совнаркома и ВЦСПС, Наркомпроса, ЦК ВЛКСМ, представители Главискусства, Главреперткома, ОГПУ, газет и журналов (многие – поименно). Были приглашены рефовцы, члены Исполбюро Федерации писателей; а также поименно писатели Олеша, Сельвинский, Фадеев, Леонов, Мстиславский, Гладков, Безыменский, Ляшко, Светлов, Вс. Иванов, Эрдман... Почти никто из приглашенных не пришел.
Это было похоже на бойкот.
Ну что ж, раз так, то получайте:
– Товарищи! – голос Маяковского, открывающего выставку, звучит твердо. – Я очень рад, что здесь нет всех этих первачей и проплеванных эстетов, которым все равно, куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей.
В этих словах оскорбленное достоинство и вызов. Маяковский в долгу не оставался. Компенсацией за бойкот со стороны литераторов был горячий прием, оказанный ему собравшейся на открытие выставки молодежью.
Однако чувство обиды наложило отпечаток даже на чтение стихов, хотя читал он не что-нибудь – «Во весь голос»! Чуткое сердце прекрасной актрисы Нато Вачнадзе уловило в чтении поэта горькие ноты. «Этот вечер был чем-то похож на тризну, что-то погребальное мне почудилось в нем, и сразу стало трудно слушать...» Почувствовала это и Наталья Брюханенко: «Обращение к потомкам тягостно поразило многих присутствовавших. Мне хотелось плакать».
В таком же примерно духе высказался Луначарский, посетивший выставку позднее, оценивший гигантский объем работы поэта и оставшийся чем-то неудовлетворенным. Чем именно?
– Пожалуй, мне становится ясным, почему у меня остался неприятный осадок от сегодняшней выставки, – говорил он своей жене Наталии Александровне. – Виной этому, как ни странно, сам Маяковский. Он был как-то совсем не похож на самого себя, больной, с запавшими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший. Он был очень внимателен ко мне, показывал, давал объяснения, но все через силу. Трудно себе представить Маяковского таким безразличным и усталым. Мне приходилось наблюдать много раз, когда он бывал не в духе, раздражен чем-нибудь, когда он бушевал, негодовал, разил направо и налево, с размаху задевал иногда и «своих». Я предпочитаю его таким по сравнению с его нынешним настроением. На меня это подействовало угнетающе.
На реплику о том, что любому человеку случается быть не в духе, усталым или больным, Анатолий Васильевич ответил:
– Ну, любому, но не Маяковскому. – А после короткой паузы сказал: – Мне сегодня показалось, что он очень одинок.
Выставка тем не менее привлекла внимание людей самых разных профессий. В обычной массе посетителей, как правило, с пониманием и сочувствием оценивавшей итоги огромной творческой работы Маяковского, нередко возникали фигуры довольно злобных отравителей атмосферы. Это хорошо видно по книге отзывов. Злобствующий мещанин издевался, предлагая «переименовать не менее десяти городов в Маяковскограды. В пику известному мелкобуржуазному поэту А. С. Пушкину поставить памятник Маяковскому».
Зато другие люди, читатели и почитатели приветствовали и ободряли поэта. «Ваша поэзия охватила все стороны нашей многогранной жизни и, вопреки крикунам и приверженцам «чистого искусства», Вы сумели показать на деле правильность Вашей литературной позиции», – пишет в книге отзывов рабочий. «20 лет вашей работы есть 20 лет одной из необыкновеннейших работ для революции», – вторит ему учащийся ФЗУ.
Тут же, на страницах книги отзывов, сторонники Маяковского давали бой отравителям атмосферы, хулителям поэта.
Выставка, запланированная на две недели, была продлена до 20 февраля. Затем она экспонировалась в Ленинграде, и там, вспоминает О. Берггольц, ее «почему-то почти бойкотировали «большие» писатели», а они, «несколько человек сменовцев (членов литообъединения «Смена». – А.Ж.), буквально сутками дежурили у стендов, физически страдая от того, с каким грустным и строгим лицом ходил по пустующим залам большой, высокий человек, заложив руки за спину, ходил взад и вперед, словно ожидал кого-то очень дорогого, все более убеждаясь, что этот дорогой человек не придет».
В Ленинграде организация выставки, начиная от путаной рекламы и кончая фактическим бойкотом со стороны ЛАПП, была из рук вон плохой. Открывал выставку смущенный таким поручением юный поэт Виссарион Саянов, влюбленный в Маяковского.
– Что ж, приветствуйте меня от имени Брокгауза и Ефрона, – подбодрил, его Маяковский.
Он подтолкнул оробевшего Саянова, вышел с ним вместе на сцену и спокойно сказал, обращаясь в зал:
– Вечер объявляю открытым. Сейчас меня будет приветствовать Виссарион Саянов.
Саянов говорил искренне, взволнованно, с глубоким уважением к поэту. Но и с опаской: не высмеет ли его Маяковский неожиданной репликой. А тот начал выступление действительно необычно:
– С удивлением услышал я слова приветствия... за последнее время обо мне чаще говорят как о начинающем... Друзья по бильярдной игре знают меня лучше, чем поэты...
До передачи выставки в Литературный музей, входивший тогда в состав Библиотеки имени В. И. Ленина, она была показана в Доме комсомола на Красной Пресне. Здесь же, 25 марта, Маяковский выступил на вечере, посвященном 20-летию его творческой деятельности. Это был как бы отчет перед молодежью. Собрание приняло специальную резолюцию (в духе тех лет!), где записаны пункты о передаче выставки в Литмузей, копии – в союзные республики, о переводе произведений Маяковского на иностранные языки, «о переложении» их на музыку... Был даже пункт-ходатайство «о присвоении товарищу Маяковскому звания народного поэта республики». Но, пожалуй, самый замечательный пункт этой замечательной резолюции гласит:
«Созвать в Доме комсомола на Красной Пресне конференцию библиотечных работников, преподавателей-словесников совместно с представителями от рабочей читательской массы и поставить в упор следующие вопросы: 1. Читают ли данные работники Маяковского. 2. Понимают ли они его. Если не читают, пусть ответят за ложную агитацию против нашего революционного поэта».
Тут чувствуется «эпический слог протоколов, набатный язык пролетарских газет» (Я. Смеляков). Никаких разночтений: «наш революционный поэт»! И вопрос о нем ставится «в упор».
Резолюция актива была принята в атмосфере полного взаимопонимания между поэтом и аудиторией, это хорошо видно из стенограммы выступления. Маяковскому, конечно, задавались и наивные вопросы, вроде этого: «Зачем вы ездите за границу?» Он и отвечал на них шутливо, цитируя лермонтовские строки: «Под ним струя светлей лазури...» и далее. На серьезный вопрос о партийности Маяковский ответил в высшей степени серьезно: «Нет, я беспартийный». И объяснил почему: «Потому что я приобрел массу привычек, которые нельзя связать с организационной работой».
Выше формальной принадлежности к партии Маяковский ставил позицию, которую занимает писатель. В этом же выступлении он сказал: «Я от партии не отделяю себя, считаю обязанным выполнять все постановления... партии, хотя не ношу партийного билета».
Встреча с комсомольцами Красной Пресни приободрила Маяковского. Будучи больным, расстроенным личными и общественными делами, здесь, перед активом комсомола, он вновь почувствовал себя в близкой ему среде, много и с увлечением говорил о литературе, о поэзии, о ее задачах, читал стихи и по просьбам комсомольцев и по своему выбору, отвечал на записки, пока не взмолился: «У меня глотка сдала» (Владимир Владимирович еще вначале предупредил: «Я сегодня пришел к вам совершенно больной, я не знаю, что делается с моим горлом, может быть, мне придется надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров»...).
Видно было, что Маяковский остался доволен этим вечером, аудиторией, своим выступлением. Совершенно больной, он держался из последних сил. Через четыре дня, на вечере в клубе имени Астахова, выступая перед рабочими завода «Серп и молот», Маяковский прочитал одно стихотворение (выступали также другие поэты) и, несмотря на горячий прием, бурную овацию, попросил разрешения покинуть вечер, сославшись на плохое состояние здоровья, на головную боль. Здесь же, на Красной Пресне, поэт выразил глубокое удовлетворение тем, что «читает в комсомольской аудитории и она расценивает его как своего писателя. Это – самый главный пункт, из которого можно сделать выводы».
И все-таки в эти последние дни жизни, несмотря на критическое состояние здоровья, уже после Красной Пресни, дважды Маяковский выступает на диспутах о «Бане».
До мейерхольдовского спектакля «Баня» была поставлена в Государственном народном доме в Ленинграде, роль Победоносикова исполнял Борис Бабочкин. Постановка оказалась неудачной, акценты пьесы были смещены. «Публика встречала пьесу с убийственной холодностью» (М. Зощенко). И это послужило поводом (еще до постановки «Бани» в Москве) к началу критического наступления на пьесу, которое фактически прекратилось только со смертью Маяковского.
Атака на «Баню» как раз и началась с рецензий ленинградских газет. Спектакль действительно оказался неудачным, но писавшие о нем не сумели разглядеть ипьесу как драматургическое произведение и по достоинству оценить ее. Направлялась вся эта кампания с командного пункта РАПП. Нокаутирующий удар попытался нанести один из ее деятелей В. Ермилов статьей «О настроениях мелкобуржуазной «левизны» в художественной литературе». Статья была опубликована в «Правде» за семь дней до премьеры, а прежде – в февральском номере журнала «На литературном посту». Критик, знакомый с пьесой, как он сам признался, только по опубликованному отрывку, объявил фигуру ее главного персонажа, бюрократа Победоносикова, «нестерпимо фальшивой».
Это значило, что ложной признавалась основная идея пьесы, то, ради чего она была написана.
В защиту пьесы выступил Мейерхольд. Ермилов не смирился и выступил еще раз. Полемика продолжалась в «Вечерней Москве». Маяковский мужественно отбивался. Ведь по нему вела огонь командная верхушка РАПП, той организации писателей, в которую он только что был принят. В зрительном зале, среди лозунгов к спектаклю «Баня», появился такой:
Сразу
не выпарить
бюрократов рой.
Не хватит
ни бань
и ни мыла вам.
А еще
бюрократам
помогает перо
критиков -
вроде Ермилова...
Лозунг этот рапповцы вынудили снять. (Вот откуда в предсмертном письме: «Ермилову скажите, что жаль – снял лозунг, надо бы доругаться».)
Премьера «Бани» в Москве состоялась 16 марта 1930 года. Атмосфера вокруг пьесы была уже достаточно накалена. К величайшему сожалению, постановка Мейерхольда, эффектная, изобретательная, имела ряд просчетов, которые помешали выявить важные идейно-художественные достоинства произведения.
Недостаточно заметны и выразительны оказались Чудаков, Велосипедкин и другие, а Маяковский после «Клопа» именно через этих персонажей хотел усилить положительное начало пьесы. Чрезмерное увлечение цирковыми трюками в трактовке отрицательных персонажей, прежде всего Победоносикова, облегчало конфликтную ситуацию, сглаживало драматизм борьбы. М. Штраух в роли Победоносикова был хорош, он нравился Маяковскому, но он не был так опасен, как в пьесе, именно из-за элементов клоунады в трактовке образа. Текст Маяковского, отдельные реплики заглушались музыкой и шумом от движения вращающегося по сценической площадке кольцевого тротуара.
И все же спектакль имел свои достоинства. Это было не просто красочное феерическое зрелище, что, конечно, входило в задачу Мейерхольда, но это было зрелище, утверждающее победу созидательных начал над косностью и бюрократизмом. Не исчез в спектакле, не растворился в цирковых трюках и фейерверке фантастический мотив с «машиной времени». Этот элемент – «машина времени», изобретенная Чудаковым, – фантастическая условность, опять-таки отражает характер Маяковского, его нетерпение, его огромное желание заглянуть в будущее. Пафос нетерпения прорывается сквозь постановочные эффекты спектакля, донося до зрительного зала дыхание и ритмы времени, ритмы первой пятилетки.







