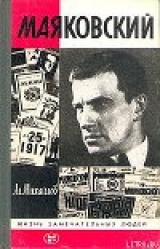
Текст книги "Маяковский"
Автор книги: Александр Михайлов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 39 страниц)
Уже во второй главе поэмы, в картине уличных митингов из отдельных энергичных реплик, выражающих настроение и мысли тысяч, миллионов, возникает образ массы, преимущественно крестьянской, начинающей проявлять социальное лицо, ибо она, эта масса, прозревает насчет войны, насчет политики Временного правительства. В этом художественное открытие Маяковского – в искусстве создания «портрета» обретающей революционное сознание народной массы, в умении показать динамику революции, ее движущих сил.
Керенский, этот «вертлявый пострел», с его бонапартистскими замашками, как и другие деятели буржуазного лагеря, развенчивается настолько остроумно и зло, ситуации, в которые он поставлен, его реплики, жесты столь красноречиво выдают в нем ничтожного чванливого временщика, что становится ясно: дни правления этого человека и возглавляемого им правительства сочтены.
В ином плане изображается нарастающая революционная сила, самой историей призванная изменить ее ход, взамен старого, буржуазного, построить новое общество на основах социальной справедливости. В пятой, предоктябрьской главе, появляется персонаж, не названный именем. Потому, может быть, и не названный, чтобы представлять массу, но на этот раз организованную революционную массу. Это человек убежденный, решительный, знающий, к чему он готовится и что должен совершить. Это, конечно, и организатор.
Большевистская сила концентрируется вокруг Ленина. Его появление в поэме столь же логично, сколь неожиданно («Сам приехал, в пальтишке рваном, – ходит, никем не опознан»). Ленин – вождь масс. Внешним обликом, незаметностью поэт показывает его демократизм. И он – тактик, политический деятель революционного склада, точно определяющий срок восстания («Сегодня, говорит, подыматься рано. А послезавтра – поздно. Завтра, значит»).
Как и в поэме о Ленине, Маяковский перефразирует и вводит в текст ленинские высказывания, укрепляя и углубляя таким образом реальную основу произведения, ничуть, однако, не сковывая себя документом, хроникой в образном воплощении того или иного эпизода, но и не нарушая принципа историзма.
По шестой главе поэмы, как по киносценарию, можно ставить фильм о событиях Октябрьского вооруженного восстания, настолько выразительны и закончены ее отдельные эпизоды, настолько они динамичны.
И в этом движении, в сценарии развертывающегося сражения за власть – глаз поэта выхватывает такой чрезвычайно необходимый в общей картине кадр:
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Штаб революции. Здесь внешне все обыденно. Но чувствуется нетерпение ожидания и вместе с тем основательность, уверенность, неотвратимость того, что должно произойти в результате действий этих людей и тех, кто идет за ними.
И – другой «штаб». В Зимнем. Министры Временного правительства. Здесь атмосфера подавленности. Говорят знаками, шепотом. Они обречены. На них, «из-за Николаевского чугунного моста, как смерть, глядит неласковая Аврорьих башен сталь».
С этого момента идет возрастание темпа – с момента, когда «из трехдюймовок шарахнули форты Петропавловки», когда «бабахнула шестидюймовка Авророва». Начинается штурм Зимнего, восставшие рабочие, матросы, солдаты ворвались во дворец, «каждой лестницы каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров». Темп передает ход восстания и нарастает до момента низвержения Временного правительства. Здесь – черта, рубеж. Первая остановка. Отсюда начинается отсчет новой эпохи. Она заявляет о себе голосом человека, от которого исходит непоколебимая уверенность в правоте революционного действия, им совершаемого, и глубокое удовлетворение от того, что оно совершается.
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».
Так совершился поворот не только российской, но и мировой истории. Маяковский увидел и показал его в соединении героического, величественного и обыденного. Он увидел и показал историческую предопределенность победы Октябрьской революции.
Событие такого гигантского размаха, как Октябрьская революция, вовлекло в активное действие миллионы людей. Это, естественно, была неоднородная масса. И если ядро ее составляли сознательные рабочие и крестьяне, то, как в любом массовом движении, немалое место занимали стихийные элементы. Проявление стихийных сил, особенно в первые дни революции, можно было встретить чуть ли не на каждом шагу.
Что такое, например, калейдоскопически промелькнувший, но запоминающийся эпизод во время штурма Зимнего: «смущенный сукин сын» и «путиловец – нежней папаши»: «Ты, парнишка, выкладай ворованные часы – часы теперича наши!»?
Он взят Маяковским из воспоминаний участника событий в одной из хрестоматий, которыми поэт пользовался, работая над поэмой, и художественно переосмыслен. Более подробно он описан в книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».
Это как раз и есть конкретный пример проявления стихийности и усмирения ее, приведения к сознательному, организованному началу. Об этом же, но уже в более общем плане идет спор с Блоком, с его «Двенадцатью».
Показывая в новой поэме встречу и разговор с Блоком, Маяковский дает развернутую картину шествия революции по стране. И вот тут, в стремительных и рваных ритмах, возникают мотивы, с одной стороны, организованного, маршевого, триумфального ее движения в глубину России, с другой – стихийных страстей. Аргументом же в споре с Блоком должна послужить побеждающая стихию, организующая ее идея социализма. Революционный «вихрь» означает «и постройку, и пожара дым», созидание и разрушение. Все это «прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды».
Литературный спор перерастает в спор идейный. Свое восприятие революции Маяковский противопоставляет блоковскому. Не нарушая пиетета по отношению к великому старшему современнику, он пользуется преимуществом художника, которому революция полнее открылась во времени.
Факты, кроме книжных источников, кроме собственного знания и опыта, отбирались в поэму и от участников и свидетелей событий. Шестнадцатая глава начинается со ссылки: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...» Поэт не видел, как белые бежали из Крыма, однако в поэме дана развернутая картина их бегства. Это Лавут рассказал Маяковскому, как, готовясь к эвакуации, интервенты и белогвардейцы занимались спекуляцией, как шныряли в поисках выгодных сделок офицеры и маклеры, какую панику на них навело известие о формировании Перекопа Красной Армией. Лавут видел, как во время бегства с боем брались места в транспорте, как солдат сбил с трапа в море офицера, как картинно, перекрестившись, поцеловав пирс, отбыл на яхте «Алмаз» Врангель...
Н. Брюханенко вспоминает, как по дороге из Пушкина в Москву, в вагоне пригородного поезда, Владимир Владимирович негромко, но выразительно чеканил одни и те же строчки:
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий...
Он как бы примеривал их на слух и только после записывал в книжечку.
Многими штрихами и подробностями эти рассказы вошли в картину бегства интервентов и белогвардейцев, созданную Маяковским. Читая шестнадцатую главу перед аудиторией, поэт объяснял:
– Этот рассказ моего знакомого, – говорил он, – проверялся мной несколько раз – на случай ошибок или увлечений рассказчика – и моих тоже. В проверенном виде он положен в основу главы. Я считаю такой метод правильным.
Коммунистические субботники, гражданская война и нашествие на Советскую Россию интервентов с Юга, Севера и Запада, когда «На первую республику рабочих и крестьян, сверкая выстрелами, штыками блестя, гнали армии, флоты катили богатые мира, и эти и те...», стягивая вокруг нее железное кольцо блокады, когда:
Посреди
винтовок
и орудий голосища
Москва -
островком,
и мы на островке.
Мы -
голодные,
мы -
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке, -
вот что такое исторический «сюжет» революции, ее победы в России, а также и сюжет поэмы. И публицистические вторжения в изображение этих событий, и это «мы» в цитируемых стихах и, наконец, эмоциональность, экспрессия сюжетных частей поэмы – все говорит о том, что Маяковский вкладывал в это произведение (как, впрочем, и в другие) частицу самого себя. Публицистика, лирические монологи, рассказ о событиях – все это, как и заявлено во вступлении, идет «от свидетеля счастливого», Маяковский уже как бы обращается к потомкам, к людям будущих поколений, которые про Октябрь смогут узнать только из книг.
Суровый колорит отличает в поэме годы разрухи, военного коммунизма, быт нэпа. Но именно в этих главах звучат самые проникновенные слова о теплоте человеческих отношений, о любви и дружбе, о том, что «нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку». В этот колорит вторгается трогательное воспоминание и звучат слова любви и нежности, слова благодарности любимой – ее «глаза-небеса» послужили «виной» всему, что написано поэтом, ей заболевшей, а «не домой, не на суп», несет поэт «две морковинки... за зеленый хвостик». И другая, не менее трогательная деталь – щепотка отсыревшей соли – подарок сестре на Новый год...
Истинная человечность всегда нагляднее раскрывается в исключительных условиях, когда жизнь как бы нарочно испытывает прочность нравственных устоев каждого, дает возможность оценить – кто есть кто. Так испытывается нравственная крепость всего общества, в данном случае – нового, советского общества.
И вот тут одной нотой, не высказанным, но подразумеваемым словом благодарности поэта своему пристанищу в эти суровые годы, «комнатенке-лодочке», в которой «проплыл три тыщи дней», возникает важнейший для поэмы лейтмотив. Потом уж, в концовке тринадцатой главы, где показан быт промерзшей Москвы, он зазвучит более мощно, тема его обозначится как патриотическая: «...но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя». И дальше, после эпизодов с морковниками и щепоткой соли, – новое признание: «Я землю эту люблю». И – вывод: «...землю, с которой вдвоем голодал, – нельзя никогда забыть!»
Шаг поэта, становясь все уверенней, сливается с шествием Советской власти, и голос его (уже не как «свидетеля», а как участника революционных преобразований) сливается с голосом народа:
...землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами, -
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!
Один из исследователей творчества Маяковского, А. Метченко, сделал точный вывод: «Центральная тема всего пооктябрьского творчества Маяковского – «Моя революция» – в поэме «Хорошо!» повернута к читателю новой стороной: «Мое отечество».
Это обновление, обогащение патриотического чувства. Это не только русский, но и советский патриотизм, когда национальное, генетически заложенное в Маяковском чувство обогащается чувством интернационального братства советских народов и гордости за революционное первородство Страны Советов, это то, о чем было сказано еще в поэме «Пятый интернационал»:
Вот
она,
Россия,
моя любимая страна.
Красная,
только что из революции горнила.
В поэме о Ленине высшей точкой причащения «великому чувству по имени – класс!» были «общие» слезы в день похорон вождя революции. В поэме «Хорошо!» Маяковский заявляет: «Я с теми, кто вышел строить и месть...» Даже при поверхностном взгляде на его жизнь и деятельность в предшествующие годы можно сказать, что это не декларация. Опыт борца за новую жизнь дал ему право на это заявление.
В оду новой жизни слагаются и строки о «громадье» планов государственных, и строки, славящие Отечество, которое есть и которое будет, и радость от ритма («марша») движения страны навстречу пятилеткам, и оттого еще, что «поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца». Будущее, несмотря на «нищенства тормоз», ясно вырисовывается даже там, где простым глазом его не увидишь. Поэту дано иное зрение, он видит – «где сор сегодня гниет, где только земля простая», – видит, как «из-под нее коммуны дома прорастают».
Оптимистично звучит финал поэмы в девятнадцатой главе: «Жизнь прекрасна и удивительна». И, конечно, не удовлетворение только достигнутым к десятой годовщине Октября создает оптимистический настрой произведению, ибо успехи были еще не настолько велики, чтобы упиваться ими, пребывать в самодовольстве. Этот настрой создает вера в будущее, основывающаяся на теперь уже прочном фундаменте Октября, фундаменте настоящего.
Поэмой «Хорошо!» Маяковский возрождал одическую традицию русской поэзии, традицию Державина. Возрождал и обновлял ее как поэт нового времени. Он воспевал революцию, Советскую Родину («Пою мое отечество, республику мою!»), но при этом видел не только героику, не только величье целей, но и будничный облик страны, в котором свет и тени смешались с далеко не всегда уловимой последовательностью. Одический стиль Маяковского рождался из гула, ритма, музыки как героическая песня, «великолепная фанфара» (Луначарский) во славу Отечества, «которое будет...». Он рождался, вбирал в себя не только свет, но и тени, пронизывая тени светом веры. Оптимизм веры становился органической составной одического стиля Маяковского, в этом его принципиальная новизна.
В поэме «Хорошо!» Маяковский проявляет черты государственного мышления и ощущения себя хозяином страны. В поэме о Ленине наивысшей точкой гражданского самосознания было ощущение себя «частицей» великой силы – рабочего класса. В поэме «Хорошо!» «я» – не только гражданин Страны Советов, ее плоть и кровь, здесь лирический герой с большим достоинством представляет страну как ее хозяин: «Улица – моя. Дома – мои». Все здесь – «мое», «моя страна», жизнь в которой «прекрасна и удивительна».
Что интересно, при первом же чтении поэма была воспринята по-разному. В отличие от Луначарского, Фадеев, например, усмотрел в «Хорошо!» забегание вперед! Впоследствии он признался, что не сразу понял все величие и значение этого произведения, подошел к нему с узколитературной точки зрения.
Первое чтение поэмы Маяковский устроил по возвращении с юга в Москву у себя, в Гендриковом переулке. Приглашены были А. В. Луначарский, рапповцы А. Фадеев и Л. Авербах – человек тридцать. Маяковский читал, рассказывает Катанян, стоя у двери в свою комнату, читал, скупо жестикулируя, скорее подчеркивая не смысл, а ритмический шаг стиха. В левой руке держал блокнот, хотя почти не заглядывал в него.
Закончил. Как-то сразу расслабился, достал из пачки папиросу, закурил. Тут же поднялся Луначарский, заговорил горячо, приподнято, видно было, что поэма его глубоко взволновала. Вскоре же после прослушивания он, выступая на юбилейной сессии ЦИК СССР с докладом о культурном строительстве за 10 лет, сказал:
«Маяковский создал в честь октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты, и которая в рабочей аудитории стяжает аплодисменты».
Тогда, на квартире у Маяковского, Анатолий Васильевич обращался ко всем сидящим в комнате, словно хотел разделить с ними радость, которую он испытал, словно призывал всех в свидетели праздника революционного искусства.
Однако не все разделяли праздничное настроение Луначарского. В столовой, после чтения, пошел общий разговор, который – слово за слово – обернулся горячим спором.
С пулеметной быстротой, хотя и не стараясь задираться (с Маяковским это было опасно!) повел атаку на поэму Авербах, один из вождей РАППа. Продолжил спор Фадеев (у него, кроме критического взгляда на поэму, были еще свои счеты с лефовцами: Брик опубликовал в их журнале разнузданную статью о романе «Разгром»). Им возражали лефовцы, поэты и критики. Кричали, перебивали друг друга, горячились. Дипломатичный Авербах уже пытался погасить дискуссию, перевести разговор на другую тему, уже Н. А. Розенель торопила Луначарского, ибо опаздывала на репетицию, а он, поглощенный дискуссией, не хотел уезжать...
Что и говорить, лефовцы спорить умели, «школа» Маяковского не прошла даром, Фадееву пришлось совсем туго, и он с нажимом сказал:
– Когда во Владивостоке мы из подполья приходили, так сказать, переодетые, в «Балаганчик», мы видели там поэтов... Сегодня эти поэты пишут революционные стихи.1717
В юношеские годы Фадеев был не только влюблен в стихи Маяковского, но и великолепно их читал в молодежных кружках.
[Закрыть]
Это был некорректный выпад. Намек был слишком прозрачен.
Маяковский оказался на высоте.
– Когда это было? – спросил он, словно бы не заметив иронической интонации.
– В 1920 году.
– Хуже, если бы они в двадцатом году писали революционные стихи, а теперь засели бы в «Балаганчик». А так все правильно. Они растут в нужном направлении.
Спор таким образом иссяк. Иссяк в столовой, чтобы возобновиться за ее пределами, возобновиться в резких формах.
По завершении работы над поэмой Владимир Владимирович несколько раз прочитал ее в больших аудиториях. Прочитал рабочим Путиловского завода в Ленинграде. Он заявил перед чтением, что пришел отчитаться о своей новой работе. По воспоминаниям очевидцев, он вел себя в этой аудитории несколько иначе, чем обычно, держался мягче, больше прислушивался к тому, что происходит в зале... И только библиотекаршу (опять библиотекаршу!), кричавшую: «Вас не любят, в библиотеке не спрашивают!» – разделал так, что весь зал покатывался со смеху.
Об этом случае Маяковский сам рассказал в статье «Вас не понимают рабочие и крестьяне». В ней же он приводит такую, написанную в духе времени, справку:
«Дана сия от заводского комитета Закавказского металлического завода имени «Лейтенанта Шмидта» тов. Маяковскому Владимиру Владимировичу в том, что сего числа он выступил в цеху перед рабочей аудиторией со своими произведениями.
По окончании читки тов. Маяковский обратился к рабочим с просьбой высказать свои впечатления и степень усвояемости, для чего предложено было голосование, показавшее полное их понимание, так как «за» голосовали все, за исключением одного, который заявил, что, слушая самого автора, ему яснее становятся его произведения, чем когда он читал их сам.
Присутствовало – 800 человек».
Этот один, уточняет Маяковский – бухгалтер.
Читать такую справку любопытно, но и – горько. Горько потому, что такому поэту, как Маяковский, приходилось подобным способом доказывать свое право на существование в литературе, отбиваться от косных или откровенно враждебных людей, донимавших его постоянными обвинениями в непонятности.
С чтением «Хорошо!» поэт выступил в Тифлисе.
Газета «Рабочая правда» писала об этом вечере:
«Тяжелые годы критических и литературных гонений... не сломили» поэта. «Они, наоборот, вдохновили Маяковского на новый взрыв творчества, родивший такое блестящее монументальное произведение, как героическая поэма «Хорошо!». Газета высказывала уверенность, что даже «противники Маяковского должны будут признать, что «Хорошо!» – ценнейший вклад в революционную поэзию».
Насчет противников Маяковского оптимистический прогноз тифлисской газеты не оправдался, их ожесточение к поэту возрастало в обратно пропорциональной зависимости от его творческих достижений. В собственной оценке значения поэмы «Рабочая правда» была права.
Ответственнейшим для Маяковского было выступление с поэмой «Хорошо!» перед партийным активом, перед «агитпропщиками» Москвы 18 октября 1927 года в Красном зале МК.
Маяковскому чрезвычайно важно было «пройти» с поэмой через эту аудиторию, так как еще до выхода отдельным изданием обнаружилась критическая разноголосица в ее оценке.
«В течение полутора часов аудитория с неослабным вниманием слушала новое произведение даровитого поэта, – писала в своем отчете «Рабочая Москва». – Иногда чтение прерывалось одобрительными возгласами и аплодисментами». В обсуждении, состоявшемся после чтения, в ходе которого поэт хотел получить ответ на вопрос: понятна ли поэма? – никто отрицательной точки зрения не высказал. Собрание приняло резолюцию, в которой поэма Маяковского «Хорошо!» – в ряду других произведений советской литературы – рассматривается как шаг вперед и заслуживает использования ее в практической работе как средства художественной агитации.
Интерес к поэме был большой. На вечера с ее чтением, как правило, приходило много народу. Через два дня, 20 октября, Маяковский выступил в Большом зале Политехнического. Зал был переполнен, публика теснилась в проходах, на эстраде, в вестибюле. С улицы Политехнический имел вид осажденной крепости.
Значило ли это, что поэма проходила на «ура», что публика – вся! – принимала ее безоговорочно? Нет, отнюдь не все чтения поэмы заканчивались триумфально. Особенно в больших городах, в Москве и Ленинграде, где в аудитории непременно находилась какая-то часть литературной и окололитературной публики, уже соответственно своим групповым привязанностям настроенная против Маяковского. Она-то главным образом и являлась возмутителем порядка на этих чтениях.
Так, к примеру, чтение поэмы в Политехническом закончилось скандалом. «Вечерняя Москва» писала: «Какая-то группа литературных противников Маяковского воспользовалась и этим вечером, и этой многочисленной публикой, чтобы свести свои счеты с поэтом, снова и снова предъявив ему обвинение в... присвоении рукописей покойного Хлебникова». Дело закончилось вмешательством милиции.
Как видим, тухлыми яйцами дело не ограничивалось, учинялись провокации покрупнее.
А. В. Луначарский совершенно не случайно, оценивая поэму «Хорошо!», обронил такие слова: в ней «нет ни одной фальшивой ноты...». С чего бы Луначарский стал об этом говорить, если бы не возникла необходимость защищать произведение Маяковского от обвинений в фальши, неискренности! Они были. Подлые, злые, оскорблявшие самые святые чувства поэта.
Не где-нибудь, а в ленинградском Доме печати, Маяковскому во время чтения поэмы «Хорошо». Подавались записки о гонораре, о том, что мол-де поэма написана неискренне...
Газеты того времени оставили свидетельства о разгуле обывательских страстей на некоторых вечерах Маяковского. «Вечерняя Москва» о вечере в Политехническом, состоявшемся 15 ноября, писала:
«...Никогда еще не проявилось так отчетливо, как вчера, отношение к поэту обывателя, который за свой целковый считает вправе с высоты своего обывательского величия и в отдельных выкриках и, тем более, в анонимных записках самым вызывающим образом глумиться над поэтом». Сейчас это кажется почти невероятным, а ведь Маяковскому действительно, как перед судом, приходилось убеждать публику на вечерах, отвечая своим оппонентам, что он искренне выразил свое отношение к революции, к Советскому социалистическому Отечеству.
Не во всех случаях, разумеется, поэт отвечал на вопросы, реплики и записки такого рода в тоне убеждения. Когда он выпускал жало иронии, насмешки, то, как писала «Вятская правда», «прилизанным мещанам не по вкусу пришлись его резкие ответы. Они не могли слышать хлесткость его острот», а анонимные записки были такого тона и содержания, что надо было или с достоинством пренебречь ими, стать выше, ответить спокойно, или принять вызов и ударить втройне больно, ударить так, чтобы укрывшийся в убежище анонима противник уже не смог больше поднять головы. А если он все-таки пытался поднять голову?
– Маяковский! – с вызовом отчаяния кричит он, разоблачая свою анонимность. – Вы что, полагаете, что мы все идиоты?
– Ну что вы! – кротко удивляется поэт. – Почему все? Пока я вижу перед собой только одного...
После этого вновь возникать было уже невозможно.
Придавая огромное значение поэме «Хорошо!» как произведению этапному, Маяковский в это время ищет встреч с большой аудиторией не только в Москве и Ленинграде, он едет по городам СССР. «Хорошо!» его отчет о творческой работе к десятой годовщине Октября. Более тридцати раз он выступал в это время с чтением поэмы в разных городах и аудиториях. Основная масса слушателей принимала поэму восторженно. Большая часть газетных откликов о вечерах, оценивавших также и саму поэму, тоже была выдержана в духе понимания и доброжелательства.
Поддержала поэму «Правда». Положительные отклики были в «Комсомольской правде», ленинградской «Красной газете». Однако в литературной печати вокруг «Хорошо!» стала нагнетаться атмосфера неприятия.
Начало было положено не в Москве и не в Ленинграде, а в Ростове. Здесь после выступления Маяковского с чтением поэмы «Хорошо!» в двух газетах появились две рецензии. Одна, как ныне говорят, положительная, другая – в газете «Советский юг» (27 ноября 1927 года)... Впрочем, о ее характере красноречиво говорит название, рецензии: «Картонная поэма».
«Ни одна искра октябрьского пожара не попала в октябрьский переворот Маяковского», – писал критик. Он увидел в поэме «картонный парад», не более. Далее критик пишет: «Это не творчество. Это имитация. Это – незатейливая работа переводчика, не дерзающего на творческий акт». И еще: «Тот же протокол о взятии Таврического (?) дворца». В назидание добавляет: «Перечисления событий нам не надо. Их каждый пионер знает наизусть».
Лишь в некоторых местах поэмы критику видится «старый добрый Маяковский» времен футуризма. И в заключение он выносит приговор: жить этой «картонной» поэме-«арке» – месяц-другой.
Для рапповцев, для Авербаха эта статейка неизвестного ростовского журналиста (а впоследствии известного театрального критика) Ю. Юзовского была подлинной находкой. Она была, как «отзыв читателя» (?), перепечатана в журнале «На литературном посту» и прозвучала как аргумент в дискуссии о Маяковском, развернувшейся на его страницах.
Начало дискуссии положила другая статья. Ее автор – И. Дукор. В этой статье противопоставлялась газетная работа Маяковского его поэме, в которой автор не обнаружил больших достоинств, зато упрекнул поэта в «снижении подлинно газетного и искреннего жанра в сторону... дешевой «юбилейной эпики»...
Трудно сказать, чего больше в этой статье, – непонимания или догматического, содержащего в себе ядовитые намеки неприятия. Догматического с лефовских позиций: Л. Авербаху куда как на руку было критическое выступление по поэме Маяковского, прикрытое похвалой его газетной деятельности и именем критика, стоящего на лефовских позициях.
А затем выступил критик М. Беккер со статьей «Хорошо ли «Хорошо!»?». В его оценке тоже ощущалась двойственность. Положительно оценивая поэму в целом, он – в полном противоречии со статьей «Маяковский-газетчик», начавшей дискуссию в журнале, – упрекал поэта в том, что тот «не освободился от влияния газеты».
Кроме того, Беккер в характерном напостовском (рапповском) стиле безапелляционного приговора утверждал, что во всех произведениях о революции «Маяковский был далек от понимания Октября, его содержания, его сущности».
Дискуссия явно запутывала Маяковского. Свою лепту внес и А. Фадеев, на Первом съезде пролетарских писателей (май 1928-го) он резко отозвался о поэме «Хорошо!», охарактеризовав некоторые образы ее «фальшивыми, напыщенно-плакатными». Фадеев говорил о том, что Маяковский «не смог в поэме «Хорошо!» дать борьбу противоречивых тенденций у крестьян, потому что не заглянул в психику крестьянина, и его красноармейцы, лихо сбрасывающие в море Врангеля, получились фальшивыми...».
Надо сказать, рапповцы тактически умело изолировали Маяковского, разобщая с ним литературную молодежь. К. Зелинский, привлеченный в «Леф», – яркий тому пример. В статье «Идти ли нам с Маяковским?» и он нанес удар: «Как много напора и темперамента при какой-то пустоте внутри!»
Неискренность, фальшь, душевная пустота... Какие еще более оскорбляющие, унижающие человеческое достоинство характеристики можно было пустить в оборот, чтобы нанести удар в самое сердце поэта! Ведь не случайно тоже по поводу поэмы было брошено словечко «хорошо-с» – подлый намек на якобы прислужничество Маяковского Советской власти.
В литературной борьбе вокруг поэмы «Хорошо!», произведения этапного не только в творчестве Маяковского, но и во всей советской литературе, проявили себя групповые пристрастия. Но в оценках поэмы «Хорошо!» отчетливо различимы и политические оттенки. Борьба шла за генеральное направление в развитии советской литературы, которое явственно обозначила поэма и которое не сразу и не всеми принималось в этом качестве.
Еще в связи со стихотворением «Последняя петербургская сказка» (1916) было замечено, что оно «наследует державную тему Пушкина и предвещает государственный, державный пафос Маяковского» (Ст. Лесневский). В поэме «Хорошо!» это предвестие воплотилось могуче, широко, звонко.
«Хорошо!» – сказал Маяковский революции, ее победоносному шествию, успехам в строительстве новой жизни, нового, социалистического государства. «Плохо!» – это он собирался сказать в другой поэме. Легко догадаться, что будь она написана, поэма «Плохо!» стала бы сатирой на отрицательные явления советской действительности двадцатых годов. Впрочем, эту задачу выполнили сатирические стихи Маяковского, его пьесы «Клоп» и «Баня».







