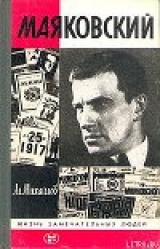
Текст книги "Маяковский"
Автор книги: Александр Михайлов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
Единственной, пожалуй, соперничающей силой выступали пролеткультовцы, которые ожесточенно нападали на футуристов, на Маяковского, хотя по отношению к культурному наследию прошлого стояли на одних позициях. Они резко отвергли попытку Маяковского сблизиться с ними, считая, что создателями новой пролетарской литературы могут быть только пролетарии по происхождению, но не интеллигенты.
Пролетарских писателей оберегали от вредного влияния «интеллигентов» их заботливые литературные няни. В брошюре «Пролетарская поэзия» В. Фриче писал:
«Если поэты, вышедшие из рабочей среды, хотят создать в самом деле пролетарскую и по духу и по форме поэзию, они должны идти не к интеллигенции, не к поэтам – профессионалам буржуазного прошлого, а назад, к своей стихии, в свою среду, назад к массам, к пролетариату, на заводы и фабрики. Они должны перестать быть _т_о_л_ь_к_о_ поэтами – пусть они будут снова прежде всего работниками, пролетариями, и лишь на досуге также творцами, художниками слова».
Эту же мысль высказал В. Плетнев в статье «На идеологическом фронте». Его фразу о том, что пролетарский художник будет одновременно и художником и рабочим, В. И. Ленин охарактеризовал одним словом: «в_з_д_о_р». Однако вульгарно-социологический подход к литературе и был основой прямо-таки остервенелых нападок пролеткультовцев на Маяковского, выражавших ему классовое недоверие.
Маяковский же, как ни был далек от футуризма в основном направлении своего творчества, продолжает называть себя футуристом и активно пропагандировать футуризм. В начале февраля 1918 года он выступает в Политехническом с речью: «Наше искусство – искусство демократии». Вместе с Бурлюком и Каменским участвует в издании «Газеты футуристов». Вышел только один номер этого издания, но он достаточно ясно показывает амбиции ее издателей в «Декрете N 1 о демократизации искусства», в «Манифесте летучей федерации футуристов» и в «Открытом письме рабочим», написанном Маяковским.
В высказываниях и декларациях Маяковского, в его действиях в это время, с одной стороны, видна инерция футуристических забав молодости, а с другой – путаница во взглядах на искусство, недооценка культурного наследия. Но видно также и искреннее стремление к демократизации культуры. В «Декрете N 1 о демократизации искусства» говорится: «Пусть улицы будут праздником искусства для всех»...», «Все искусство – всему народу!»
Но под всем искусством футуристы все-таки разумели свое искусство. Развешивая картины на Кузнецком мосту, расклеивая стихи, как афиши, на стенах домов, они наивно полагали, что таким образом перевернут художественное сознание революционного народа. И вместе с этим участвовали в играх по избранию «короля поэтов», потом – по «низложению короля».
В первом случае – это было в Политехническом, под председательством знаменитого клоуна Владимира Дурова – в турнире на титул «короля поэтов» участвовал Маяковский и занял второе место, уступив «королевское» звание Северянину. «Часть аудитории, желавшая видеть на престоле г. Маяковского, еще долго после избрания Северянина продолжала шуметь и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его верноподданных», – говорится в отчете одной из газет.
Маяковский был уязвлен. И, конечно, не без его участия, и снова в Политехническом, был устроен другой вечер под лозунгом: «Долой всяких королей». «Низложение короля» происходило при участии неизменных партнеров – Каменского и Бурлюка.
Маяковский был уязвлен не тем, что его не избрали «королем поэтов». Для него в это время неприемлем был Северянин, который олицетворял собой «чирикающую» поэзию и неоднократно служил мишенью едких нападок Маяковского. Публика на первом вечере в Политехническом в основном состояла из поклонников Северянина, и, естественно, отдала ему свои голоса. После вечера Лев Никулин сказал Маяковскому, что ловкий делец, импресарио, пустил в обращение больше ярлычков на право голосования для поклонников Северянина, чем было продано билетов.
Маяковский явно повеселел:
– А что ж. Так он и сделал. Он возит Северянина по городам. Представьте себе – афиша «Король поэтов Игорь Северянин»!
Наступило время устной, звучащей поэзии. В Москве основным пристанищем Маяковского и футуристов стало «Кафе поэтов», организованное В. Каменским в Настасьинском переулке, в бывшей прачечной. В вечерней и ночной Москве, где в то время не ходили трамваи и лишь большие улицы освещались редкими фонарями, только в центре можно было надеяться собрать публику. И она шла в «Кафе поэтов», разнородная, поначалу в основном буржуазно-мещанская.
«Кафе поэтов» представляло собой длинную низкую комнату с земляным полом, усыпанным опилками. Дощатая загородка отделяла переднюю, вход прикрывал груботканый занавес. Посреди комнаты – деревянный стол. Такие же кухонные столы, покрытые серыми кустарными скатертями, у стен. Вместо стульев низкие табуретки.
Стены комнаты вымазаны черной краской. Бесцеремонная кисть Бурлюка изобразила на них распухшие женские торсы, многоногие лошадиные крупы, бессмысленные надписи, искаженные строки стихов: «Доите изнуренных жаб!», «К черту вас, комолые утюги!»
Кафе поначалу субсидировал московский булочник Филиппов, баловавшийся стихами, которые он издал анонимным сборником «Мой дар». Потом кафе откупил «футурист жизни» и ловкий делец В. Гольцшмидт, который был известен тем, что «ездил по городам, произносил с эстрады слова «о солнечном быте», призывал чахлых юношей и девиц ликовать, чему-то радоваться и быть сильным, как он. В доказательство солнечного бытия он почему-то ломал о голову не очень толстые доски» (Л. Никулин).
Откупив кафе, проповедник «солнечной» жизни внедрил в него сестру-певицу, младшую сестру насадил в кассу, а мамаша заняла свое место за буфетной стойкой. Видимо, такой поворот дела приносил больше дохода «футуристу жизни», чем ломание досок о голову.
Постоянным партнером Маяковского по выступлениям в кафе был Сергей Спасский. Выступали также Каменский, Бурлюк, некая оперная певица, «поэт-певец» Климов. Этот ходил по кафе, накрашенный до отвращения, размахивая настоящим кадилом. Шепелявящий, взвизгивающий, завитой, он любил напустить на себя таинственность.
Публика собиралась поздно, вспоминает Спасский, чаще после окончания спектаклей в театрах. Маяковский и Бурлюк появлялись, когда уже зал наполнялся и когда выступали певец и певица, Спасский, кто-то из молодых. Вечер шел скучновато.
Но вот входит Маяковский. Кепка заломлена на затылок, он ее не снимает. На шее большой красный бант. Держится так, будто забрел сюда просто поужинать. Приглядываем свободное место. Кажется, везде занято? Есть стол на эстраде, можно сесть за нега.
– Сегодня с утра не жрал – выступал одиннадцать раз. Поэтому заказываю одиннадцать конских порций, – говорит официанту.
На самом деле ему подают дежурное блюдо. А выступать, конечно, приходится и в двенадцатый раз...
«Иногда с ним рядом и Бурлюк. Подчас Бурлюк и Каменский отдельно. Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры... Он явился провести здесь вечер. Если им угодно глазеть, – что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.
Но Маяковский ни с кем не считается... И это для многих обидно. Многим хочется выказать остроумие. По столикам перебегают замечания. Бурлюк взвешивает – дать им ход или нет.
Особенно обидно тому, кто чувствует свое право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует его знать. Такое безразличие унизительно...
И вдруг Маяковский обернулся.
Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами и другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими и трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:
– Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. – Ограниченная коробка кафе не вмещает его массивного голоса. Вот извлечена балетная пара – и без соответствующих костюмов покорно силится себя проявить. Немного упрямится белесый, безбровый Вертинский, ссылаясь на отсутствие аккомпаниатора. Он мнется под все сгибающим взглядом Маяковского, и, наконец, замирает, сжав кисти протянутых вперед рук. Картаво, почти беззвучно декламирует, знакомя публику со свежим, еще не пущенным в продажу изделием:
Ну, конечно, Пьеро не присяжный поверенный,
Он печальный бродяга из лунных гуляк,
И из песни его, даже самой умеренной,
Не сошьете себе горностаевый сак.
А вот двинулась цирковая ватага. Или Хмара из Художественного читает «Пир во время чумы».
Бурлюк не ослабляет руководства, умело приноравливаясь к посетителям. Если налицо Виталий Лазаренко, – пущена в ход тема «Футуристы и цирк». Если пришел кто-нибудь из Камерного театра, – готов диспут о «Короле-Арлекине»...
Маяковский читал в заключение. Наспорившаяся, разгоряченная публика подтягивалась, становилась серьезной. Еще слышались смешки по углам. Маяковский оглядывал комнату:
– Чтоб было тихо... Чтобы тихо сидели. Как лютики...
На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы. Кепка, сдвинутая назад, козырек резко выдвинут надо лбом. Папироса шевелилась в зубах, он об нее прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами.
– Тише, котики, – дрессировал он собравшихся».
Это из воспоминаний Спасского, который не один вечер наблюдал такие сцены.
Начинает Маяковский главой из «Человека», сценой вознесения на небо. Начинает как обычный разговор, даже как-то пошучивая, улыбаясь при этом и пожимая плечами:
– Посмотрим, посмотрим.
...Важно живут ангелы, важно.
Один отделился,
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна – восторг!»
Снова прямой свидетель Спасский:
«И публика улыбается, ободренная шутками. Какой молодец Маяковский, какой простой и общительный человек, как с ним удобно и спокойно пройтись запросто по бутафорскому «зализанному» небу.
Но вдруг повеяло серьезностью. Рука Маяковского выдернута из кармана. Он водит ею перед лицом, как бы оглаживая невидимый шар. Голос словно вытягивается в длину, становясь протяженным, непрерывным. Крутое набегание ритма усиливает, округляет его. Накаты голоса выше и выше, они вбирают в себя всех слушателей. Это значительно, даже страшновато, пожалуй. Тут присутствуешь при напряженной работе. При чем-то, напоминающем по своей откровенности и простоте процессы природы. Тут же присутствуешь при явлении большего, ничем не заслоненного искусства. Слова шествуют в их незаменимой звучности... И слушатели, растревоженные, затронутые в самом своем личном, кат бывает всегда при встрече с подлинной поэтический правдой, тянутся, подчиненные Маяковским, благодарят его безудержной овацией».
Дальше он читает в зависимости от настроения: «Оду революции», отрывки из «Облака», заглядывая в записную книжку, читает только что написанное: «Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм». А иногда, под настроение, весело, с задором читаются стихи сатирические.
Выступления Маяковского проходят шумно и интересно. «Маяковский – блестящ и умея... – откликается «Театральная газета». – Он не возражает несчастным «одонтологам», забредшим в «Кафе поэтов», – ловким боксерским приемом он просто делает им knock-out – «отшибает им орган дыхания». У него четырехугольный рот, из которого вылетают не слова, а гремящие камни альпийского потока... Ему к ляпу бы властвовать над стихиями...»
Кроме «бывших», заглядывали сюда красногвардейцы из взвода охраны Ссудной казны, находившейся поблизости в Настасьинском же переулке, заглядывали и анархисты, обосновавшиеся по соседству на Малой Дмитровке, в здании бывшего Купеческого клуба.
У анархистов был свой и довольно роскошный ресторан в здании, погреба с вином, и сюда, как прежде к Яру, наезжали поужинать различные прожигатели жизни. Здесь устраивались махинации с награбленными драгоценностями. Когда анархистами наскучивало у себя, они наносили визиты в «Кафе поэтов», там было веселее, там можно было на людях покуражиться. Визиты эти иногда заканчивались скандалом. Один такой скандал с участием Маяковского описан в романе Льва Никулина «Московские зори».
В разгар вечера в «Кафе поэтов» пожаловали четыре анархиста во главе с вожаком, одетым в черную рубаху, сразу двинулись к эстраде. Вокруг них образовалась пустота, только красногвардейцы из взвода охраны Ссудной казни остались сидеть на своем месте. Один из анархистов, пьяный жирный мужчина во фраке, влез на эстраду, присел к фортепьяно и – воспользуемся страничкой романа Льва Никулина – прохрипел:
– Новые куплеты на злобу дня.
Ударил по клавишам и, кашляя, запел:
Мать послала сына Мишку,
Разудалого мальчишку,
Лет ему всего лишь пять, -
Раз за хлебом постоять...
Он подпрыгнул на стуле, забарабанил по клавишам...
Комиссаров нам не треба,
Дайте лучше с маслом хлеба.
Мишке минет двадцать лет,
Мишке скажут – хлеба нет! -
гримасничая и пришепетывая, пел мужчина во фраке.
– К черту его! Кто позволил этому типу здесь гадить?
Голос был такой силы, что головы повернулись к дверям.
На пороге стоял высокий, худощавый, стройный человек. Он был коротко острижен, но волосы чуть отросли и оттеняли высокий лоб, в углу большого рта торчала папироса, – от этого еще резче на лице выступила гримаса отвращения. Привлекательны были глаза: большие, с синеватыми белками, они горели гневом и точно светились.
– Что такое? – поднимаясь с места, сказал вожак. – Что такое?
И поднялась суета. Насмерть перепуганные господа и дамы протискивались к дверям... Жирный куплетист спрыгнул с эстрады и тоже метнулся к выходу. Человек, прогнавший куплетиста с эстрады, не торопясь продвигался вперед. Теперь в глазах его уже не было гнева, а скорее задумчивость. Не оглянувшись, он прошел мимо анархистов, и когда поднялся на эстраду, все загрохотало. Красноармейцы стучали прикладами о пол, потом стали оглушительно бить в ладоши. Он остановился у самого края, заложил за спину руки и стоял, расставив ноги, о чем-то задумавшись. Потом вынул изо рта папиросу, погасил ее о каблук и негромко сказал:
– Читаю «Революцию».
Вдруг пронзительно закричала женщина. Вожак анархистов вскочил на стол. В поднятой руке блеснула вороненая сталь. Но в то же мгновение край стола поднялся кверху, стол покосился, хрустнуло дерево, и вожак скатился на пол.
– Ах, вот как! – поднимаясь с пола, завизжал вожак и рванулся вперед, но его удержал рыжий детина в черкеске... Анархисты, огрызаясь, пробирались вдоль стены к выходу. В дверях случилось вроде свалки, двери открылись настежь, и уже на улице хлопнул револьверный выстрел.
– Читаю «Революцию».
И опять все повернулись к эстраде. Человек на эстраде стоял в той же позе, расставив ноги, чуть усмехаясь. Затем усмешка исчезла, и он сразу показался старше на несколько лет. Он начал негромко, сдерживая мощь своего огромного голоса:
Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и долог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.
Вступление звучало строго и торжественно, как эпическое повествование. А затем поэт просто и душевно, как бы обращаясь к каждому, кто его слушал, рассказывал, что было в февральские дни и ночи семнадцатого года. Ритм стиха часто и стремительно менялся, и от неожиданной смены его, от колдовской силы голоса люди вздрагивали и снова сидели оцепенев, превратившись в слух...»
Это не романная выдумка, а действительный факт. И хотя аудитория в «Кафе поэтов» стала меняться, среди посетителей появились матросы и красногвардейцы, Маяковский недолго оставался доволен своими выступлениями. Сначала он пишет в Петроград: «очень милое и веселое учреждение». А уж через месяц: «Живу как цыганский романс: днем валяюсь, ночью ласкаю ухо. Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек».
1 мая 1918 года Маяковский прощался с Москвой уже в кафе «Питтореск». Об этом извещала кричащая афиша:
«Только друзьям! Кафе Питтореск (Кузнецкий мост, 5). Среда, 1 мая нов. ст. Я, Владимир Маяковский, прощаюсь с Москвой 1) Я произнесу в честь друзей моих великолепную речь «Мой май». 2) Ольга Владимировна Гзовская прочтет мои стихи «Марш» и др. 3) Блестящие переводчики прочтут блестящие переводы моих блестящих стихов: французский, немецкий, болгарский. И наконец: 4) Я сам прочту стихи из всех моих книг: «Война и мир», «Облако в штанах», «Человек», «Простое как мычание», «Кофта фата». По окончании меня можно чествовать. Билеты (500) в кафе Питтореск от 3 до 7 час. вечера ежедневно и у меня (если встречусь). Билеты бесплатно. Начало в 7 1/2 вечера».
Что это – футуристический маскарад?
Не совсем. Маяковский говорил на этом вечере о революции, о роли поэта в революции, с гордостью сказал, что недавно впервые читал на заводе, и рабочие понимают его. Но публика – в основном состоящая из тех, кто не торопился принять революцию, – слушала поэта недоверчиво, настороженно.
В кафе была не та революционная аудитория, которую искал Маяковский. На призывы футуристов в их газете, на обращение Маяковского никто не откликается. Появившийся однажды в кафе Луначарский, прослушав выступления, покритиковал футуризм, и это тоже не прошло бесследно для Маяковского.
В метаниях, в поисках самого себя, в поисках творческого действия – Маяковский оказался в кино.
– Я никому и никогда не завидовал. Но мне хотелось бы сниматься для экрана, – сказал он однажды с эстрады. – Хорошо бы сделаться этаким Мозжухиным.
В кафе как раз присутствовало семейство Антик, владельцы кинофирмы «Нептун», обожавшие Маяковского. Отец семейства заметил:
– У него замечательная внешность для экрана. Он мог бы сделать блестящую карьеру.
На внешность Маяковского обращали внимание и актеры драматических театров. Но кроме «фактуры», было в нем еще что-то, что на сцене и на экране ценится не меньше, если не больше. Юрий Олеша увидел «необыкновенной силы и красоты глаза»... То же самое увидел Валентин Катаев: «прекрасные грозные глаза». И обаяние, огромная и притягательная сила, какое-то магнитное поле. Тот же Олеша: «Я был молод, когда познакомился с Маяковским, однако, любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским».
И Маяковский получил приглашение сниматься в кино.
Он сам написал сценарий – перекроил на русский лад лондоновского «Мартина Идена», сделав из главного героя этого романа футуриста. Маяковский любил этот роман. Видимо, поэтому Бурлюк часто называл молодого Маяковского то Мартином Иденом, то Джеком Лондоном. И может быть, еще потому, что Маяковскому, как и Лондону и его герою, приходилось с великим трудом пробивать себе путь в литературу.
Картина называлась «Не для денег родившийся», главным персонажем был поэт из народа Иван Нов. Его роль исполнял Маяковский.
И еще он сыграл главную роль в фильме «Барышня и хулиган».
О содержании первого из фильмов рассказали участники картины и зрители. Воспользуемся воспоминанием В. Шкловского. Вот что он рассказал о ленте «Не для денег родившийся».
«Иван Нов спасал брата прекрасной женщины.
Потом начиналась любовь к женщине. А женщина не любила бродягу. Тогда бродяга становится великим поэтом, он приходит в кафе футуристов... читает стихи Бурлюку. Он читает:
Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.
И, как тогда на бульваре Маяковскому, Бурлюк говорит Ивану Нову: «Да вы же гениальный поэт!»
И начиналась слава, и женщина приходила к поэту. Поэт в накидке и цилиндре. Он надевал цилиндр на скелет, покрывал накидкой и ставил это все рядом с открытым несгораемым шкафом.
Шкаф был набит гонорарным золотом до отвращения. Женщина подходила к скелету, говорила:
– Какая глупая шутка!
А поэт уходил. Он уходил на крышу и хотел броситься вниз.
Потом поэт играл револьвером, маленьким испанским браунингом, вероятно, тем самым, которым поставил точкой пулю.
Потом Иван Нов уходил по дороге».
Печать одобрительно отозвалась об актерских пробах Маяковского. В одной из газет говорилось, что он «обещает быть хорошим характерным актером».
Хотя Маяковский невысоко оценивал фильмы, в которых снимался («Сентиментальная заказная ерунда...» – вот его позднейший приговор), тем не менее и здесь, в кинематографе, проявилась еще одна сторона его художественной одаренности. Идея фильма «Не для денег родившийся» кладет трагический отблеск на судьбу самого Маяковского.
Кинематограф ненадолго увлек Маяковского. Хотя вполне возможно, что он иногда подумывал об актерской карьере. Ведь он позднее хотел сыграть Базарова, но Мейерхольд отказал ему...
В ноябре, то есть сразу после революции, на заседании Временного комитета уполномоченных Союза деятелей искусств, Маяковский заявил, что «нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт».
В конце ноября Владимир Владимирович активно выступает на заседаниях коллегии отдела изобразительных искусств Наркомпроса, в частности, по вопросу о журнале, о газете «Жизнь искусства». Здесь он делегируется на все организационные собрания по поводу создания литературного отдела. В это же время принимает участие в обсуждении издательской деятельности, работе художников в кинематографе, многих других вопросов. Ведет переговоры с Наркомпросом об организации издательства «Асис» (Ассоциации социалистического искусства).
Дело в том, что в отделе ИЗО оказались близкие Маяковскому художники – Татлин, Малевич, Альтман, Школьник. В Наркомпросе работали Пунин и Штеренберг. Это была довольно удобная позиция для представителей нового искусства в их борьбе со «стариками», и они пользовались этим, правда, не всегда успешно, ибо Луначарский, хоть и покровительствовал им, но сдерживал лихие наскоки на музеи, на классическое искусство (Малевич в статье «О музее» предлагал «сжечь все эпохи» и устроить «аптеку», в которой хранить пепел).
Не без участия и даже инициативы Луначарского, у которого в это время сложились особенно близкие отношения с Маяковским, Владимир Владимирович привлекался к деятельности Наркомпроса по разным линиям. Помимо отдела изобразительных искусств, театрального отдела, он приглашался заведовать литературным отделом журнала Наркомпроса, а в 1919 году некоторое время штатно работал сотрудником литературно-художественного подотдела Отдела изобразительных искусств Наркомпроса.
В этой разнообразной, но достаточно хаотичной деятельности Маяковский все-таки не нашел своего места.
И для Советской власти, для деятельности Наркомпроса тоже все было внове, шли поиски форм сотрудничества с художественной интеллигенцией, привлечения ее на свою сторону. Поиски шли по всем направлениям: как сохранить культурное наследие, как сделать его подлинно народным достоянием, то есть возбудить к нему хозяйский и в то же время зрительский, читательский, – художественный интерес народа; где, как и какие произведения литературы печатать; какой репертуар предложить театрам; какой должна быть современная живопись и скульптура, где и как ее демонстрировать...
Все эти вопросы вставали перед новой властью, когда она отражала яростное наступление контрреволюции, когда в стране уже занимался пожар гражданской войны. Антанта жерлами пушек ощерилась на молодую Республику Советов. Но и в этих условиях искусству и литературе, вопросам культурной политики уделялось внимание. Ленин и большевики смотрели вперед, они понимали, что нельзя строить новое общество, не готовя почву, не создавая одновременно новой, социалистической культуры, опирающейся на великие достижения культуры прошлого, на ее демократические традиции.
Ленинский принцип партийности литературы – уже в условиях победившей революции – приобретал, должен был приобрести более действенный характер. Большевики не могли не воспользоваться литературой и искусством как средством воздействия на массы. Это понимали и проницательные умы прошлого. Почти за сто лет до Октября, когда во Франции рухнула Реставрация, а «народ и поэты собрались шагать рядом», критик и исследователь литературы Сент-Бев писал: «литература отныне – часть общего дела, она готова бороться вместе со всеми...». Ленин в начале нашего века определил точно – часть «общепролетарского дела». Пролетариат в Октябре 1917 года взял власть в свои руки. Простая логика звала к действиям в этой области. Но как действовать – этого пока никто не знал. Формы практических действий, как и в других частях «общепролетарского дела», вырабатывались на ходу. Активное участие в формировании политики партии в практике культурного строительства принимали такие выдающиеся соратники Ленина, как Луначарский, Крупская, Фрунзе, Бубнов и другие.
Организационно вопросами культуры занимался Народный комиссариат до просвещению, который возглавил А. В. Луначарский, человек разносторонне одаренный, энциклопедически образованный, увлекающийся. И его личные качества тоже сыграли немалую роль в привлечении художественной интеллигенции на сторону революции.
Луначарский активнейшим образом, и не усилиями только аппарата Наркомпроса, а лично включается в жизнь искусства, неоднократно выступает по поводу Пролеткульта, внося коррективы в его деятельность, о репертуаре театров, о футуристах, пишет предисловия к пьесам, обозрения театральных постановок, участвует в диспутах, присутствует на чтении новых пьес, на поэтических вечерах...
Пафос деятельности Луначарского, поддержанной В. И. Лениным, состоял в том, чтобы приблизить искусство и литературу к политике партии, привлечь на свою сторону, заразить революционными идеями ту часть художественной интеллигенции, которая колебалась и не находила себе места в борьбе народных масс за переустройство общества, чтобы помочь созданию молодой, нарождающейся социалистической культуры.
Два таких человека, как Маяковский и Луначарский, просто не могли не встретиться в первые же послереволюционные – даже не годы – месяцы, и они встретились, сблизились, сотрудничали, расходились, спорили и снова сближались. Это были отношения истинно творческих людей.
Стремительное развитие революции ставило перед всем обществом такие задачи, которые нам сейчас, с высоты исторического времени, кажутся простыми, а тогда, в пылу перемен, когда многих захватила стихия разрушения, даже вопрос о культурном наследии, об отношении к нему вызывал резкую полемику. Кстати говоря, именно этот вопрос, точнее, разный подход к его решению, а также претензии футуристов выступать в искусстве от лица власти, вызвал первое охлаждение в отношениях между Маяковским и Луначарским.
Отдел изобразительных искусств Наркомпроса выпускал еженедельную газету «Искусство коммуны», где, как уже говорилось, видную роль играли футуристы. Встревоженный позицией газеты по отношению к культурному наследию прошлого, Луначарский публикует в ней статью «Ложка противоядия», в которой говорит о том, что определенная «школа» (футуристы) не выражает позиции государственной власти. «Разрушительные наклонности» по отношению к культуре прошлого он усмотрел и в стихотворении Маяковского «Радоваться рано».
Луначарского не могли не смущать амбиции футуристов, поддерживаемые Маяковским. Попытка присвоить право считаться «государственным» искусством, то есть каким-то образом монополизировать деятельность в сфере литературы, живописи, театра и музыки, диктовать свои условия, свое эстетическое законодательство вызвали отповедь Луначарского. Полемика на этом не прекратилась.
Обнаружились сложности и творческого порядка. «Стихов не пишу, хотя и хочется... написать что-нибудь прочувственное про лошадь», – сообщает Маяковский в одном из писем. В 1918 году он действительно написал менее десятка стихотворений, но среди них: «Хорошее отношение к лошадям», – одно из самых проникновенных в лирике поэта, приоткрывающих глубину его сострадания к боли, любви ко всему живому на земле; «Ода революции» – слава ей («о, четырежды славься, благословенная!-»); «Приказ по армии искусства» – программное («Улицы – наши кисти. Площади – наши палитры») и самое знаменитое – «Левый марш».
Ситуация в это время создалась такая, что футуристы оказались под перекрестным огнем ожесточенной критики, и этому немало способствовало их назойливое представление себя как единственных создателей «государственного искусства». Всякие иные притязания отвергались с порога. «Лишь футуристическое искусство есть в настоящее время искусство пролетариата», – писал Н. Альтман.
Единства среди футуристов, однако, не было. Часть из них (кубофутуристы) стояли за автономию искусства (естественно – футуристического), другая часть, в основном левые художники и теоретики, занявшие руководящие должности в отделе ИЗО Наркомироса, пыталась организационно вести дело так, чтобы на практике осуществить тезис: «Футуризм – государственное искусство» (Н. Пунин). Но и этого мало, тот же Н. Пунин, занимавший пост товарища председателя коллегии ИЗО, характеризовал футуризм как особое мировоззрение, утверждая, что он «есть поправка к коммунизму», пытался представить его впереди коммунизма.
Столь непомерные амбиции вызвали справедливую критику и со стороны пролеткультовцев, и со стороны независимых критиков. Для критиков из враждебного лагеря футуризм был прекрасным поводом для идеологического поношения Советской власти.
Самым решительным и в чем-то последовательным противником, соперником футуризма выступал Пролеткульт. Эта массовая организация в первые годы Советской власти собрала под свои знамена до полумиллиона участников самодеятельных кружков, студий, клубов и т. д. Разумеется, масса людей, обнаружившая тягу к искусству, к творчеству, в подавляющем большинстве не осознавала мелкобуржуазных «теорий» руководителей движения (А. А. Богданова и других), нигилистически отвергавших культурное наследие, выдвигавших лозунг создания «чисто пролетарской» культуры.
Критика футуризма пролеткультовцами подогревалась их собственными намерениями главенствовать в создании новой культуры и решительным неприятием футуристического самодовлеющего формотворчества. С этих позиций в их критике футуризма было немала вполне разумных аргументов. Уязвимой же была эта критика в двух моментах: в положительной программе, опиравшейся на пролеткультовские догмы, и в конкретной оценке творчества наиболее талантливых деятелей левого искусства, в первую очередь Маяковского. Устраивая футуристам вселенскую смазь, поэт И. Садофьев, например, всех их называл «примазавшимися к революции».







