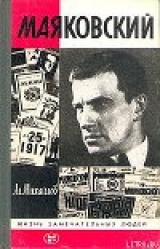
Текст книги "Маяковский"
Автор книги: Александр Михайлов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
В Париже Маяковский-художник проявил исключительную энергию. Живопись не требует знания языка, она доступна глазу. Почему, например, он не рискует подробно говорить о французской литературе? Да потому, что он знает то, что хорошо известно в России по переводам. Кроме классики, это крупнейшие представители современной литературы – Франс, Барбюс, Роллан.
Но и внутрилитературная жизнь Парижа закрыта перед ним. Маяковскому хочется увидеть Анатоля Франса, Анри Барбюса. Франс в это время оказывается в Туре, Барбюс – в Петрограде. Ему называют Марселя Пруста («Париж любит стиль, любит чистую, в крайности – психологическую литературу. Марсель Пруст – французский Достоевский...»). Но к Прусту удалось попасть только на похороны, собравшие весь художественный и официальный Париж.
Маяковского представили Жану Кокто, моднейшему в то время писателю Франции, человеку весьма остроумному и достаточно самоуверенному. Возможно, что встречу с Кокто устроил театральный деятель Дягилев который еще в предвоенное время ставил балет «Парад» по его либретто, на музыку Э. Сати, в декорациях П. Пикассо. Поэтическому творчеству Кокто близки были тенденции кубофутуризма и дадаизма, разговор между ним и Маяковским шел о литературных направлениях, о школах и группировках. Переводчиком был Стравинский. О литературной жизни Парижа из одной беседы Маяковский ничего не узнал.
Маяковского-драматурга, Маяковского-актера влекло в театры Парижа. Здесь тоже удалось меньше, чем в живописи. Незнание французского языка затрудняло это знакомство, но некоторые общие наблюдения Маяковского в театральной жизни Парижа не лишены интереса.
Хоть Париж и гордился своей «Комеди Франсез», «Гранд-опера», театром Сары Бернар, но, учитывая, как говорит Маяковский, что «драма и, конечно, опера и балет России несравненно и сейчас выше Парижа», и что сами парижане предпочитают смотреть увеселительные, дразнящие воображение ревю-обозрения, именно на них и обратил поэт свое внимание. В течение года и даже больше такое представление ежедневно собирает полный театральный зал, и ежедневно этот зал захлебывается от восторга, проявляя пылкий, истинно французский темперамент. Здесь не надо ни над чем ломать голову, здесь просто необходимо отдаваться впечатлениям, наслаждаться, испытывать острые ощущения...
Маяковский побывал в трех таких театрах, и этого в общем-то достаточно, чтобы составить представление о вкусах публики, даже учитывая ее некоторое разнообразие: например, вкус махрового буржуа (театр Майоль) – представление с постепенным сведением на нет «количества одежи», с русским гопаком и призывом в конце есть, пить и любить на Монмартре; «разноцветный вкус» театра Альгамбра, где объединились благородный партер и блузная галерка, противоположно реагирующие на политические оттенки обозрения; «серый вкус» – ревю Фоли-Бержер, «театра мещан» – называет его Маяковский, некое смешение стилей и вкусов двух первых, восторг публики вызывает вид собственного быта, собственной жизни.
На концерты и музыкальные вечера Маяковский не рвался, с музыкой у него были «древние контры». После посещения фабрики пианол Плевель и композитора Стравинского, после исполнения Стравинским некоторых своих вещей («Соловей», «Марш», «Испанский этюд», «Свадебка» и других), Маяковский не был потрясен. Ему ближе «дозаграничный» Прокофьев, с которым Маяковский встречался, которого предпочитал остальным, автор «стремительных, грубых маршей». Но он тут же делает оговорку: «Не берусь судить». Не под влиянием ли ленинской оценки «Прозаседавшихся» у категоричного и безапелляционного Маяковского появляется эта осторожность, уклончивость в суждениях об искусстве?..
С радостью замечает Маяковский здесь, в Париже, как в последнее время изменилось отношение к советским русским. «Красная паспортная книжечка РСФСР – достопримечательность, с которой можно прожить недели две, не иметь никаких иных достоинств и все же оставаться душой общества, вечно показывая только эту книжечку».
Немаловажное обстоятельство. Особенно если учесть, что при этом падает «уважение» к белогвардейской эмиграции, в которой Маяковский указывает на самых злобных ее представителей – Мережковского, Гиппиус и других, приводит несколько примеров, показывающих, как низко пал престиж эмиграции, как выродилась она нравственно.
Особый случай – с Мариной Цветаевой. С нею он встретился в Париже в один из более поздних приездов туда, и встреча эта имела – для Цветаевой – далеко идущие последствия.
Маяковский не очень жаловал Цветаеву, как поэта (хотя книга «Версты» ему понравилась), может быть, из-за эмигрантского статуса не желая вникать в творчество этой очень близкой ему по темпераменту, по натуре, по строю души поэтессы. Она же поняла, приняла и полюбила его сразу и безоговорочно.
Парижская встреча эхом откликнулась другой встрече, их последней встрече на родине, в апреле 1922 года, когда Цветаева собралась уезжать к обнаружившемуся в Праге, после двухлетней безвестности, мужу. Про ту встречу вспоминает Цветаева в парижской газете «Евразия», в открытом письме Маяковскому после его выступления 7 ноября 1928 года в кафе Вольтер:
«28 апреля 1922 года накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.
– Ну-с, Маяковский, что передать от вас Европе?
– Что правда – здесь».
Прервем этот газетный отклик, чтобы дать слово А. С. Эфрон, дочери Цветаевой, домыслившей содержание короткого эпизода. Маяковский, «усмехнувшись, пожал Марине руку и – зашагал дальше.
А она смотрела ему вслед и думала, что, оглянись он и крикни: «Да полно вам, Цветаева, бросьте, не уезжайте!» – она осталась бы и, как зачарованная, зашагала бы за ним, с ним.
Эта Маринина мысль вдогонку Маяковскому может быть сочтена «поэтической вольностью», романтическим всплеском и полнейшей несбыточностью, но – и потаенной глубинной правдой. Ведь отъездом своим она перебарывала ту половину себя, что навсегда оставалась в России, с Россией».
Как мы хотим очистить, обелить любимых нами людей из прошлого, если они в своей жизни делали какие-то опрометчивые шаги, совершая роковые поступки! Мы придумываем для них иные варианты, которые как будто опровергают ошибки, показывают их случайность, нелогичность... Но что было, того уж не исправить. Великий человек велик не только на горе, но и в яме.
Эмиграция стала трагедией для Цветаевой, душой она – и тут, конечно, права ее дочь – всегда оставалась в России, с Россией.
А вот что дальше говорится в ее письме-отклике на выступление Маяковского:
«7 ноября 1928 г. поздним вечером, выходя из Cafe Voltaire, я на вопрос:
– Что же скажете о России после чтения Маяковского? – не задумываясь ответила:
– Что сила – там».
Чем это для нее кончилось, можно узнать из письма Цветаевой от 3 декабря 1928 года.
«Дорогой Маяковский!
Знаете, чем кончилось мое приветствование Вас в «Евразии»? Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали – да и то стихи – 10-12 лет назад! (Нотабене. Последние новости!)
«Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию...»
Вот Вам Милюков – вот Вам Я – вот Вам Вы.
Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить.
До свидания! Люблю Вас.
Марина Цветаева».
Была еще одна встреча двух поэтов. По свидетельству А. С. Эфрон, весной 1929 года Маяковский по просьбе коммунистов выступал перед рабочими в маленьком кафе. Один из организаторов вечера пригласил в кафе Цветаеву и ее мужа С. Эфрона. Марина подошла к Маяковскому, познакомила его с мужем.
– Слушайте, Цветаева, – сказал Маяковский, – тут – сплошь французы. Переводить – будете? А то не поймут ни черта!
Марина согласилась... Маяковский называл стихотворения, в двух словах излагал содержание, она – переводила. Он – читал.
И конечно – вопросы и ответы.
Ни предыдущая, ни эта, последняя, встречи не примирили Маяковского с Цветаевой, его отношение к эмиграции не знало оттенков: кто не с нами, тот против нас. Цветаева, уже в 1932 году, написала блестящую статью «Эпос и лирика современной России», где наряду с дискуссионными местами содержится много проницательных суждений о Маяковском и где выражено искреннее восхищение его творчеством.
Цветаева же с ее проницательным умом высказывает мысль о родстве Маяковского и Пушкина: «Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда по существу и не расходились. Враждуют низы, горы – сходятся». Надо ли говорить, как сама Цветаева хотела «сойтись» с Маяковским...
И еще один остроумный пассаж Цветаевой: «С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую – не знал, он раскрыл рот и сказал: «Я!» Его спросили: «Кто – я?» Он ответил: «Я: Владимир Маяковский». – «А Владимир Маяковский – кто?» – «Я!» И больше пока ничего. А дальше, потом, – все».
Теперь вернемся к парижским впечатлениям. Маяковский рассказывает о них в очерках, рассказывает с юмором, с улыбкой, не желая преступать грань очеркового жанра, свободного повествования и переходить на язык деловой публицистики, но и не притушевывает значительности того, о чем говорит. Да и вообще это было в стиле Маяковского – шутил он с самым серьезным видом, без улыбки, а о серьезных вещах часто говорил шутливо-иронически, не отпуская внимания слушающих или читающих.
Судя по всему, визит Маяковского в Париж и Берлин не прошел бесследно и для тех, с кем он встречался. Художник Ларионов писал поэту, вспоминая банкет, устроенный в его честь русскими и французскими художниками и редакцией журнала «Удар», что в Париже «идут разговоры о вечере и прочитанных стихах – Маяковский на втором слове».
Для Маяковского эта заграничная поездка имела огромное значение. Она хотя бы слегка приоткрыла перед ним западный мир, западное искусство и дала возможность сравнивать их с тем, что в это время происходило и делалось в Советской стране. Знакомства с деятелями искусств, с интеллигенцией выявили большой интерес к Стране Советов, к ее жизни, к ее искусству, и это укрепило в Маяковском веру в историческую правоту революции. И поэт впервые испробовал свой дар на «инородном» материале и в новом для себя жанре очерка.
Знакомство с жизнью Германии и Франции прибавило политической остроты взгляду Маяковского-поэта и обогатило его впечатлениями и материалом для создания «Маяковской галереи» – серии памфлетов на политических деятелей европейских стран, в которую вошли Пуанкаре, Муссолини, Керзон, Пилсудский, Стиннес, Вандервельде, Гомперс. Публицистический и сатирический дар Маяковского, его темперамент бойца, его полная безоглядная отдача злобе дня породили это весьма своеобразное явление, в котором решались не только политические, пропагандистские задачи, но и задачи поэтические. Создание сатирического памфлета-портрета требовало как раз соединения в поэтическом слове, в образе всех перечисленных качеств. Творческий итог оправдывал поездку, и в мае 1923 года начинаются хлопоты о новой заграничной поездке. Командировку дает Наркомпрос, Луначарский пишет в Наркоминдел о целях поездки Маяковского: «Они целесообразны с точки зрения... поднятия культурного престижа нашего за границей. Но так как лица, приезжающие из России, да притом еще с репутацией, подобной репутации Маяковского, натыкаются иногда за границей на разные неприятности, то я, ввиду всего вышеизложенного, прошу Вас снабдить Маяковского служебным паспортом».
Вопрос этот решился не сразу. В политической жизни произошли события, которые всколыхнули не только нашу страну, они заставили о себе говорить весь мир. В Лозанне 10 мая 1923 года был убит советский дипломат В. В. Воровский, а за день до убийства последовал провокационный ультиматум английского министра иностранных дел Керзона Советскому Союзу, угрожавший разрывом советско-английского торгового соглашения. По всей стране прошли многолюдные манифестации. И вот тут-то Маяковский вполне проявил свой общественный темперамент, тут он, естественно, не мог усидеть дома, не выйти вместе со всеми на улицу, не откликнуться на это событие стихом, гневным словом.
Он выступает на митингах около Большого театра, на Советской площади. «Правда», «Рабочая газета», «Рабочая Москва» сообщают о выступлениях поэта на митингах протеста.
«Силу гнева русского пролетариата против мировой буржуазии и фашизма сумел впитать в себя поэт Маяковский. Сильным, мощным голосом, раздававшимся во всю площадь, он прочел свое стихотворение «Коммуне не быть под Антантой».
Вся площадь вторила ему: «Коммуне не быть под Антантой! Левой, левой, левой!» – так писала о его выступлении «Рабочая газета».
Позднее Маяковский признавался Всеволоду Пудовкину, какое огромное волнение он испытывал, выступая перед многотысячной толпой. Это волнение передавалось и людям на площади и выливалось в «ревущее тысячеголосое «Левой!» («Правда»). Выступал пламенный трибун, поэт – человек, способный зажечь сердца тысяч людей и повести их за собой.
А в печати вскоре появляется стихотворение «Воровский» (первое название – «Сегодня») – с ним Маяковский выступил на траурном митинге памяти советского дипломата на площади Свердлова; стихотворения «Керзон» и «О том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона». В связи с публикацией стихов о Керзоне одна английская газета призывала привлечь Маяковского и журнал «Красная новь» к ответу за якобы клевету на английского министра.
Поездка поэта за границу, о которой хлопотал Луначарский, состоялась летом и в начале осени. 3 июля 1923 года он вылетел на аэроплане из Москвы в Кенигсберг вместе с Бриками. Сначала, около трех недель, Маяковский отдыхал во Фленцбурге, а затем, весь август – в Нордернее, на побережье Северного моря. Отдыхал и в то же время готовил для берлинского издательства «Накануне» сборник стихов «Вещи этого года (до 1 августа 1923 г.)», написал к нему предисловие, написал стихотворение «Нордерней». Позднее написано стихотворение «Москва – Кенигсберг».
Стихи не очень «шли». Может быть, сказывалась усталость, может быть, шло «накопление». По возвращении в Москву он пишет рекламные тексты для ГУМа, а с октября 1923 года и на длительное время – для Моссельпрома. Тем не менее в декабре Луначарский снова «снаряжает» Маяковского в командировку, и снова в Берлин. Состоялась она в апреле 1924 года. Маяковский едет с замыслом уже за границей хлопотать визу для поездки в США. Берлинская газета «Накануне» так и информировала читателей: «Проездом в Америку прибыл вчера в Берлин Владимир Маяковский». В этом же году Маяковский еще раз возобновлял попытку получить визу на въезд в США, будучи во Франции, и снова его попытка не увенчалась успехом.
Маяковский, однако, во время пребывания в Берлине не теряет времени попусту, он выступает в русских аудиториях, посещает редакцию журнала «Рабочая литература».
После первой встречи – с писателями, художниками и артистами, – где тоже были и немцы, Маяковский оставил по себе прекрасные воспоминания.
Вторая встреча имела обширную программу – это и разговор о новом течении в советской литературе Лефе (Левом фронте искусств), это и последние стихи, прочитанные поэтом, и отдельно выделенная сатира. Но вечер, по воспоминаниям одного из присутствовавших на нем, начался не совсем обычно. Маяковский начал свое выступление словами: «Прежде чем нападать на Советский Союз, надо вам послушать, как у нас пишут. Так вот – слушайте». И он превосходно прочел рассказ Бабеля «Соль».
Газета «Накануне» по достоинству оценила прочитанные поэтом стихи, написав, что они «скованы из стали в горниле русской революции», что поэт Маяковский – «большой талант, и его эволюцию от сданного им в архив желтокофточного футуризма к поэзии «Леф» никоим образом не поставишь ему в упрек». Что же касается Лефа, то, по сообщению той же газеты, Маяковский характеризовал его программу как стремление «идти рука об руку с мозолистыми руками рабочего», «укреплять в нем бодрость, веру в правоту Октября», наконец, что он и «сам старается слиться с созидающей работой, к которой зовет сегодняшний новый день Россию...».
Европейские маршруты, выступления Маяковского в западных столицах каким-то эхом отозвались и на Востоке. Ему предложили стать почетным членом «Ничиро – Соофукай» – Общества русско-японской взаимной помощи, несколько высокопарно по-японски называвшееся – «Краеугольный камень, соединяющий обе нации».
Поэт живо откликнулся на это предложение, но ему не удалось ни побывать в Японии, ни каким-то иным способом ближе познакомиться с японской культурой, и, как человек, помнящий о всех обязательствах и полуобязательствах, он потом, перечисляя свои «долги», вспомнит и про «вишни Японии», про которые «не успел написать».
Последней «заграницей» Маяковского перед самой длительной и самой богатой впечатлениями поездкой в Соединенные Штаты в 1925 году была еще одна поездка в Париж.
Такова уж слава этого города, что в каком бы состоянии ни была его артистическая, литературная жизнь, в ней все равно ищут некую новизну, изюминку, ищут то, чего нет нигде. По всей видимости, и в этот приезд в Париж у Маяковского была надежда увидеть здесь что-то новое, интересное и творчески перспективное, революционное в искусстве, но, увы, и на этот раз его ждало разочарование. Наверняка со слов Маяковского, который любил гиперболу, журнал «30 дней» написал: «А в Париже Маяковский чувствовал себя, как в глухом захолустье».
Однако гипербола «захолустье» могла быть вызвана и тем приемом, который советскому поэту оказала парижская полиция. Через несколько дней после приезда он получил из префектуры предложение покинуть Париж. Вместе со своей старой знакомой, Эльзой Триоле (младшей сестрой Л. Ю. Брик), которая жила в Париже и которая рассказала об этом инциденте, Маяковский идет в префектуру. В поисках какого-то важного чиновника он бродит по длинным заплеванным коридорам префектуры, производя страшный шум стальными набойками каблуков и тростью, которая цепляется за стены двери и стулья. Важный чиновник очень раздражителен, он привстает за столом, чтобы громким и яростным голосом убедительнее сказать о том, что господин Маяковский должен покинуть Париж в 24 часа.
Триоле объясняет чиновнику, что Маяковский не особенно опасен, потому что не говорит ни слова по-французски...
Лицо Маяковского, которому Эльза перевела свой разговор с чиновником, вдруг просветлело, он доверчиво посмотрел на раздражительного господина и произнес густым и невинным голосом:
– Jambon1010
Ветчина (фр.)
[Закрыть].
Господин перестал кричать, взглянул на Маяковского, улыбнулся и сказал:
– На сколько времени вы хотите визу?
Вопрос решило обаяние Маяковского и, очевидно, также чувство юмора, с которым он, по воспоминаниям Триоле, вышел из положения.
В письмах из Парижа Маяковский пишет, что ничего не делает (лишь в конце пребывания: «опять тянет на стихи – лирик!»), тем не менее все это время перед ним мелькает калейдоскоп лиц, выставок, картин... Он видел за это время «несчетное количество людей искусства, видел и самый Париж, с лица и изнанки...» (Триоле).
И все же какая-то ненаполненность ощущений, какой-то автоматизм, протокольный оттенок в визитах, встречах, даже в интервью. Маяковский был заряжен на поездку в Америку, и вот эта целеустремленность, разбивавшаяся о стену неясностей и проволочек, гасила другие желания, ослабляла присущую ему жизнедеятельность.
«Я уже неделю в Париже, – сообщает он в Москву, – но не писал потому, что ничего о себе не знаю – в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что разрешили обосноваться две недели (хлопочу о дальнейшем), а ехать ли мне в Мексику, – не знаю, так как это, кажется, бесполезно. Пробую опять снестись с Америкой для поездки в Нью-Йорк...»
И тут же: «Ужасно хочется в Москву», «...до чего же мне не хочется ездить, а тянет обратно читать свои ферзы!» (Стихи – нем.). И еще позднее, в стихах: «Но нож и Париж, и Брюссель, и Льеж – тому, кто, как я, обрусели».
Общее, наверное, это чувство для всех русских (да и только ли русских!) – уже через несколько дней самого увлекательного путешествия вдруг ощутить тоску по дому, по близким, по России, и прочувствовать это блаженство, испытанное нашими близкими и далекими предками и выраженное в прекрасном поэтическом афоризме, ставшем пословицей: «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». Маяковскому было хорошо знакомо это чувство, он не раз выражал его в стихах и в прозе.
И острее всего – в стихах о загранице. Где еще, в другом месте, у Маяковского, убежденного урбаниста, встретишь такие вот традиционно русские, щемяще ностальгические стихи, как эти:
Сейчас бы
в сани
с ногами -
в снегу,
как в газетном листе б...
свисти,
заноси снегами
меня,
прихерсонская степь...
Вечер,
поле,
огоньки,
дальняя дорога, -
сердце рвется от тоски,
а в груди -
тревога.
Хорошо про них сказал Ст. Лесневский: «Тут вспоминается многое: и пушкинские снега, и лермонтовские «дрожащие огни печальных деревень»... И конечно, Блок: «И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет в дали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика!..» Говоря словами Маяковского, это – «единой лирики лента».
Заботят поэта свои дела в Москве. Вот он и раздваивается, просит в письмах успокоить редакцию журнала, которой задолжал, сообщить, что по приезде напишет для него обещанное, волнуется по поводу выхода лефовского журнала настолько, что готов тут же прервать поездку («Если для Лефа нужно, я немедленно вернусь в Москву и не поеду ни в какие Америки»). И еще: «Сижу в Париже, так как мне обещали в две недели дать ответ об американской визе. Хоть бы не дали, тогда я в ту же секунду выеду в Москву, погашу авансы и года три не буду никуда рыпаться...»
Маяковский все-таки не проявляет такого жадного интереса к артистической, художественной жизни и к быту Парижа, как в первый раз. «Здесь мне очень надоело», – пишет он через месяц пребывания в Париже.
В интервью, которое дал Маяковский газете «Ле нувель литерер», он сетует на недостаточно высокий уровень литературных связей между Россией и Францией за последние десять лет. Хотя, как это и до сих пор продолжается, в России о новейшей французской литературе знают гораздо больше, чем во Франции о русской. Маяковский предложил издавать популярную литературу: по-русски – о Франции, по-французски – о России, основать газету или журнал, где представители двух стран смогли бы обмениваться статьями по вопросам искусства и современности.
В другой газете интервьюер передает слова Маяковского о том, что Россия в настоящее время переживает эпоху литературного возрождения, что поэзия значительно расширила сферу своего воздействия, она трактует о самых важных вопросах, и сами массы призваны судить о ее достоинствах, так как стихи теперь читаются перед огромными толпами народа.
Два события во время этого визита в Париж произвели впечатление на Маяковского – это перенесение праха Жана Жореса в Пантеон и торжественное поднятие флага на здании Полпредства СССР во Франции.
Второе из этих событий имело большой международный отклик. 4 декабря 1924 года во Францию прибыл первый советский посол Л. Б. Красин. Приезд его привлек внимание парижской прессы, и Маяковский едва пробился сквозь толпу фотокорреспондентов и репортеров, чтобы попасть во двор посольства. А 14 декабря состоялось торжественное поднятие флага над зданием Полпредства на рю Гренель. Для Маяковского, поэта и гражданина Советского Союза, это был момент торжества, праздник души.
Перенесение праха Жореса в Пантеон вылилось в массовую демонстрацию. Видный политический деятель предвоенной Франции, социалист, блестящий оратор, страстный борец против колониализма и милитаризма Жан Жорес был убит 31 июля 1914 года, а его убийца, французский шовинист, был оправдан буржуазным судом.
Популярность Жореса в народных массах была огромна, и французское правительство, церемонией перенесения егопраха в Пантеон – место погребения останков выдающихся деятелей Франции – решило нажить себе политический капитал, «спекульнуть на Жоресе», как скажет потом Маяковский. Во время шествия к Пантеону поэт слышал выкрики, которые ему переводила Эльза Триоле – об этом есть строки в стихотворении Маяковского.
Стихотворение «Жорес», написанное в Москве, уже по возвращении из Франции, подтверждает, что Маяковский хорошо понял и политическую подоплеку этого события, и настроения демократических масс, участвовавших в церемонии. С ними, французскими «блузниками», с французским рабочим классом выражает свою солидарность поэт в этом стихотворении.
В стихах парижского цикла Маяковский то и дело обращается к «домашним» делам (так же как и в письмах). К тому же ведь стихи эти были написаны уже в Москве, когда текущие литературные дела и литературные споры снова захватили поэта. И он включается во внутреннюю полемику стихотворениями «Город», «Верлен и Сезан», в какой-то мере стихотворениями «Notre-Dame» и «Версаль»...
И опять неожиданность: именно в стихотворении о Париже («Город») пронзает чувство поэтического одиночества, оторванности от поэтических «тылов» в таких хорошо известных строках:
Мне скучно
здесь
одному
впереди, -
поэту
не надо многого, -
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Нет, стихотворение не об этом, оно – о Париже, даже о двух Парижах: о Париже «адвокатов, казарм» и о Париже «без казарм и без Эррио1111
Видный французский политический деятель, в 1924 году возглавлял правительство страны.
[Закрыть]».
Впрочем, сказано об этом как-то информативно, вроде лишь для того, чтобы выразить симпатию ко второму из них. И городской пейзаж, и красота Place de la Concorde, видимо, не вдохновили на этот раз Маяковского. Он весь где-то в «домашних» делах, в спорах, в обиде на нелепый ярлык «попутчика», которой навесили на него литературные недруги.
В стихотворении «Верлен и Сезан» промелькнул отголосок литературных споров и разговоров в Париже. Но тут же, и уж точно перед своими доморощенными идеологами искусства, видимо, продолжая какой-то спор, Маяковский отстаивает право поэта на свое «лицо», на творческую индивидуальность: «Поймите ж – лицо у меня одно – оно лицо, а не флюгер».
Это «уточнение» опровергает представление о Маяковском как о некоем высокой квалификации мастере, хотя и могущем возгораться, но более приспособленном выполнять заказы. Ложное представление. Все написанное Маяковским – от пылающих строк любви в поэме «Облако в штанах» до рекламы сосок – написано по велению души. Маяковский глубоко переживает и любовную драму, и конкуренцию государственной торговли с торговлей нэпманов.
Но нельзя ставить знак равенства между этими переживаниями. У поэзии всегда были и есть свои предпочтения, есть традиционно поэтические, вечные темы, но были и есть преходящие. Каждый поэт живет в своем времени, и оно, это время, кладет печать на его творчество, и потомки узнают о времени по стихам поэта (Маяковский предупреждал: «Я сам расскажу о времени и о себе»). Излишним полемическим подчеркиванием своей приверженности злобе дня, мостовой на Мясницкой (он, например, доказывал Луначарскому, что самое великое призвание современного поэта – в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице), он укреплял позиции Лефа и, конечно, давал повод даже любившему его Луначарскому для упреков в утилитаризме, в принижении поэзии.
...Первые поездки за границу не вызвали большого желания к устным отчетам. Видимо, Маяковский считал, что убедительнее и полнее он это может сделать в очерках. В стихах, кроме обширной, щедрой красками, картины жизни на Западе, выкристаллизовалось, осветилось, по-новому проявилось патриотическое чувство. Как не понять его!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли -
М о с к в а.







