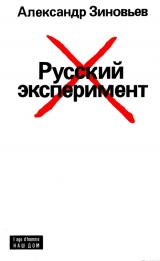
Текст книги "Русский эксперимент"
Автор книги: Александр Зиновьев
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
Брежневистский тип политической системы отличается от сталинистского тем (среди прочих признаков), что в нем стержнем государственной власти становится партийный аппарат, высшее руководство стремится действовать в рамках партийно-государственных норм и законодательно утверждаемых планов, причем – с учетом возможностей страны и конкретных условий. То, что это далеко не всегда удавалось и имели место отклонения от норм, не влияет на сам тип власти. Сталинистский тип власти был коммунистической диктатурой, брежневистский – демократией. Десталинизация страны после смерти Сталина означала переход к брежневистскому типу, который стал альтернативой сталинистскому.
Надо различать сталинизм как явление конкретно-историческое, сыгравшее свою историческую роль, изжившее себя и неповторимое, с одной стороны, и сталинистский тип системы власти и управления обществом, с другой стороны. Первый неповторим, второй же включает в себя лишь некоторые черты первого (основные из них я назвал выше) и может повторяться во многих экземплярах, как это имело место на самом деле. Горбачевизм был попыткой установить именно такой тип власти, а не реставрировать сталинизм в первом смысле. Для такого поворота в умонастроениях части советского руководства и масс людей были, естественно, достаточно серьезные основания. Достаточно напомнить о том, что инициаторы поворота начали свою карьеру еще в сталинские годы как комсомольские и партийные функционеры, прошли школу сталинистского волюнтаризма и преуспели как карьеристы в партийно-государственном аппарате, сформировавшемся в составе сталинской системы власти и управления. Партийный аппарат, сконцентрировавший в себе разум и «инстинкт» самосохранения общества, уже в хрущевские годы стал препятствием для реформаторского авантюризма, и горбачевцы понимали это. Они не понимали главное: что разрушение и даже ослабление этого аппарата в новых условиях должно было привести к краху всей государственности.
Горбачевизм начался как стремление насильственно навязать стране сверху (по инициативе ЦК КПСС, как постоянно подчеркивал сам Горбачев) реформы и создать для этого аппарат сверхвласти вне партийного аппарата и над ним, т.е. практически ослабив партийный аппарат, подчинив его личной власти нового вождя. В пропаганде, однако, это изобразили как борьбу против сталинизма и «застоя». Тем самым маскировалась суть перестройки, завоевывалось одобрение советских людей и похвалы со стороны Запада. Что получилось на деле, это уже не зависело от первоначальных намерений.
Повторяю и подчеркиваю, все преобразования высших органов власти, происходившие по инициативе Горбачева, вели в одном направлении – в направлении создания аппарата сверхвласти, находящегося вне партийного аппарата и подчиняющего его себе. Самыми значительными шагами в этом направлений были, во-первых, создание президентской системы правления и, во-вторых, исключение из конституции пункта о руководящей роли КПСС, низведение КПСС до статуса просто партии, допущение других политических партий (многопартийности) и лишение КПСС монополии на власть. Это произошло на чрезвычайном съезде народных депутатов в марте 1990 года.
В июле 1990 года состоялся 28 съезд КПСС. На нем консерваторам во главе с Лигачевым было нанесено окончательное поражение, они были выброшены из руководства партией. Путь к реализации амбиций Горбачева, казалось, был расчищен. Но новая организация органов власти, удовлетворив амбиции Горбачева в отношении его личного положения в них, оказалась непригодной для задуманных преобразований и вообще для управления страной нормальным образом. Получилась аморфная структура власти, заполненная к тому же дилетантами. Дабы компенсировать слабость новой власти, начались бесконечные горбачевские требования чрезвычайных полномочий. И он их получал.
Став Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР и главой вооруженных сил, Горбачев тем самым с самого начала своего правления получил в свои руки всю полноту власти. Казалось, что еще нужно? А между тем вся история его правления состояла в том, что он просил и требовал предоставить ему ту самую полноту власти, которую он, казалось, имел изначально. В чем тут дело? Дело в том, что власть Горбачева в любом ее обличии была властью кризисной. Он, как и вслед за ним Ельцин, впал в иллюзию, будто все проблемы страны можно было решить путем махинаций с системой власти. Полнота власти тут приобреталась формально, а не практически. Она была достаточно сильна, чтобы производить разрушительные действия, но слишком слаба, чтобы делать что-то позитивное, созидательное. Она все время казалась недостаточной, поскольку ее нельзя было употребить в дело должным образом, поскольку сам факт предоставления полномочий не делал подвластных покорными без применения орудий реальной власти, которая разрушалась. Если бы Горбачев был наделен полномочиями императора или даже фараона суть дела от этого не изменилась бы.
Таким образом, надо различать диктатуру фактическую, какой была диктатура Сталина, и диктатуру формальную, образцом которой может теперь служить диктатура Горбачева. Формально Горбачев располагал властью неизмеримо большей, чем Сталин. Он стал Президентом, избранным прямо съездом народных депутатов, т.е. независимо от Верховного Совета. Он стал Генеральным секретарем КПСС независимо от ЦК КПСС, от Политбюро и Секретариата ЦК, будучи избран прямо Съездом КПСС. Он получил полномочия, какие не снились никакому диктатору. Но он был полнейшим ничтожеством в качестве реального властителя сравнительно со Сталиным.
Уже в горбачевские годы внешние факторы стали играть доминирующую роль в деятельности власти Советского Союза. Горбачев перешел грань, отделявшую деятельность в рамках советской государственности от деятельности по ее разрушению вообще. Вместо сталинистского типа коммунистической власти стал получаться политический урод, сочетавший в себе элементы, имитирующие западную демократию, и обломки разрушаемой коммунистической системы.
В республиках бывшего Советского Союза, включая Россию в первую очередь, сложились так называемые президентские системы власти, ничего общего не имеющие с президентской системой США или Франции, а именно – диктаторские режимы, по сравнению с которыми брежневский режим выглядит как вершина либерализма. Рухнули прежние структуры профессиональной системы управления. На их месте возникли дилетантские структуры, не имеющие достоинств прежних, но зато усилившие их недостатки. Новые правители с удесятеренной силой сравнительно с предшественниками ринулись удовлетворять свои хищнические аппетиты. К ним присоединилось огромное число (если не большинство) прежних чиновников партийного и государственного аппарата, молниеносно изменивших свою политическую ориентацию. Гигантский хамелеон советской власти лишь изменил свою окраску применительно к новым условиям. Под другими названиями и в ухудшенном виде в республиках возродились тоталитарные режимы, обрядившиеся в оболочку антикоммунизма и национализма и утратившие черты прежней законности.
Вместо обещанного сокращения и удешевления аппарата власти произошло противоположное – он стал неумолимо разрастаться, а расходы на него увеличились за несколько месяцев в несколько раз сравнительно с прежними. Новые властители первым делом увеличили себе зарплату и прибрали к рукам все привилегии прежних работников власти. Они стали пользоваться внеочередностью везде и во всем, летали бесплатно на самолетах. В их распоряжении оказались лучшие гостиницы и санатории, бесплатные автомашины, заграничные паспорта, специальные больницы и т.п. Трудно назвать депутата-демократа, который не побывал бы несколько раз на Западе и не привез бы оттуда дефицитные в Советском Союзе вещи, которые продавались затем там за огромные деньги. Даже западные газеты с удивлением писали о том, что новые советские правители в огромном числе открыли себе счета в западных банках. Демократы завладели закрытыми распределителями продуктов, им доставалась львиная доля строившихся квартир.
Демократы устроили злобную травлю бывших работников партийного аппарата КПСС, заполнив этим все средства массовой информации, включая органы самой КПСС. Одним словом, получилась не демократия западного образца, лишь ее имитация в советском духе, лишь вывернутая наизнанку прежняя система, работало лишь то, что как-то осталось от прошлого, только много хуже, чем раньше.
Было бы удивительно, если бы в таких условиях не стали появляться шарлатанские и шизофренические планы преобразования. И они стали появляться, причем – один глупее другого. Все рекорды на этот счет побил план «500 дней», авторство которого приписывают Г. Явлинскому, С. Шаталину и Н. Примакову. Согласно этому плану, Советский Союз в течение пятисот дней должен был превратиться из коммунистической страны в страну капиталистическую, причем на уровне передовых западных стран. На Западе этот план хвалили, ибо понимали, что претворение его в жизнь привело бы к молниеносному краху советского общества. Горбачевцы от этого плана отказались, поскольку абсурдность его была очевидна даже им. Но они не отказались от идеи введения «рыночной экономики» и приватизации, которая стала витать в их сознании как панацея от всех бед. В результате в стране стала стремительно деградировать старая экономическая система, уступая место экономике криминальной.
Вместо разрушенной коммунистической (плановой и командной) экономики возникла не рыночная экономика, к какой призывали новые лидеры и хозяева страны, не имевшие ни малейшего понятия о механизме реальной рыночной экономики западных стран, а лишь ее карикатурная имитация. По существу же эта экономика явилась лишь легализацией преступной («теневой») экономики брежневских лет, а также расцветом мафиозной экономики, грабящей страну совместно с представителями экономической интервенции со стороны Запада. Началось разбазаривание всего ценного, что было создано трудом, умом и талантом народа за годы советской истории. Жизненный уровень масс населения стремительно снизился сравнительно с брежневскими годами, которые теперь стали воспоминаться как «Золотой век» русской истории. От всего этого выгадало ничтожное меньшинство населения – преступники, нажившие в считанные дни баснословные богатства. Но возникли эти богатства не за счет подъема экономики и роста производства, а за счет ее упадка и краха производства, т.е. путем ограбления масс рядовых граждан и накопленных ранее ресурсов страны.
Результатом политики горбачевских реформ явилось не новое устойчивое состояние общества, а его дальнейшая дестабилизация, превысившая всякие допустимые границы. Плохо ли – хорошо ли, но общественный механизм до этого как-то работал. Его детали были как-то скоординированы. Реформаторская же суета разрегулировала его окончательно. Горбачевцы вели себя подобно некомпетентным в технике авантюристам, которые хаотически заменяют устаревшие детали в устаревшей машине новыми деталями, игнорируя принципы работа машины как целого.
Прибегая к другому образному сравнению, горбачевское руководство оказалось подобным обезумевшему капитану, который направил свой корабль в минуту опасности на гибельные рифы.
Но самый страшный результат того, что произошло после 1985 года в нашей стране, это – моральное, психологическое и идейное разложение основного населения страны. Люди уже не могут сознаться в том, что совершили эпохальную глупость, добровольно поддавшись влиянию реформаторов и их западных наставников. Теперь они в отчаянии от того, что произошло. Но в России просто нет авторитетных для них сил и вождей, которые могли бы указать им приемлемый выход из катастрофического положения и за которыми они могли бы пойти.
Новые коммунисты
Писателя не удивило и не опечалило то, что его бойкотировали писательские и научные круги, «демократическая» и правительственная пресса, националисты и т.п. Но невнимание со стороны коммунистов его вначале озадачило. Вся его прошлая деятельность по критике коммунизма теперь выглядит скорее как защита его и именно так интерпретируется. Так что дело не в этом. Еще в доперестроечные годы в одной коммунистической газете о нем писали, что его критика коммунизма неприемлема для антикоммунистов и воспринимается ими как скрытая апологетика коммунизма, а его защита коммунизма неприемлема для коммунистов и воспринимается ими как скрытый антикоммунизм. Возможно, нечто подобное имело место и в России. Но теперь, когда коммунисты должны были бы дорожить каждым добрым словом в адрес коммунизма, невнимание к человеку, который первым провозгласил, что коммунистический период был вершиной русской истории, и не уставал подчеркивать это, казалось по меньшей мере странным. Теперь, познакомившись лучше с положением в России и с состоянием коммунистической оппозиции, он понял, что на иное отношение к себе он и не мог рассчитывать. Он был чужим, непонятным и даже опасным для всех тех, кто сегодня по тем или иным причинам считал себя коммунистом и объявлял себя таковым публично.
Его пребывание в Москве приближалось к концу, когда он получил приглашение выступить в «Союзе Новых Коммунистов». Этот «Союз» недавно появился с целью изучения истории коммунистического движения, марксизма-ленинизма и опыта коммунистических стран. Члены «Союза» – в основном молодые люди. О Писателе кое-что слыхали, но сочинений его не читали. Писатель, конечно, согласился.
На встречу пришло человек пятьдесят. Открыл встречу молодой человек, представившийся как секретарь «Союза». Рассказал кратко биографию Писателя, перепутав даты, факты и идеи. Писатель не стал поправлять, дабы не терять время и не вносить ненужную полемичность.
Писатель много лет не испытывал такого волнения, как в этот момент. Может быть вся его жизнь предназначалась именно для него?! Он долго не мог начать речь. К горлу подкатывал ком. Собравшиеся почувствовали это. Наступила мертвая тишина. Как на похоронах, – подумал он. И в первый раз за много лет произнес слово, которое было символом нового общества, а теперь оказалось забытым и осмеянным, как и все то хорошее, что дало людям это общество: «Товарищи!»
Коммунизм умер – да здравствует коммунизм!
Коммунистический социальный строй в России (реальный коммунизм) разрушен, это теперь неоспоримый факт. Конечно, какие-то его черты и обломки сохранились. Они еще долго будут сохраняться, может быть вечно. Но реальный коммунизм как целостный социальный организм разрушен. Разрушены все его основы – коммунистическая организация первичных коллективов, система государственности, партия как основа и ядро государственности, идеологический механизм, общественное сознание, система ценностей, система воспитания и образования, система социальных гарантий и прав. Наступила посткоммунистическая эпоха, о которой мечтали антикоммунисты всех сортов, стран и народов в течение семидесяти лет советской, коммунистической истории. Естественно, возникает вопрос о судьбе коммунистических идеалов и их носителей-коммунистов.
Как известно, многие западные партии отреклись от названия коммунистических и от самих коммунистических идеалов, мотивируя это конкретными условиями их жизнедеятельности. Аналогичное явление имеет место в России. А число людей, отрекшихся от звания коммунистов, не счесть. Но ссылка на условия тут лишена смысла. Она лишь маскирует факт капитуляции и предательства, в лучшем случае приспособленчества. Идеи коммунистического общества (коммунистические идеалы) возникли задолго до марксизма и тем более до возникновения реальных коммунистических стран. Они в той или иной форме существовали и независимо от них. И будут возникать вновь и вновь в будущем. Они суть именно идеалы. Ни от каких конкретных условий и изменения этих условий их содержание не зависит. От конкретных исторических условий зависит их появление на арене истории, распространение, влияние, затухание, забвение. От конкретных условий зависит то, какие пути выбирают те или иные люди, чтобы добиться их реализации. Но сами по себе они не конъюнктурны, не приспосабливаются к обстоятельствам.
Идеи коммунизма как идеал будущего общества благополучия и справедливости для широких слоев населения, в особенности низших, а также как цель в жизнедеятельности каких-то категорий людей не могут быть истреблены, вычеркнуты из сознания и памяти человечества полностью. Они под другими названиями и в других формах живут и в странах Запада, не говоря уж о странах бывшего Третьего мира. Они возрождаются вновь и вновь в составе программ и лозунгов различных некоммунистических организаций и движений, включая даже религиозные. До тех пор, пока остается массовая нищета, безработица, вопиющее материальное неравенство, социальная необеспеченность, страх будущего, угнетение одних людей другими, насилие и прочие язвы современного общества, нельзя быть уверенным в том, что коммунистическое движение вновь не станет на свои собственные ноги и вновь не заявит претензии на переустройство мира.
В нынешнем посткоммунистическом российском обществе никто не принуждает граждан принимать коммунистические идеалы: Наоборот, эти идеалы всячески дискредитируются. На коммунизм сваливают всю совокупность зол, в которых он неповинен. У коммунизма отнимают все то, что он внес позитивного в жизнь человечества. Принятие идеалов коммунизма есть дело сугубо личное и добровольное. Коммунистом в этих условиях может считаться лишь человек, который принимает эти идеалы и делает своей жизненной задачей участие в борьбе за их осуществление. Причем, он должен делать это бескорыстно, без карьеристических расчетов, с готовностью пойти на жертвы ради коммунистических идеалов, короче говоря – как идеалистический, романтический и психологический коммунист. Лишь организация из таких (скажем, настоящих, подлинных) коммунистов в современную посткоммунистическую эпоху может считаться коммунистической в строгом смысле слова. Вот таким настоящим коммунистам обращаю я мои слова.
Вы знаете, чего это стоило заявлять о себе как о коммунисте и о своей партии как о коммунистической в условиях, когда эта партия была правящей. Но надо иметь мужество заявлять о себе как о коммунисте и о своей партии как о коммунистической в условиях буйства антикоммунизма, массированной травли всего, что так или иначе связано с коммунизмом. Отрекаться в этих условиях от слов «коммунист» и «коммунистический» – значит капитулировать перед всеобщей эпидемией антикоммунизма. Тут речь идет о великих исторических символах. Эти символы есть историческая реальность – мы живем в цивилизации, в которой символы порою играют более важную роль, чем эмпирически ощутимые вещи и события. Жертвовать этими символами в угоду преходящей конъюнктуре и в порядке уступки ликующему антикоммунизму по меньшей мере постыдно. Но столь же постыдно использовать исторический смысл этих символов, не будучи коммунистами на самом деле. Впрочем, это явление скоро исчезнет, надо полагать, так как липовые коммунисты перелицуются в более подходящие словесные одежды.
Настоящие коммунисты России должны первым делом дать объективную и беспощадную оценку сложившейся в России ситуации, а именно – открыто и категорически заявить, что нынешнее состояние России есть результат гибели коммунистического социального строя, причем – этот строй не обанкротился, не изжил себя и не умер естественной смертью (т.е. в силу внутренних причин), а был разрушен искусственно силами внешних врагов, внутренней контрреволюции, уголовных элементов и предателей. После 1985 года по инициативе высшего советского руководства было выбрано гибельное направление эволюции страны и была всесторонне подготовлена контрреволюция, открыто начавшаяся в августе 1991 года. В результате ее была разрушена КПСС, служившая основой и стержнем советской государственности, уничтожены советы, разрушена социальная организация населения, ликвидированы все социальные завоевания советской истории, разгромлена система воспитания и образования, отброшена идеология, деморализованы вооруженные силы, приведено в состояние морально-психологического маразма население страны. Страна позорно капитулировала в Холодной войне с Западом, сдав без боя все ранее завоеванные позиции, и из второй сверхдержавы планеты превратилась в третьеразрядную страну, искусственно разорвана на части и стала зоной колонизации со стороны Запада. Происходит искусственная и насильственная западнизация страны под предлогом насаждения западной демократии и рыночной экономики. Складывается режим колониальной демократии. Все то, что было самого гнусного и мракобесного в российском народе, вылезло на поверхность. Возрождаются самые мрачные черты дореволюционной России. Россия стала местом сбыта всего самого худшего, что производит массовая западная псевдокультура и идеология.
Настоящие коммунисты обязаны отвергнуть и бойкотировать абсолютно все, что произошло в России после 1985 года и привело к краху коммунизма, и призывать массы к этому. Никакой поддержки всему, что враждебно коммунизму. Никакого участия в сложившейся системе власти, никакого участия в борьбе за место в ней. Никакого участия в экономической деятельности по насаждению капитализма и вообще частнособственнических отношений. Категорическое отрицание приватизации. Никаких уступок в отношении форм собственности, отличных от коммунистической. Никакого участия в антикоммунистической идеологии и культуре. Всякое одобрение действий властей и складывающейся социальной системы, а также всякое соучастие в них есть предательство идеалов коммунизма. Надо рассматривать происходящий процесс как единое целое и не отыскивать в нем отдельные плюсы, оправдывающие его.
Настоящие коммунисты сегодня должны явиться перед судом Великой Истории, а не на выборы, не в конторы учреждений власти, не в банки и в частные предприятия, не в антикоммунистические органы и средства массовой информации. Не надо измельчать великие идеалы коммунизма болтливыми программами и тактическими расчетами. Не надо засорять словесным мусором и мелким политиканством дорогу к этим идеалам. Историческая роль коммунистов теперь вновь будет измеряться критериями нравственности и жертвенности. Надо думать прежде всего о сохранении исторического достоинства настоящих борцов за великие идеалы, а не о крохах со стола пиршества разрушителей коммунизма.
Настоящие коммунисты обязаны открыто и недвусмысленно выразить свое отношение к КПСС советского периода. Бесспорно, в той катастрофе, которая случилась с Россией (уже случилась, а не всего лишь угрожает!), сыграли свою роль объективные факторы как внутреннего, так и внешнего порядка. Но они действовали не как некие особые субстанции. Они действовали через факторы субъективные, т.е. через волевые решения и поступки людей, организаций, учреждений. Наличие объективных факторов ни в коем случае не снимает с людей, организаций и учреждений ответственности за ход событий, не освобождает от вины за случившуюся катастрофу, не освобождает от ответственности за будущее страны и народа.
Я убежден в том, что основная вина за случившуюся катастрофу лежит на аппарате КПСС и на КПСС в целом, включая рядовых членов партии. Причем, вина не только коллективная, но и персональная. Но вина не в том смысле, в каком приписывают КПСС вину антикоммунисты, антисоветчики, критики «режима», реформаторы, демократы и прочие разрушители нашей страны, а в том смысле, что руководители и идеологи партии, партийный аппарат и вся масса членов партии допустили в своих рядах формирование идей и людей, которые, захватив в партии инициативу, влияние и руководство, привели ее к гибели. К гибели, имевшей роковые последствия – гибель всей советской системы государственности, социальной организации и всего общества. КПСС не оправдала той исторической роли, какую она была обязана сыграть в отношении своей страны, не оправдала надежд народа на нее. Она капитулировала перед силами разрушения, фактически предала доверявший ей народ и самое себя. И вновь возникающие организации не имеют морального права называть себя коммунистическими без публичного признания этого исторического факта и выражения осуждения его. Что касается прошлых заслуг КПСС, то они должны быть учтены при оценке советского периода российской истории, ибо этот период без нее просто немыслим. А сейчас, в чем я глубоко убежден, выступление коммунистических партий в роли обломков и преемниц КПСС препятствует возрождению коммунистического движения в России как в стране посткоммунистической.
Коммунизм в России вернулся из реальности в сферу идеалов, так что коммунистической партии посткоммунистической эпохи предстоит стать партией не просто политической, но партией идеологической. Идеологической прежде всего. И не на день – на два, а надолго. Так что проблема идеологии для коммунистов посткоммунистической эпохи становится главной. Если настоящих коммунистов мало, если их организация слаба, если ее материальные ресурсы ничтожны, если поддержки почти или совсем нет, а враги сильны, то главной силой коммунистов становятся идеи.
А именно в сфере идеологии современное российское общество являет зрелище наиболее ужасающее – полное идейное разложение всех слоев и категорий населения, всех уровней образования, всех профессий, всех политических ориентаций, всех организаций и движений, всех возрастов. И ничего удивительного в этом нет. Холодная война, в которой Советский Союз потерпел сокрушительное поражение, была войной прежде всего в сфере идеологии. Главным объектом атак со стороны Запада было именно идейное, психологическое и моральное состояние советского общества. Симптомы идеологического кризиса были заметны уже в хрущевские годы. Никакие меры советской идеологии предотвратить его не помогли. Наоборот, они всячески его усилили и форсировали. Общий кризис советского общества начался именно в сфере идеологии и спустился затем к самым его основам. Советская интеллигенция сыграла в этом отношении колоссальную роль, подготовив фактически страну к полной идейной капитуляции перед Западом. Идеологическое разложение охватило и высшие слои советского руководства, включая его политических и идеологических лидеров.
Две главные черты идеологического маразма нынешней России суть, во-первых, отмена и разгром государственной идеологии (т.е. марксизма-ленинизма) и, во-вторых, наводнение российского идеологического пространства западной идеологией.
В вопросе о марксизме-ленинизме надо видеть два различных аспекта, а именно – то, как с ним обошлись реформаторы российского общества, и то, каким должно быть, на мой взгляд, отношение к нему со стороны коммунистов посткоммунистической эпохи. Реформаторы просто отбросили марксизм-ленинизм, отменили и фактически запретили его как государственную идеологию в угоду своим антикоммунистическим и антимарксистским западным покровителям, а не противопоставили ему свое более совершенное учение. Никто из них, включая профессиональных идеологов, толком не понимал марксизм как интеллектуальное явление. Тот поток словесных помоев, какой они на него обрушили, был интеллектуальной деградацией беспрецедентного масштаба. Их отношение к марксизму не есть отношение разума к заблуждению. Они просто предали его, когда сочли это удобным в своих шкурнических интересах. В истории человечества еще не было предательства подобного уровня и масштаба, не говоря уж о степени морального падения.
Марксизм не есть чепуха, хотя в его текстах много чепухи, не есть ложь, хотя в нем много ложных утверждений, и не есть утопия, хотя многие его обещания несбыточны. Он есть явление качественно иное и более значительное. Он родился в гениальных умах и родился как стремление к научному познанию реальности. Он вырос на основе науки и сам внес в нее свой вклад. Но в силу роли, какую ему навязала история, он превратился в нечто отличное от науки – в идеологию.
Очень важно понять, что идеология не есть наука, хотя она и вырастает, на основе науки и использует ее. Она не есть нечто второсортное по отношению к науке. Она – просто другое явление, у нее другая роль в обществе. Задача науки – познавать мир. Задача идеологии – выработка идеалов поведения людей и их организаций, общих представлений о их природном и социальном окружении. Марксизм явил миру самый грандиозный образец идеологии – идеологии глобального и эпохального значения. И именно тот факт, что он питался соками науки, позволял ему в течение более ста лет быть более или менее адекватным отражением социальной реальности.
Марксизм, возникнув и развившись в эпохальную идеологию на основе жизненного и интеллектуального материала 19 и начала 20 веков, стал неадекватным тем переменам, которые произошли в мире в 20 веке, в особенности – после Второй мировой войны. Но что означала эта неадекватность? И была ли она достаточным основанием краха марксизма? И в чем заключалась главная причина краха?
Сказать, что марксистское учение о коммунистическом и о западном обществе оказалось ненаучным, что его прогнозы подтвердились, значит, сказать нечто бессмысленное. Это учение и раньше было ненаучным, а над многими его прогнозами смеялись еще в довоенные годы. К тому же и то, что ранее говорилось на эту тему на Западе, было ничуть не научнее марксизма, а во многих отношениях уступало ему. Дело в том, что мир изменился таким (кстати сказать, непредвиденным!) образом, что критика коммунистического общества и апологетика западного общества оказалась в более выгодном положении, чем апологетика коммунистического общества и критика западного общества. Развились и вышли на первый план такие явления и сравнительно ослабли и отошли на задний план такие явления, что западная идеология и пропаганда получила колоссальные преимущества перед советской. На Западе начался подъем в материальном отношении, а в
Советском Союзе уже в начале семидесятых годов стал ощутим «застой» и наметилась тенденция к кризису. Сложились, короче говоря, условия, в которых западная идеология и пропаганда начала весьма успешно навязывать всему миру образ Запада как земного рая и образ Советского Союза как «империи зла».
Идеологическая атака со стороны западной идеологии на советское общество оказалась настолько мощной и эффективной, что советская идеология впала в состояние растерянности. Уже в семидесятые годы можно было констатировать ее кризис – предвестник надвигающегося общего кризиса коммунизма. Но кризис еще не крах. Если бы Советский Союз преодолел этот кризис, и коммунистический социальный строй тут сохранился бы, никакой крах марксистской идеологии не произошел бы, её не отбросили бы, не отменили бы. Она уцелела бы и постепенно стала бы приспосабливаться к новым обстоятельствам. Она начала такое приспособление уже в послесталинские годы. Очень медленно, робко, но начала. Специалисты по идеологии знают, какие важные и многочисленные коррективы были фактически внесены в марксизм (включая ленинизм). Могу в качестве примера назвать отказ от рассмотрения советского государства как диктатуры пролетариата и истолкование принципа «по потребности», в котором потребности истолковывались как «разумные», т.е. как общественно признанные.








