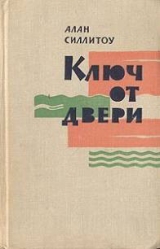
Текст книги "Ключ от двери"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Он вошел в радиорубку, сбросил плащ, панаму, положил сумку. «Паршивый лентяй, – выругал он Бейкера, – оставил аккумуляторы без присмотра, и на них капает с потолка. Небось снова читал свои каталоги мотороллеров; вот уж никудышный работник, ему бы механиком быть, а не радистом». Брайн повозился немного с тяжелыми длинными аккумуляторными коробками, нагромождая их на ящики, которые поставил в сухом углу, расписался в журнале радиограмм и книге дежурного, потом вызвал Сингапур, чтобы проверить связь.
Послушный стук ключа раздался ясно и четко, долгие и короткие точки-тире зазвучали, словно птичий щебет, успокаивая его и возбуждая и в то же время отрезвляя, как первая рюмка спиртного. Он немного сдвинул наушники, чтобы слышать и низкие басовитые ноты супергетеродинного приемника и стук ключа, так что в ушах у него теперь отдавались и отстукивание, и его эхо, подтверждающее: все в порядке. Он был совсем один, наедине со своей рацией, и ему достаточно было протянуть руку и нажать на ключ, чтобы где-то за сотни миль отсюда такой же вот одинокий радист протянул руку и отстучал ему ответ. Впрочем, сегодня ответы эти были почти не слышны, и он понял, что его собственные сигналы, пролетая над джунглями, на вершинах гор тоже попадают в лапы атмосферных разрядов и выходят изорванными в клочья. Началось его любимое четырнадцатичасовое дежурство – четырнадцать часов полного одиночества, и, хотя дождь колотил в стены маленькой и шаткой хижины, он был рад, что смена началась, и, отложив на время журнал, который начал заполнять, достал непочатую пачку сигарет и закурил.
С подветренной стороны ему виден был серый, весь пронизанный дождем день – вода и низко нависшие облака. Провода антенны, завывая, рождали таинственные сигналы, но вскоре их заглушили сигналы приближавшегося самолета, который запрашивал сводку погоды. Брайн покрутил ручку полевого телефона, чтобы связаться с метеостанцией; покрутил раз, два, три раза, но телефон молчал. Наверно, провод размок.
– Не могу дозвониться, – ответил он самолету, но бортрадист настаивал: ему необходима сводка.
Брайн подошел к дверям взглянуть, какая погода: высота облаков – тысячи две футов, видимость – одна миля, ветер западный – сорок узлов, дождь; он вернулся и отстучал собственную сводку. Не очень точную, но бортрадист был, кажется, доволен. Он хотел получить и пеленг, но антенны, должно быть, закоротило, потому что никак нельзя было добиться отчетливой слышимости. – Третья степень точности, – отстучал он, – так что не особенно на меня полагайся.
– И не подумаю, – ответил бортрадист иронически. Ну и погодка! Дождь хлестал с какой-то пугающей стихийной силой, словно дикий зверь, вообразивший, будто он может одним последним усилием выиграть эту битву против земной тверди. Рисовое поле превратилось в озеро, разлившееся до самых деревьев, которые росли на краю поля, и время от времени на поверхности его появлялась рябь, словно в открытом море, где радиорубка была кораблем, уже направлявшимся к берегу. Вода капала с крыши, иногда попадая на автомат и патроны. Может, он уже и не стреляет. Брайн взял его, вышел из рубки, встал, расставив ноги, и расстрелял диск прямо над рисовым полем. Ураган приглушил трескучий фейерверк пуль и безболезненно принял их в свою утробу.
Промокнув, Брайн вернулся в рубку, разделся до пояса и снова сел к передатчику. Ну и жизнь! У него на сегодня назначено с Мими свидание, он не ожидал, что придется идти на дежурство, но капрал, который должен был дежурить, сказался больным и похоже, что этого капрала еще не одну неделю в починке продержат. Брайн вызвал французского радиста из Сайгона на смеси международного кода и варварского французского, который в ходу на Востоке
– Как у вас сегодня, никаких самолетов?
Может, он там книгу читал и не хотел, чтоб его беспокоили, но только ответ пришел быстрый и раздраженный, сквозь все помехи:
– А тебе чего нужно?
– Ничего, – отстучал Брайн и подождал немного. Снова отозвался Сайгон:
– Меня зовут Анри. А тебя?
– Жан Вальжан.
Брайн, разыгрывая его, дважды повторил имя.
А сколько тебе лет? – отстучал Анри, сделав несколько ошибок.
– Тридцать пять, – соврал Брайн, которому эта игра начинала нравиться. – А тебе?
– Двадцать семь.
Брайн спросил, нравится ли ему Сайгон, в в ответ донесся смех радиста: «Та-та-ти-ти-та-та»,
– Ты откуда родом?
Брайн отозвался:
– Из Ноттингема.
– Дай мне тогда адресок какой-нибудь классной девочки.
Им было запрещено переговариваться открытым текстом, но Брайн не знал ни одного военного радиста, который не нарушал бы этот запрет.
«Что же делать, что же делать, раз попал в эту дыру? Только в пекло, прямо в пекло мчать верхом на кенгуру» – стишок, который он сочинил когда-то, пришел ему сейчас в голову. Он послал в Сайгон вымышленные адрес и имя, потом они дружески простились, как делают радисты, одновременно нажав на ключ.
Он наблюдал, как садится «дакота»: она промчалась низко над верхушками пальм, опустилась на бетонную дорожку и, точно ядро, понеслась в сторону контрольной вышки. Он отстучал последний сигнал – спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи – и выключил передатчик, предоставив эфир бушующим легионам атмосферных разрядов. Сумерки спустились над мокрой землей, и Брайн плотнее прикрыл дверь, защищаясь от москитов, слетавшихся на огонь и садившихся на его тело, покрытое холодным потом. Он попытался разжечь примус, чтобы вскипятить чай, но полыхнуло пламя, и тогда, отбросив примус, Брайн стал запивать хлеб и сыр водой.
Мысль о том, что осталось еще одиннадцать часов дежурства, теперь ужасала его. Вспышки молний подмигивали ему сквозь щель под дверью, словно посмеиваясь над ним: ведь он мог бы сейчас быть в постели с Мими. «Нет, мне просто не везет на этом свете, хотя, конечно, лучше смеяться над своими неудачами, чем клясть их». Ветер, точно хулиган, шумно скандалил, наскакивая на ветхую лачугу. «Один бог знает, как я сюда угодил. Я не против, чтоб меня одного оставили, но тут все равно как на «губе», даже этот поганый телефон и тот не работает, нельзя вызвать контрольную вышку».
«– Слышь, – сказал мне отец в тот вечер, когда я напомнил ему, что мне завтра восемнадцать исполнится. – Слышь, если я узнаю, что ты в армию завербовался, башку тебе оторву. Помни». – Я как раз вернулся от Полин, с которой мы проводили время на диване, и настроение у меня было отличное.
– Никто по своей воле в армию не завербовывается,– сказал я. – Не знаешь, что ли, вот уж шесть лет, как введена воинская повинность.
– Ты мне дерзить не смей, – сказал он и стал мрачнее тучи, насупился; я думал, он мне сейчас чайник на голову вывернет, а он только налил мне чашку чаю.– Я тебя не спрашиваю, повинность там или еще что, вот меня ж они не зацапали, правда?
– Ну, ладно, – сказал я. – Спасибо за чай, а только ведь здоровье у тебя было слабое, верно?
– Может, и так. Но я к тому же неплохо прикинулся. Одно могу тебе сказать: после всех лет безработицы и житья на пособие я за этих сволочей воевать бы не стал. Ведь нам – и мне, и тебе, и матери – много пришлось вытерпеть. – Он торопливо отрезал мне ломтик мяса, спеша высказаться, раз уж заговорил в кои-то веки.
– Ну как ты не понимаешь, отец, меня наверняка призовут, я ведь годен. И тут уж мне не отвертеться.
– Дэйв и Колин сумели отвертеться, всю войну ухитрялись. Они перехитрили всех солдафонов. – Он рассеянно взглянул на занавешенное окно. – Ох, и пройдохи они оба, наши Дэйв и Колин.
– А все-таки их взяли, верно ведь? – сказал я, с грустью вспомнив тот день.
– Ну да, – сказал отец с улыбкой, – а только война-то к тому времени кончилась. – Он с наслаждением отхлебнул чаю. – Так что держись подальше от всего этого».
Но Брайн вовсе не хотел держаться подальше, потому что это означало бы остаться в Ноттингеме, а он не был уверен, что ему этого хочется. С другой стороны, он не то чтобы боялся дезертировать, но ему казалось, что позволить мобилизовать себя – еще хуже, чем слоняться, будто преступник, по ночным улицам. Ну а вдруг он пропустит что-нибудь интересное, если не отдастся на этот раз на волю течению? А отец все говорил:
«– Наш Эдди в семнадцатом году дезертировал, сел на велосипед и сбежал к своей сестре в Ковентри. Хитрый, стервец, был – не поехал по дороге, боялся, что его полисмены схватят; вдоль канала двинул, по бережку, ну и там, конечно, ни души не встретил. Путь был вдвое длиннее, но игра стоила свеч. Тетка его там шесть недель прятала, а он, болван, стал скучать по Ноттингему и в один прекрасный день вернулся, так что пришлось отцу с матерью возиться с ним. А тут один дружок увидел, что полисмены к нашему дому идут, ну, Эдди и смылся, засел в Уоллатон Рафс. Он там чуть не замерз до смерти, бедняга. Я к нему все, бывало, ездил на велосипеде, жратву возил, что мать ему стряпала. А как-то раз я сплоховал, и проклятые полисмены меня перехитрили, следили за мной до того самого места, где Эдди прятался, ну и сцапали его. Через три месяца он уже был во Франции, а еще через неделю попал к немцам в плен и там застрял до конца войны. Смех, да и только. Этот Эдди такой был мошенник!»
Они сидели в светлой кухне, и отец снова налил чаю сыну и себе.
Выпив воды, Брайн ощупью добрался до походной койки, расстелил простыню. Бейкер не позвонил вовремя в часть, чтоб зарядили аккумуляторы, и они совсем разрядились, так что теперь в рубке ни черта не видно. Он лежал на койке и слушал, как капли дождя стучат в стены и по крыше, словно тысячи зерен риса, – дождевая страда в юго-восточной Азии. «Что бы сделали Дэйв и Колин на моем месте? В два счета улизнули бы. Но они б так далеко не забрались, как я, а ведь я тут кое-что повидал такое, чего им сроду не увидеть. «Я тебе не рассказывал, Дэйв, как я видел питона, когда служил в Малайе? Он полз прямо по рисовому полю. Длинный, футов двадцать, и толстый, как моя ляжка, а как расплескивал лужи! Но я на него и смотреть не стал!» «Что ж ты, смотрел бы на здоровье, – сказал бы Дэйв. – А я лучше в кино посмотрю Тарзана».
Огромные крысы без конца шмыгали по стенам, шушукаясь где-то под крышей о том, что вода согнала их с насиженных мест. Общество это ему не особенно нравилось, и он стал крутить ручку телефона в надежде, что кабель каким-нибудь чудом соединится где-то на дне этих болот. Но телефон молчал, бесполезный, как взломанный замок, и Брайн, выпив еще глоток воды, уснул в холодном поту.
Бледные зигзаги молний озаряли рубку, проникали ему под веки и заставили его в конце концов широко открыть глаза, и теперь – когда, приподнявшись, он стал напряженно вглядываться во тьму, где ревел ветер, гремел гром и так сверкало, словно какой-то сумасшедший, выпущенный на волю, хулиганил со спичками и гремучей смесью, – теперь этот гром казался ему еще оглушительнее, чем раньше, когда он лежал, уткнувшись в подушки. Простыни намокли, и он подумал, что, наверно, не заметил, как на него капала вода, но потом успокоился, поняв, что это пот. Мысль, что ему придется сейчас передвигать койку на другое место, была несносна, и у него не хватало сил преодолеть усталость.
Молнии сверкали непрерывно, словно небо превратилось в одну гигантскую сигнальную лампу; один раз спросонья он даже попытался прочесть ее сигналы, но они были бессмысленны – какая-то невразумительная морзянка, перекрываемая громом.
Он заметил, что серый, тусклый свет проник в рубку, почувствовал это, еще не раскрывая глаз, словно свет этот был осязаемым, – призрачная завеса, которую дождь просунул, как письмо, под дверь, пока он лежал, отвернувшись к стенке. Он еще не совсем проснулся, и шум, приветствовавший его, был так оглушителен, что он, пожалуй, предпочел бы поспать еще. Шторм, бушевавший всю ночь, продолжал греметь, словно шло сражение, и, хотя бушевал он повсюду, казалось, что главная сила удара сосредоточена на этом рисовом поле, и в первую очередь на радиорубке. И в эти минуты, пока он бодрствовал, лежа на спине, в душу ему прокралось беспокойство. Он вздрогнул от жгучего прикосновения холодной простыни и пронзительного запаха плесени, потом закашлялся, – после приступа кашля ему стало еще холодней; он сел, натягивая на себя рубаху. Вода поднялась уже до самой койки, затопив его высокие сапоги и обтрепанную книжку карманной серии «Пингвин». Потоп, да и только! Надо будет проголосовать, если мимо пойдет Ноев ковчег, чтоб подвезли. Все на борт. Домой. «Что же делать, что же делать, раз попал в эту дыру? Плюнь на все. Сиди и помалкивай. И все-таки, что за свинство! Но надо все же пошевелиться. Из-за этого грома собственных мыслей не слышно, мне бы наушники да козырек на глаза от молний». Из сапог извилистой струйкой текла вода; вылив ее, он обулся, побрел к рации и включил передатчик. Потом настроился и сразу же получил приветствие из Мингаладона в Бирме: «Доброе утро!» «А что в нем доброго?» – отстучал он в ответ. И замолчал. Было уже семь часов.
Он выглянул из двери, которая была с подветренной стороны. Все, кроме маячивших вдали деревьев, ушло под воду, так что тропинка, которая вела через затопленное поле к видневшейся вдали взлетной дорожке, совсем исчезла. Дождь все лил, хлестал по взбаламученной воде, и казалось, он будет идти без конца, пока сама рубка не уплывет прочь. Первым побуждением Брайна было бросить рубку, перебраться через рисовое поле к взлетной дорожке, потому что антенны сейчас все равно бесполезны и не могут больше служить для пеленга.
Он зашлепал по лужам к пульту и, каким-то чудом соединившись по телефону с контрольной вышкой, обрисовал дежурному офицеру грустную, но довольно наглядную картину своих бедствий. Дежурный прервал его: «Запирай рубку и пробирайся сюда. Грузовик отвезет тебя в лагерь». «Вот только лодку за мной не пришлют, чтоб до взлетной дорожки добраться, – подумал он и с такой силой захлопнул крышку приемника, что она чуть не треснула. – Идиот паршивый!»
Насвистывая какой-то мотив, он запихнул вахтенные журналы и боеприпасы в сумку, отсоединил аккумуляторы и поставил их как можно выше. Огромная раздувшаяся пиявка величиной с небольшую змею, извиваясь между его сапогами, пробиралась в рубку через щель. «Эй, ты, там никого нет, я вовремя смылся!» – крикнул он ей вслед. Стены рубки были сплошь покрыты пауками и другими насекомыми, спасавшимися от наводнения, под крышей испуганно пищали крысы, время от времени они спускались вниз, к кромке воды, а потом спешили обратно наверх – сообщить своим, что вода не спала, а может еще подняться и затопить их всех.
Ноги его нащупали тропку, которая была теперь фута на два под водой. Зажженная сигарета размокла, и ветер осыпал ему лицо табачными крошками, он то и дело сплевывал против ветра. Перекинув автомат через плечо, он еле-еле брел по воде, так как тропинка местами была совсем размыта и, пытаясь нащупать ее, он уходил под воду чуть не до самых плеч. Вспотев, несмотря на дождь, он со страхом думал, что может наступить на змею, вспоминая при этом всех попадавшихся ему змей, и в особенности питона, который плескался недавно рядом с рубкой» А может, они все залезли на деревья? Мысль эта показалась ему утешительной, но мало вероятной. Он ругался вслух и разговаривал сам с собой. «Да, вот это приключение! Выходит, я забрался еще дальше, чем мечтал, ведь это втрое дальше, чем Абиссиния, не шуточка! О, черт, скорее бы добраться до взлетной дорожки, а там уж до лагеря рукой подать. Хоть бы чайку попить.» – Он плотнее завернулся в плащ, защищаясь от косого дождя. – Вот если б отец меня сейчас увидел! «А я тебе что говорил? – сказал бы он. – Ну как, обормот, болтаешься по самую шею в ледяной воде? Недолго и. ревматизм схватить. Уж коли ты так любишь воду, пошел бы искупаться в Тренте. Я тебе что говорил – не лезь в эту армию. Они для нас никогда палец о палец не ударили, чего ж ты для них стараешься, а?»
Нужно было пройти по взлетной дорожке целую милю против ветра, и казалось, ветер вот-вот своротит ему скулы; плащ развевался у него за плечами, точно у Белы Лугоши – человека-вампира, а поля шляпы отогнулись, как у старого золотоискателя. Пузыри взлетали из-под его высоких сапог. Ему надоело все на свете, он даже не думал о том, что сзади на него может наскочить самолет. «Единственное, чего мне сейчас хочется, – это добраться до теплой казармы, взять толстый роман в руки и еще получать миску жратвы каждые четыре часа, чтоб не знать голода. Право, жизнь тут не такая уж тяжелая, когда вся эта водичка с небес не льет на голову».
На контрольной вышке было немногим лучше, чем в радиорубке. Вода лила сквозь крышу, стекала по стенам, и карты на стенах побледнели и расплылись: Бирма лезла в Бенгальский залив, а Французский Индокитай сползал к Сингапуру. Суматра стала совсем красная, и Брайн усмехнулся, увидев это, хоть и подумал, что жаль все же такие хорошие карты. Огромный навес напротив вышки, из-под которого выдвигались прожекторы перед прибытием самолета, обрушился на землю. «Ремонт встанет в копеечку», – усмехнулся Брайн. Дежурный офицер на контрольной вышке сердито покосился на гражданскую рубашку Брайна, но тот даже не замечал этого и в задумчивости курил у двери, чувствуя, как сырость пронизывает его до мозга костей.
Разбрызгивая грязь, подошел грузовик со сменой, и Бейкер выпрыгнул прямо в лужу, которой не видно было из машины.
– Ну что, лагерь еще на месте, – спросил Брайн, когда тот перестал наконец ругаться, – или его тоже смыло к чертям?
Бейкер отказался от сигареты.
– Нужно добраться до рубки и вытащить оттуда аккумуляторы.
– Туда сейчас не доберешься. Рисовое поле затоплено.
– Офицер связи приказал.
Брайна словно по затылку ударили, даже искры из глаз посыпались. «Выскочка проклятый, да понимает ли он, что говорит? Коли хочет, пусть сам туда лезет, вместо того чтобы глушить виски и жрать овсянку в офицерской столовке».
Бейкер учился в закрытой школе, круг его интересов был узок, больше всего он интересовался спортом и никогда не переходил в своем недовольстве границы устава королевской армии.
– Так или иначе придется нам это сделать.
Брайн спустился с вышки. «Переть назад в эту слякоть из-за каких-то заплесневелых аккумуляторов». Грузовик за какую-нибудь минуту проехал милю по взлетной дорожке, и Бейкер пришел в замешательство, увидев, как высоко поднялась вода.
– Ну, давай! – крикнул ему Брайн, уже стоявший по пояс в воде. – Что, подмокнуть боишься? А если попадется змея или, чего доброго, две, не обращай внимания: они от тебя первые убегут.
– А, дьявольщина! – крикнул Бейкер, прыгая в воду. Брайн быстро зашагал по полю, останавливаясь только для того, чтобы указать Бейкеру, где размыта тропка, и чувствуя себя смелее теперь, когда он был не один да еще шел впереди. «А уж если бы с деревьев начали стрелять, тут я совсем о змеях перестал бы думать».
– Ребята в казарме тебя жалели – всю ночь просидеть тут в такой потоп! – крикнул Бейкер.
Дождь больше не колол Брайна иголками, капли тупо долбили кожу, от усталости он ничего не замечал. Справа плеснула в воде змея.
– Спасибо, – отозвался он, обращаясь к Бейкеру.
– Пока дожди, будем работать на тех же волнах из расположения взвода связи. Тут нет ямы?
– Нет, шагай. Вот здесь яма, но неглубокая. Они вполне могли бы сообразить это еще вчера.
Но все же это было неплохо: взвод связи расположен всего шагах в пятидесяти от казармы, можно отлучаться время от времени, чтобы встречаться с Мими. Он открыл дверь рубки, и раздутая пиявка снова выплыла наружу.
– Вчера вечером на казарму дерево повалило ветром, – сказал Бейкер. – Правда, никого не задело.
Они поставили аккумуляторы на стул. У Брайна появилось ощущение, будто он здесь в последний раз и никому уже вообще в этой рубке больше не работать. Бейкер решил, что нужно внести внутрь запасную антенну, и вышел за ней, но, едва добравшись до антенны, тут же отдернул руку, словно по ней прошел ток: пауки, пиявки, сороконожки и скорпионы нашли там себе убежище от потопа.
– Ах, чтоб тебя! – воскликнул он. – Ну, черт с ней, пусть остается.
«Что ж, побуду тут еще год, а осенью сяду на корабль. – Эта мысль успокаивала Брайна. – Все-таки неплохо, что я здесь, да и интересно, было бы жаль, если б я всего этого не увидел, что бы там отец ни говорил. Ведь в Рэдфорде как-никак нет скорпионов, и потом, мне же всегда хотелось попутешествовать. Вот только скверный способ я выбрал для этого. И орут на тебя, как на собаку, за то, что ты форму носить не хочешь. Да я и в гроб не лягу в форме, хотя, конечно, в день получки, когда за деньгами идешь, приходится все же надевать».
Он накрыл аккумуляторы плащом (сам он все равно уже промок до нитки, и плащ ему больше не нужен), и они с Бейкером потащили их к грузовику.
– Смотри не поскользнись, – сказал Брайн. – А то еще в кислоте искупаешься. Подумать только – получить пенсию за ревматизм и обожженную задницу.
Они медленно шли друг за другом, с трудом заставляя себя не ускорять шаг под струями дождя.
– Даже сесть толком не сможешь, верно? – подхватил Бейкер, радуясь, что они уже прошли полпути.
Казалось, дождь никогда не кончится. Сверкающее синее море и такое же синее небо над зелеными холмами, пастельные краски Муонга за проливом, красные и черные корабли в бухте и желтые полоски пляжей к северу от городка – все это уже стало казаться сном, еще более смутным и призрачным, чем воспоминания о Ноттингеме.
В погожий денек одно удовольствие посидеть голым у рубки в плетеном кресле и позагорать, пока там какой-нибудь несчастный самолет надрывается, прося пеленг или метеосводку. Бывало, Брайн разжигал костер и поджаривал себе хлеб, а потом ел его с сардинами, достав баночку из бесконечных запасов в продуктовом ящике. Как-то он дал несколько баночек китайцу, который обрабатывал рисовое поле возле рубки, погоняя быка, запряженного в соху, и он преглупо себя чувствовал, когда китаец начал его благодарить и кланялся чуть не десять раз кряду. «Хуже нет, когда такой вот безграмотной скотине добро сделаешь; у него просто в голове не укладывается, что все мы равны. Мими говорит, что они в пояс кланяются, вместо того чтобы руку пожать». Беспрерывный шум дождя был сейчас единственной реальностью: плотный кокон воды окутывал мозг и весь окружающий мир.
Из кузова грузовика видна была рубка – маленький темный кубик посреди огромного серого квадрата воды. Потом она исчезла из виду, и грузовик с ревом помчался по взлетной дорожке, разгоняясь, словно самолет. Он, Брайн, сейчас такой мокрый и голодный, что сперва почистится как следует и пойдет в столовую, выдует там крепкого пива столько, сколько в него влезет. А через день или два увидится с Мими.
Бейкер толкнул его в бок.
– Ты заснул, – сказал он.
13
Свернув с шоссе (хотя здесь висит объявление: «За этой чертой – запретная зона для союзных войск»), сразу вырываешься из назойливых объятий огней и шума транспорта, попадаешь под сень пальмовой рощи. Узкая дорога изрыта колеями, и тени деревьев, растущих по обе ее стороны, сплетаются на середине. Каждый раз, сворачивая с шоссе, Брайн чувствовал себя преступником, решившимся совершить что-то отчаянное и непоправимое, хотя на самом деле он всего-навсего отправлялся повидать Мими. Шагая по дороге, он рисовал себе образ Мими где-то там, за стеной мрака, за мерцанием светлячков, которые время от времени вспыхивали перед ним по два сразу, а когда он подходил ближе, словно выключали свои лампочки. Ночная тьма надежно скрывала их, пока не минует опасность, а потом можно было снова зажечь свои огоньки; в общем, светлячки неплохо разбирались в правилах маскировки.
Он представлял себе Мими в голубом кимоно, вот она сидит у тростникового столика и прихорашивается в ожидании его прихода. А может быть, она в пижаме и пустым взглядом смотрит в зеркало на этот желто-зеленый мираж, на свое маленькое личико и плавно двигающиеся изящные ручки. Когда ее не было рядом, он не мог ясно представить себе ее черты, образ ее ускользал, туманился, издеваясь над бессилием памяти. Так бывало часто и с другими воспоминаниями. Когда, возвращаясь после дежурства, он видел лагерь – два десятка длинных бараков, угловатых и гладких, обсаженных тонкоствольными пальмами, – то аэродром и радиорубка, которые он покинул всего каких-нибудь полчаса назад, стирались в памяти, и он уже не мог бы описать взлетную дорожку или рубку, маячившие на солнцепеке в сонных просторах раскаленного поля. Да, в разлуке сердце смягчается и тает, потому что память обманывает тебя. Все далекое и недосягаемое, таящееся в прошлом или будущем, всегда привлекательнее того, что перед глазами, и становится еще призрачнее, когда пытаешься, настроив глаз, как антенну, разобрать эти туманные очертания. Он не мог, например, как ни старался, припомнить некоторые улицы Ноттингема, знакомые лица, а потом вдруг они с необычайной ясностью возникали перед ним, когда он меньше всего ждал этого, так ясно, что однажды, отстукивая срочную радиограмму, он вдруг перестал работать и, хотя самолет ждал в воздухе, сидел неподвижно, пока видение не рассеялось. Из-за этих наваждений он перестал доверять своей памяти.
Он остановился прикурить и во тьме, сгустившейся еще плотнее после того, как спичка погасла, увидел яркие огни городка. Но дорожка меж черных деревьев привлекала его сейчас больше, и он снова зашагал по ней. Он не видел Мими уже неделю, что само по себе было тяжко, а если учесть, как разжигала его каждая встреча с ней, – просто невыносимо. Офицер связи отказался выдать постоянный ночной пропуск, потому что догадывался, зачем это ему. Трех долларов в день только и хватит, чтобы раз в неделю побывать в платном танцевальном зале «Бостонские огни», где работала Мими; вернуться полагалось не позже часу ночи. Со всех сторон его опутывали ограничения, изобретенные каким-то гением устава: разрешение на то, разрешение на это... «Ну а чего еще я ждал, когда шел в армию? Нужно было сказать: у меня старая слепая матушка, которую надо кормить, и еще, что я верю в бога и в Иисуса Христа, и еще сослаться на кучу всякой белиберды. Тогда они, может, отпустили бы меня. Подумать только, они-то там, в Англии, считали меня умным, я ведь книжки читал! Конечно, я еще правую руку от левой отличать не умел, а уже выучил сотню французских слов; а когда время по часам научился разбирать, то уже знал, как называется столица Болгарии. Бухарест, кажется?»
Бросить ключ, не закончив радиограмму, его заставило воспоминание о том дне, когда четырнадцатилетним мальчишкой он пошел наниматься на работу. «Нужно было пройти медицинскую комиссию, и врач-окулист мне сказал: «Ну-ка, взгляни на эту таблицу, сынок. Видишь, кружки на ней разорваны то слева, то справа. Вот я и хочу, чтоб ты, начиная вот с этого большого кружка, говорил, с какой стороны они разорваны – справа или слева». Ну и смеху было! Сроду я себя таким безграмотным не чувствовал, хотя работу мне это получить не помешало».
Дорога была сухая, припорошенная пылью: муссоны кончились несколько недель назад; хотя здесь и не бывает смены времен года, близилось рождество. Он шел, засунув руку в карман, думая о том, что такой же валкой походкой ходит отец, хотя вряд ли кто-нибудь, кроме него самого, мог бы заметить это теперь, после строевой муштры на английских плацах. Но походка осталась прежней, и он порадовался этому, шагая в темноте, так как это подчеркивало его собственное «я», отделяя его от лагеря, казармы и всего, что с ними связано. Мимо, точно призрак, прошел малаец в белых шортах и тропическом шлеме, и Брайн сказал ему по-малайски «Добрый вечер», так что каждый из них мог убедиться, что мимо прошел человек, а не призрак. Приветствие осталось без ответа, и Брайн даже усомнился, что его можно понять, когда он говорит по-малайски. Он знал, как называются у малайцев дни недели, умел считать, выучил несколько слов, обозначающих еду и напитки, да еще два-три глагола, вот и все. В лагере у них был кружок по изучению малайского языка, но он никак не мог заставить себя посещать занятия, не мог относиться всерьез к изучению этого языка, отчасти потому, что считал малайский не таким важным языком, как, скажем, французский или испанский, а отчасти просто потому, что не хотел утруждать себя. Он знал, что выучиться было бы нетрудно: слова можно нанизывать одно к другому, не беспокоясь о сложностях грамматики, о которой он вообще не имел ни малейшего представления.
Недалеко отсюда были Патанские болота, и запах гниющих овощей, кислый и в то же время горько-сладкий, смешивался с запахом рыбы и риса, которые готовили на жаровнях в хижинах, разбросанных среди деревьев. Бунгало было за вырубками – большой дом на сваях с полудюжиной комнат. Полы в нем прогнили, а крыша из пальмовых листьев текла во время дождя. И все же, когда он пил чай в комнате у Мими или лежал, положив голову ей на колени, погруженный в приятное забытье, когда запах курений, которыми пропитались здесь самые стены, наплывал на него волнами, этот дом начинал казаться ему последним убежищем, – каким-то непостижимым образом дом этот напоминал ему о его прежней жизни, оставшейся так далеко в прошлом, что он не мог воссоздать ее в памяти и уж тем более выразить словами.
Он увидел свет в угловом окне: это комната Мими. Вдова китаянка, сдававшая ей комнату, отправилась в Муонг, она ездила туда каждую неделю и должна была вернуться только с последним паромом, а к этому времени Брайн уже обязан был вернуться в лагерь. Он не пошел к крыльцу, а, пользуясь уловкой, к которой прибегал, когда вдова бывала дома, отправился к черному ходу, пробравшись через запущенный садик и испытав на какое-то мгновение панический страх, когда ему вдруг показалось, что он наступил на змею. «Ладно, может, она уже мертвая», – успокаивал он себя, пробираясь вдоль веранды. Надеясь, что Мими не слышала, как он подошел, Брайн заглянул в незашторенное окно и увидел, что она лежит на постели в одних пижамных брючках. Казалось, она просто глядит в пустоту, но, проследив за ее взглядом, он увидел на потолке маленькую ящерицу, охотившуюся за насекомыми.
– Почему ты не влезаешь сюда? – спросила она, не поворачивая головы. Он не отвечал. – Отсюда тебе лучше будет видно ящерицу, – сказала она тихо и настойчиво, так что ему трудно было не подчиниться.
Он оперся локтями о подоконник и улыбнулся.
– Я и отсюда ее вижу. А то спугну, если войду. Вид у Мими был обольстительный: волосы короткие, черные, лицо круглое, с чуть желтоватой, но свежей, юной кожей, веки тяжелые, неподвижные. «Как куколка», – хотелось ему сказать вначале, но это годилось только для развлекательных книжек, какие доставались ему, бывало, на рождество, и для малоправдоподобных описаний из учебника географии, по которому он учился в своей никудышной школе. Он вспомнил, как в самый первый вечер танцевал с ней в «Бостонских огнях», как они разговаривали и пили рюмку за рюмкой и какой она была желанной, когда он смотрел на ее рот, красиво подчеркнутый помадой, ее раскосые глаза, взгляд которых в те секунды, когда они оба молчали, казался таким пустым, что его охватывал страх перед пропастью, которая их разделяет. С тех пор прошло несколько месяцев, и он знал теперь, что пропасть, разделявшая их тогда, была ничуть не шире той, что разделяла его и Полин более четырех лет назад там, в Ноттингеме, в самом начале их долгого и отчаянного романа. «Даже здесь я не могу вырвать ее из памяти, а впрочем, я ведь женат на ней, что же тут удивительного?» Его мучили эти невольные переходы в мыслях, точно в волшебном фонаре, – от одной к другой, от Мими к Полин, и потом снова сюда, в сегодня, – к Мими, потому что долго вспоминать о жене было мучительно больно, словно кто-то проводил по его легким острым, как бритва, лезвием, – его мучило то, как быстро он предал Полин, едва они расстались.








