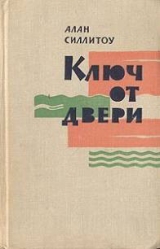
Текст книги "Ключ от двери"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– Я не слыхал, как вы подъехали, – сказал он, разглядев черную тень джипа под антеннами, – работал на передатчике.
Они огляделись. Сержант, маленький, юркий, с рожей, как у Аль-Капоне, держал наперевес автомат.
– Дежурный офицер! – рявкнул он так, будто ожидал, что Брайн вскочит по стойке смирно и набросит парадную шинель на голое тело, замасленные шорты и незашнурованные домашние туфли.
– Вы здесь один? – спросил дежурный офицер.
Это был офицер военно-воздушных сил, высокий, рыжий еврей лет тридцати с лишним, похожий скорее на Голиафа, чем на Давида, с классической фигурой деревенского кузнеца. Брайн кивнул.
– А зачем тут эти жестянки вокруг будки? – спросил сержант. – Я чуть ноги не поломал.
– Какие жестянки? – спросил Брайн, сразу превращаясь из просвещенного радиооператора в рэдфордского деревенщину.
Офицер взглянул на приемник.
– Самолеты есть?
– Сегодня нет, – сказал Брайн и добавил: – сэр, – когда Аль-Капоне злобно взглянул на него.
– А где ваша винтовка?
– У меня ее нет, сэр. У нас, радистов отдаленных станций все отобрали на случай нападения бандитов, чтоб винтовки им не достались.
– Наверно, вам без нее не очень-то весело, – сочувственно сказал офицер.
Мне все равно.
– А зачем ты дверь запираешь? – спросил Аль-Капоне.
– От насекомых.
– Душно здесь? – Брайн молчал, пока Аль-Капоне осматривал помещение с таким видом, будто шел в бордель, а попал вместо этого в свинарник. – Как у вас, все хорошо? – спросил офицер.
– Да, сэр.
– Телефон работает?
– Да, сэр.
– Довольствие из кухни получаете?
– Да, сэр. Все хорошо.
– Что они дают вам?
Брайн перечислил: полбанки сгущенки, немного сахару, чай, булку и банку сардин.
– Хватает?
– Вполне, сэр.
Офицер повернулся, чтобы уйти.
– Если что-нибудь понадобится, звоните мне на контрольную вышку. Я там буду всю ночь.
Брайн смотрел им вслед. В первый раз дежурный офицер надумал выбраться дальше бара в офицерской столовке. «Может, их все-таки беспокоит, что меня тут застрелят». Усталость снова овладела им, и глаза у него щипало, как от креозота. «Плевать я хотел, если даже все партизаны на свете ползут сейчас к этой рубке, чтоб спалить ее к чертям, или если все самолеты над Малайей надорвут глотки, посылая сигналы бедствия, – все, я выдохся». Он закрутил до отказа регулятор громкости приемника, растянулся на столе и погрузился в сон до утра.
Он читал все газеты в надежде узнать, как протекает эта «война». Так называемое «чрезвычайное положение» дало возможность ввести военно-полевой суд, и Брайн с некоторым замешательством обнаружил, что все эти перемены касаются и его. А поскольку другие в лагере тоже чувствовали некоторое замешательство, к ним даже приехал из Сингапура офицер отдела пропаганды, чтобы прочесть лекцию о политическом положении. Это был худой, высохший человечек средних лет в безукоризненно чистой синей рубашке и бежевых брюках – в них он выглядел неофициально и оделся так с расчетом, что это понравится слушателям, которым надоела защитная форма. С этой лекцией, называвшейся «Успехи англичан в Малайе», он уже выступал во всех лагерях на побережье, и потому ко времени, когда лектор добрался до Кота-Либиса, он уже сильно понаторел в этом и выработал определенное положение челюсти и выражение стальных глаз, с тем чтобы под суровой убежденностью как-то скрыть собственное неверие в то, что говорит. И, даже если то, что он говорил, не казалось ему самому убедительным, он был достаточно умелым оратором, способным убеждать наименее требовательных слушателей. Столовая была битком набита людьми, которые собрались послушать, как он будет излагать официальную точку зрения на малайское восстание: после краткого вступительного слова начальника штаба лектор первые двадцать минут рассказывал о том, как англичане заполучили Малайю, как они избавили ее от эпидемий и установили здесь совершеннейшую систему связи и сообщения, заставили отступить дикое морс джунглей и дали стране каучук. Затем он перешел к текущим событиям.
– Война была, если можно это так назвать, объявлена 15 июня, – начал он. – В Ипо состоялось срочное совещание ста перакских управляющих каучуковыми плантациями, и там было решено просить сэра Эдуарда Гейта (верховного комиссара, как вам известно) объявить здесь чрезвычайное положение ввиду участившихся нарушений закона. Плантаторы объясняли это слабостью гражданских властей и пропагандой политических агитаторов-коммунистов, повинных также в подстрекательстве к убийствам, которые имели место и в остальной части полуострова. Примерно в это же время на руднике около Ипо застрелили управляющего, когда он выплачивал жалованье рабочим, и было украдено две тысячи четыреста долларов. («И десять тысяч человек умерло в тот месяц от голода», – сказал кто-то рядом с Брайном.) «Стрейтс тайме» сообщала также о том, что около Ипо убиты три английских плантатора. Их захватили коммунисты-китайцы, вооруженные автоматами, привязали к стульям и буквально изрешетили пулями. Семьям европейцев было приказано немедленно выехать, однако сделали это лишь очень немногие. Был издан закон, предусматривающий смертную казнь за тайное хранение огнестрельного оружия («Совсем как закон 1939 года. когда немцам в Англии запретили иметь оружие», – подумал Брайн) – закон, который хотя и был необходим с юридической точки зрения, но вряд ли мог задержать наступление, волной надвигавшееся из джунглей. В такой стране, как эта, несколько тысяч человек, если они решительны и находчивы, могут продержаться очень долго, нанося противнику большие потери. К ним постоянно подходят подкрепления из Южного Китая, по тайным путям в джунглях через Индокитай и Сиам. Британские подданные в Малайе живут в настоящий момент в тяжелых и опасных условиях. Бунгало – как вам всем, наверно, известно – превращены в маленькие крепости, в передовые посты на краю джунглей, охраняемые днем и ночью, огражденные колючей проволокой и мешками с песком. Плантаторы работают, вооруженные винтовками и автоматами, они вместе со своими семьями проявляют в этих тяжких условиях подлинно английскую стойкость, которая всегда оказывалась неожиданностью для врагов. Коммунисты надеялись, что в Пенанге и Сингапуре толпы людей в панике бросятся к судам, но просчитались. Однако мы не должны недооценивать коммунистической угрозы в Малайе. Эти люди обладают весьма действенной, хорошо организованной и дисциплинированной армией, которая движется в боевом порядке, руководимая опытными офицерами из удобных и хорошо замаскированных штабов. Их план – задушить каучуковую промышленность Малайи, парализовать ее экономику и разрушить цивилизацию, создававшуюся здесь англичанами на протяжении полутораста лет. В ответ на эту угрозу принимаются эффективные меры.
После лекции посыпались, всякие неприятные вопросы, например: «Поскольку это похоже на народное восстание, не лучше ли англичанам убраться отсюда, пока не пролито слишком много крови?» Или: «Действительно ли будет так плохо для британской экономики, если мы потеряем Малайю?» Лектор отвечал спокойно и разумно, хотя под конец в задних рядах раздался какой-то шум: сидевшие там хотели показать лектору, что он их не убедил. Повар-шотландец, сидевший рядом с Брайном, сказал, что их депутат в парламенте коммунист, так что правильно ли утверждать, будто все коммунисты – это зло? «И наш тоже, – сказал один лондонец, – его фамилия Пиратин, мой отец голосовал за него». В заключение лектор сказал несколько слов о разнице между теми коммунистами, которые избираются на государственные посты, как в Англии, и теми, кто желает насильно захватить страну вопреки воле большинства, как в Малайе.
Винтовки были заперты в казарме, их составили в пирамиду и прикрутили продетой сквозь скобы проволокой. Ключ от замка лежал в кармане у капрала, который очень любил поспать, и Брайн заметил:
– Интересно, быстро ли мы приготовимся к бою, если в одну мирную темную ночь на лагерь вдруг нападут.
– Он спит так крепко, – ответил Керкби, – что можно стибрить ключ и загнать винтовки бандитам. Вот гульнули бы тогда.
– Если бы ты сделал так, самое лучшее для тебя было бы удрать через границу в Бангкок, – сказал Бейкер.
– Да ведь это ж воровство! – крикнул кто-то Керкби. И ему оставалось только повторить свое жизненное кредо:
– Если что-нибудь плохо лежит, припрячь. Не можешь припрятать – продай. Не можешь продать – сожги.
Брайн принял душ и переоделся, собираясь на свидание к Мими в «Бостонские огни», и теперь, освеженный, принарядившийся, он шагал к воротам лагеря. Уже загорелись первые звезды, но раскидистые вершины пальм еще чернели на фоне густой синевы. Позади шумел лагерь, и, когда Брайн остановился, чтобы закурить сигарету, из ворот вылетел грузовик и помчался к аэродрому. У ворот стояли на посту малайские полицейские и прогуливались несколько рикш, предлагавших подвезти до городка. И вдруг странные звуки взметнулись в воздухе, словно какой-то сумасшедший решил исполнить музыку собственного сочинения на сиренах. Звуки эти возникли где-то на дороге, это была странная и какая-то нездешняя музыка, нарушившая вечернюю тишину малайского заката. Кончики пальцев у Брайна похолодели, по ним словно пробежал электрический ток, а ноющий звук все нарастал, порхая меж деревьев, окаймлявших шоссе. Другие прохожие тоже останавливались, как бы ожидая приближения этого чудища, шагавшего к ним на двух сотнях ног под визг и вой оркестра.
– Это гуркхи! – крикнул кто-то.
Группа китайцев и малайцев стояла у ворот, глядя на них: солдаты старательно отбивали шаг под музыку, мрачные звуки которой сплетались в какую-то загробную мелодию. Они остановились между казармами и столовой, и музыканты все играли, а солдаты маршировали на месте. Наконец визгливое «Стой», точно выключатель, прекратило автоматическое движение рук и ног, и обстановка в лагере, казалось, сразу переменилась: атмосферу настороженного веселья сменила атмосфера войны.
В «Бостонских огнях» Брайн купил целую кучу билетиков, но не танцевал, а сидел с Мими за столиком. Он заговорил о будущем и, прежде чем успел понять свою ошибку, зашел слишком далеко в этом разговоре.
– Теперь мне легко остаться здесь и не возвращаться в Англию, – сказал он, неудачно выбрав минуту, когда ей, видимо, не хотелось этого слышать, а оркестр, как нарочно, загремел в свои жестянки, словно стараясь заглушить его слова. Мими, подкрашенная, казавшаяся совсем юной в этот вечер, отодвинула от себя сумочку, затем потихоньку снова придвинула ее ближе, глядя прямо перед собой; сумочка упала ей на колени.
– Это будет очень трудно сделать. Ты только говоришь об этом так легко. И ты знаешь, что я сама этого не хочу.
– Не старайся меня поймать, – сказал он, опрокидывая в рот рюмку виски. – Я что думаю, то и говорю.
Выражение лица у нее было совершенно пустое и печальное («А может, просто усталое?» – подумал он), и все же ему показалось, что где-то в глубине ее глаз промелькнула улыбка. «Я пьянею», – сказал он себе, улыбаясь так нежно, что Мими погладила его руку.
Она сказала:
– Может, ты боишься возвращаться в Англию?
Оркестр после перерыва разразился новой серией фокстротов, таких расслабляющих – хоть они всем и нравились – в этот душный и влажный вечер.
– Неправда! – воскликнул он с такой убежденностью, что, вспоминая об этом потом, даже сам задумывался, а не было ли тут доли правды. Мими опустила глаза. – Уж если я в двадцать лет не знаю, чего хочу, то когда же? – сказал он.
Он подозвал официанта и попросил еще два виски, но Мими потребовала апельсинового соку. Она пила только слабые напитки, когда разговор их становился «серьезным», он же, напротив, пил только виски, и, по мере того как серьезность его исчезала и другие желания загорались в нем, Мими все больше и больше впадала в свой обычный грустный фатализм, а это неизбежно вызывало взаимное непонимание. И в то же время он подозревал, что никакое обычное земное решение, вроде того, к какому они старались прийти сейчас, не имело бы существенного значения в ее жизни, так как она жила в мире, где только те решения обретают силу и значение, которые приходят сами по себе, – сколько ты ни сжигай себе нутро этим рисовым виски и сколько ни сиди над охлажденным апельсиновым соком. И он чувствовал это и знал заранее все выводы, к которым это должно было привести, и все же здесь, в битком набитом танцзале, когда он сидел напротив нее и голова у него пухла от грохота джазовых мелодий, искалеченных здешним оркестром, ему уже начинало казаться, что он готов прожить всю жизнь под сказочным солнцем Малайи.
– Всех наших, кто демобилизуется, вызывали к офицеру и спрашивали, не хотим ли мы остаться в авиации еще на два года. Так что я всегда могу согласиться.
– Нет, не можешь, – сказала она. – Ты не из таких! Ты для этого не годишься, ведь я немножко узнала тебя за это время.
– Может, и так. Офицер спросил, есть ли у него какие-нибудь жалобы теперь, когда ему уезжать через месяц. «Нет, сэр»,– ответил он. Какой идиот скажет ему да? «Что ж, – заученно продолжал офицер то, что говорил всем, – в этот трудный момент нам нужны здесь, в Малайе, все наши обученные солдаты, а офицеры связи говорят, что вы один из лучших радистов. Не хотели бы вы остаться еще на два года?» Вопрос этот не был для него неожиданностью: Бейкер побывал тут до него и вышел оскорбленный и побледневший. Поэтому у Брайна уже был готов ответ – текст, заранее составленный в уме: «Нет, сэр, – пауза, – не хотел бы». И неподвижное лицо офицера, на котором дрогнули усы, похожие на велосипедный руль, как бы зарегистрировало эти слова. «Тогда можете идти, Ситон», – отрезал он.
– Если б я остался, – сказал он Мими, – я, может, сумел бы помочь коммунистам.
Она усмехнулась:
– Им сейчас не особенно нужна помощь.
– Но через несколько месяцев она может понадобиться, как знать?
– В Малайе почти все на их стороне, – сказала она.
– Тогда, надеюсь, они победят. У них даже своя радиостанция есть, правда? Они пытались глушить нашу военную связь своим передатчиком. И мне приказали вчера засечь их станцию, чтобы самолеты нашли ее и разбомбили, но я не особенно точно это сделал. Даже совсем не точно, – улыбнулся он.
– Эта война тебя не касается, – сказала она. – Тебе надо уехать отсюда как можно скорее.
– Ну, как сказать. Меня против воли загнали в авиацию, а теперь хотят заставить воевать против коммунистов. Но я не такой дурак. Я уже кое-что узнал в жизни. Пусть сами воюют.
Она прикоснулась ногой к его ноге. Два китайца за соседним столиком прислушивались к тому, что он говорил. Потом они возобновили свой разговор, а он заказал еще виски.
– Ну так вот, – продолжал он, потратив еще один дневной заработок, – говорю тебе, я могу остаться в Малайе, если захочу.
Она смотрела на него в упор, и он знал, что теперь наконец-то он ее озадачил, а не она его и что она ждет от него каких-то действий, а не путаных рассуждений.
– Если я решу остаться в Малайе, мы могли бы пожениться.
– Ты не можешь жениться на мне. И никогда не мог бы, сам знаешь.
Виски, музыка, голоса, пестрый калейдоскоп красок н мучительное ощущение близости, оставляющее их двоих как бы в светящемся круге, ощущение, вызванное совершенно различным видением мира у них обоих (то, что для него черное, для нее белое, и наоборот), – все это хлынуло на него таким потоком, что он еще ниже пригнулся над столом, как бы стараясь защититься.
– Неправда! – закричал он. – Ей-богу, неправда, мне хочется этого больше всего на свете.
Тогда она напомнила ему то, о чем он никогда ей не говорил и о чем, как ему казалось, она не знала:
– Тебя в Англии ждут жена и ребенок. – Ее слова были до того неожиданны, что спасительная ложь не сразу пришла ему в голову. Он сидел и молчал, мрачно глядя на нее. – Ты думал, я не знаю! – Он был удивлен, что она с такой легкостью восприняла это предательство, за которое женщина из Рэдфорда, наверно, задушила бы его. – Я уже давно знаю об этом. Я танцевала как-то с одним солдатом из Кота-Либиса, и он все рассказал о тебе. Я думала, ты знаешь. А самому тебе никогда и в голову не пришло рассказать мне, что ты женат; наверно, жалел меня.
– Да, конечно.
Он слишком поспешно согласился с этим, чувствуя, что река веселья, огибающая их и текущая по залу, мелеет, вот-вот совсем иссякнет, и только оркестр, неутомимый, как машина, продолжал греметь. На лице Мими застыло выражение горя, он тоже чувствовал себя несчастным и кругом виноватым – не мог придержать язык или сказал бы по крайней мере что-нибудь другое и, воспользовавшись своими шестью билетиками, закружил бы ее в танце.
Он вытащил ее на середину зала, где пахло потом и виски, и они завертелись под рявканье джаза. Руки Мими легко касались его, словно она танцевала с ним первый раз. Он танцевал, как матрос, который никогда в жизни не учился этому, шагая неуклюже и невпопад. И все же они стали двигаться в такт, когда он медленно притянул ее к себе. Она вдруг прильнула к нему, словно какое-то видение испугало ее.
– Брайн, – запинаясь, проговорила она, – не уезжай, хорошо?
– Не уеду.
Они крепко прижались друг к другу, связанные самым темным и сокровенным, что было в них. Шум и музыка были забыты, остались в том мире, откуда они ушли, искусственные стандартные ритмы казались чуждыми и неуклюжими в сравнении с ритмической теплотой их объятия. Он чувствовал все изгибы ее тела, ее плечи и грудь»
– Я люблю тебя, – сказал он. – Мне кажется, что я прожил с тобой долгие годы, всю жизнь.
– Не говори так. Ведь еще не все кончено, правда? Он поцеловал ее в закрытые глаза.
– Отчего ты плачешь?
Отчаяние снова охватило его, камнем встало у него внутри, неизбежное и неотвязное, словно место для него там было приготовлено с рождения. Она нахмурилась, и губы ее скривились в некрасивую детскую гримаску, которую она пыталась скрыть. Шум и спиртные пары нарушили волшебство, и вот уже снова вернулись неожиданные, но такие обычные гудки машин и пароходов – оттуда, из другого мира, лежавшего где-то далеко от «Бостонских огней». И вдруг вошел Нотмэн, появился в рамке дальних дверей, и с ним какая-то девица, великолепная, словно черный цветок, и они стали пробираться к бару. Мими и Брайн снова стали танцевать, тесно прижавшись друг к другу.
– Ты закружишь меня, – сказала она. – Мне станет нехорошо.
– Потерпи до парома. Ты ведь едешь со мной?
– Ты же знаешь!
К концу танца они развеселились и остались посреди зала, ожидая нового.
– Ты похудел с тех пор, как мы познакомились, – сказала она. – Ребра так и торчат.
– Это ты виновата, ты как магнит, даже ребра тянутся к тебе.
– Сумасшедший, – улыбнулась она. – Так не бывает.
– Сумасшедший, – повторил он. – Я как слепой трехногий прусак.
– А что такое прусак?
– Таракан. Жук такой.
А в Англии жуки тоже есть?
– Конечно. Там есть и змеи, и леса, и дикие звери, и горы, города, болота, широкие реки. Не веришь? Что ж, я не могу доказать это сейчас, и все-таки я говорю правду, чистую правду.
– А если так, почему же ты хочешь остаться в Малайе?
– Потому что... – Если не можешь найти ответа, придумай что-нибудь, любая ложь лучше, чем молчание. Когда его еще мальчишкой спрашивали братья: «Какой самый большой город в Австралии?» – он предпочитал ответить: «Париж», чем сказать: «Не знаю». – Потому что люблю тебя.
Но слезы все равно выступили у нее на глазах, и никакая ложь не могла остановить их и даже никакая правда, ибо то, что он сказал, было и впрямь наполовину ложью и наполовину правдой.
– Когда мне сказали, что ты женат, я не поверила. Я подумала: этот солдат лжет или разыгрывает меня. Но теперь ты сам подтвердил все.
Он только глазами хлопал, удивляясь этой неожиданной, так поздно пущенной в ход уловке, и не мог ничего ответить на хитрость, причинившую ей не меньшую боль, чем ему.
– Прости меня, – сказал он, но было уже поздно. Он вывел ее из обычного состояния пассивной покорности и понимал, что она не может простить ему этого. – Я останусь здесь, – сказал он. – Я хочу остаться. Я просто не могу поступить иначе.
И, танцуя с ней, он представил себе, как они живут в каком-нибудь доме, вроде дома вдовы китаянки на краю Патанских болот, где крик лягушек и ночные шорохи приглушают все чувства, погружают их в забытье после этого грохота и рева труб, заставившего его сегодня потерять голову.
А назавтра всех, кто поднимался на Гунонг-Барат, разбудили в пять часов утра. Рука сержанта полиции, дежурившего в караулке, вырвала Брайна из застенка сна, заставила поднять голову, налитую свинцовой усталостью. Накануне он провожал Мими и пробыл у нее до двух ночи, а потом прошел от городка до части, через все заставы, и был рад, когда добрался до койки, не получив пулю. Это было настоящее приключение, ему зачастую приходилось ползти на четвереньках по тропкам и прибрежным пескам, обходя малайские патрули: солдаты мирно курили и рассказывали какие-то истории у костров, но в любую минуту ждали появления партизан и вполне могли принять Брайна за одного из них. «Жить здесь становится все труднее, – сказал он себе. – Если меня не подстрелят по ошибке, то донесут дежурному офицеру, что я гуляю без увольнительной. Я тут и сам себя чувствую, как партизан, во всяком случае, я буду похож на него, когда начну отстреливаться».
– Вставай, – приказал сержант. – Вылезай из этой вонючей дыры. Тут для вас в джунглях дело есть.
– Что там стряслось? – спросил Брайн, подозревая, что над ним решили подшутить. – Ведь еще совсем темно.
– Самолет разбился, пойдете его искать. – Он поднял Керкби, Бейкера, Джека и еще одного паренька из Чешира. – Живее, пошевеливайтесь. Время не ждет.
Брайн сел на койке, но не вставал, до тех пор пока мимо не прошел уже одетый Нотмэн.
– Одевайся. Надо помочь этим беднягам. Там в радиомехвзводе уже готовят для нас грузовики и рацию.
Брайн натянул штаны.
– Чего ради этим психам вздумалось разбиться среди ночи? В жизни я еще так не уставал.
– Что ж, по-моему, ты пользуешься жизнью вовсю,– сказал Нотмэн. – Пошли. Вот увидишь, ты еще наплачешься, пока тебя в Сингапуре на корабль погрузят.
– Если б они для этого меня разбудили в такую рань! Нотмэн кинул ему сигарету.
– Схожу к связистам и выясню, где он там упал. Сержант вернулся.
– А ну-ка, поживее. Марш на кухню, там вас накормят завтраком и паек выдадут.
– Надолго нас посылают? – спросил Бейкер.
– А я почем знаю! – заорал сержант. – Сейчас свяжусь с господом богом и выясню, если это для вас так важно.
– Еще бы не важно, – сказал Бейкер. – Недели через две нам отсюда уже отплывать, корабль отходит.
– Пошевеливайся! – крикнул сержант. – А то ты у меня на пятьдесят шесть дней под замок сядешь, и плевать я хотел на твой корабль.
Они спустились с крыльца и не торопясь пошли на кухню завтракать, а потом у них еще осталось время поболтаться немного в казарме. Брайн сгорал от нетерпения.
– Они там настраивают радио, – пояснял Нотмэн. – Я был в радиорубке, они считают, что самолет упал милях в тридцати к югу отсюда.
– А эти бедняги тем временем висят на деревьях, истекая кровью, – сказал Брайн.
Он вынул библию из тумбочки соседа, открыл ее и ткнул пальцем наугад в какой-то стих, чтобы погадать о будущем, как в одном из фильмов, который он видел несколько дней назад: «И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капище идолов своих и народу». «Какому народу? Дурацкое гадание. Ни черта не пойму, да и вообще я ведь не суеверен». Он уложил свой вещевой мешок, весивший на этот раз не больше сорока фунтов. Ему еще нужно было упаковать рацию, если только радиомеханики сумеют ее наладить, потому что другой в лагере нет. Он открыл библию и снова наткнулся на стих: «И отсекли ему голову...» Все время открывается на этом месте, у нее с переплетом что-то неладно, и она будет открываться на этом месте до бесконечности, если только нарочно не избегать его, а он не хотел его избегать, потому что чем больше он вчитывался, тем больше закрадывался ему в душу скрытый смысл текста. И он уже начал было понимать, но тут шофер просунул голову в дверь и крикнул, что пора ехать.
20
Получив свой первый отпуск еще в ту пору, когда его муштровали в глухом углу Глостершира, Брайн почти весь день потратил на то, чтобы добраться до Ноттингема, и в город попал только под вечер. Выбравшись на просторные плоские низины Трента за Брумом, он почувствовал такое волнение, что не мог даже съесть бутерброды и пирожное, купленные на последней остановке. Коровы, словно темные точки, усеивали берег мирной, обмелевшей реки, солнце еще освещало набитый людьми вагон, и он чувствовал, как с каждым перестуком колес приближается к Ноттингему. Волнение его было вызвано не столько предстоящей встречей с Полин, сколько каким-то внутренним чувством, говорившим ему, что сейчас он снова затеряется в паутине ноттингемских улиц, таких милых и знакомых.
Выпив с матерью и отцом чашку чаю, он на двух автобусах добрался до Эспли, где жила Полин. Может, по счастливой случайности она сейчас дома одна, и тогда они смогут поваляться на кушетке или на какой-нибудь кровати наверху; или же можно пойти в «Могучий дуб» и потом полежать где-нибудь на сухой лужайке среди пахучей летней травы.
Но вся семья оказалась дома, за ужином, будто они специально ждали его, хотели с ним увидеться после первых полутора месяцев отупляющей муштры на службе королю и отечеству. Никогда не выходит так, как задумаешь, и он должен был это предвидеть. Миссис Маллиндер налила ему чаю в любимую чашку бедняги Маллиндера, вмещавшую добрую пинту, как бы подчеркивая этим, что он теперь уже свой в семье. Четырнадцатилетняя Морин читала у огня «Оракула», еще по-детски угловатая, с маленькой высокой грудью и тонким слоем помады на губах, совсем как Полин в пятнадцать лет, когда он только начинал за ней ухаживать. «Они все такие хорошенькие»,– подумал он, начиная, впрочем, испытывать все большую неловкость под пристальным взглядом матери и замечая при этом, что, хотя они сидели впятером, за столом было довольно тихо.
– Видно, нелегко тебе пришлось там, в авиации, – сказала Бетти с едва заметной улыбкой. – А кормят хоть вас хорошо?
– Неплохо. Иногда, впрочем, дают настоящие помои.
Полин почти все время молчала. Сидя в конце стола, она открывала банку варенья, и волосы падали ей на лицо. Но Брайн был увлечен сытным ужином и нисколько не беспокоился. Да он и не ожидал торжественной встречи.
После ужина он предложил Полин прогуляться.
– Ты лучше скажи ему, пока не поздно, – услышал он голос миссис Маллиндер, – как-нибудь порешите.
Когда они вышли на Ковентри-лейн, она наконец сказала:
– У меня будет ребенок.
Они остановились, и он, пораженный, прислонился к каким-то воротам. Даже военная служба не поколебала настолько весь его внутренний мир, не потрясла его так, как это известие. Вся его жизнь нарушилась, расплылась н завертелась перед глазами, как огненное колесо. Он зажмурился, но тут же сообразил, что такие известия полагается воспринимать иначе; он открыл глаза, взглянул на зеленое поле, уходившее к могучей стене Кэтстонского леса, над которым виднелась туманная зеленоватая полоска неба, и, несмотря на свое смятение, подумал, что солнце уже заходит.
– Что ж, пойдем, – сказал он с глубоким вздохом. – Ну и ошарашила же ты меня.
– А мне-то каково было про это узнать, – сказала она, побледнев и плотно сжав губы.
Она стала какой-то чужой после полутора месяцев разлуки, и он чувствовал, что так они не будут ближе друг другу. Он вспомнил, как поженились Джоан и Джим: все произошло месяца три назад, когда Джоан сказала Джиму, что она беременна, а к тому времени, как она выяснила, что тревога была напрасной, они были уже помолвлены, однако никто из них не стал поднимать из-за этого шум или откладывать свадьбу. И Джим тогда сказал Брайну, что, когда человек помолвлен, люди на него смотрят с большим уважением и относятся к нему, как к взрослому. Но Брайну все это было ни к чему, и теперь он подумал, не обманывает ли его Полин, говоря по примеру Джоан, что беременна, просто для того, чтобы заставить жениться.
– Мама как-то утром увидела, что меня тошнит, и я сказала, что это просто желчь разлилась, но, когда она заметила, что это продолжается целую неделю, то потащила меня к врачу. Я вообще-то почти наверняка знала, потому что прошли все сроки. И все же надеялась, вдруг это что-нибудь другое, а теперь вот...
Она улыбнулась, и он понял, что она вовсе не думает вынуждать его к помолвке, как это сделала Джоан.
– Дело дрянь, – сказал он, робко улыбаясь ей в ответ. Он не знал, смеяться ему или плакать, его лихорадило.
– Да, дело дрянь, если ты так смотришь на это, – ответила она.
Они шли, взявшись за руки, по иссиня-черному мраку аллеи, и холодный ветер дул им в лицо. И тогда он сказал, не подумав – во всяком случае, он еще только думал, сказать или нет, и вдруг решился сказать, не размышляя:
– Надо готовиться к свадьбе.
– А ты этого хочешь? – спросила она ровным, спокойным тоном, будто речь шла о чем-то совсем постороннем.
Он сжал ее руку.
– Да, представь себе. И, если ты согласна, мы поженимся.
Она усмехнулась.
– Может быть, ты просто считаешь, что обязан это сделать?
– Мы достаточно давно встречаемся!
– И все же мне жаль, что это выходит как-то по необходимости. Не люблю, когда что-нибудь делают по необходимости, понимаешь?
Он обиделся.
– Это ты к чему?
– Сама не знаю. Просто по-другому было бы лучше.
– Может быть.
– Не в том дело, что мне хочется обвенчаться с тобой в церкви и все такое, – сказала она. – Это давно устарело. Раз уж мы с тобой живем, то какая разница?
– Да, это так, – согласился он, – хотя не думаю, что твоей маме и Бетти это особенно понравилось бы.
– Милый, но ведь главное – это мы с тобой, правда? В наше время редко кто в церковь идет венчаться.
– Конечно, – сказал он. – Надо бы нам в «Могучий дуб» сейчас зайти, отметить это событие, отпраздновать. Это ведь считается праздником, помолвка-то. – Он пытался отделаться от засевшего в нем чувства, что его поймали, заманили в ловушку, навалили на него бремя ответственности.
– Я б рада выпить с тобой, только сейчас и смотреть не могу на спиртное.
– Да я и сам... – Он был доволен тем, что она испытывает то же смутное чувство. – Может, завтра, – сказал он. – Хотя особенно спешить незачем.
– Конечно, но и тянуть особенно мы не можем.
– Я обо всем позабочусь, не беспокойся. Возьму отпуск и все такое.
– Ну что ж, если только ты не сбежишь, – сказала она полусерьезно, чтобы посмотреть, как он это воспримет.








