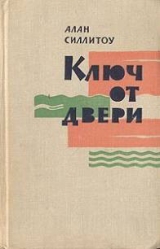
Текст книги "Ключ от двери"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Он работал теперь еще быстрее, чем раньше, побуждаемый какой-то внутренней силой, вонзая лопату в последние футы золы, насыпая ее в лоток и собирая ладонью остатки, которые неудобно было сгребать лопатой.
День уже кончился; сегодня он не видел, как рассвело, и не увидит, как стемнеет. Да если каждый день так будет, скоро спятишь. Тут ему пришло в голову, что он работает слишком быстро, потому что сердце у него бьется все чаще и чаще, в горле пересохло, а руки невыносимо болят. «С чего б это? – подумал он. – И ради чего? – спросил он себя. – Ну-ка скажи мне, зачем это? Куда ты торопишься как сумасшедший? Чего ты даже не передохнешь, болван?» Он прекратил работу, вытянулся на спине, и блаженное спокойствие вливалось в его тело, точно пинта густого пива. «И что за смысл так надрываться? Сегодня не закончил, закончишь завтра».
Но ему хотелось выбраться из этого подземелья, увидеть свет, вдохнуть свежего воздуха, пройти по улицам, овеваемым ветром, хотя бы для того, чтобы взглянуть на случайную звезду над темными крышами, чтобы уйти прочь отсюда, подальше, за тысячу миль. Он открыл глаза. «Нет, я эту поганую фирму брошу. Уволюсь и пойду еще куда-нибудь, даже если придется на работу пять миль туда и обратно на велосипеде ездить. Хватит с меня». Мысль эта утешила его, и лопата снова вонзилась в золу. Он то впадал в дремоту, то оживлялся, иногда голова у него словно становилась совсем пустой; он не сознавал даже, что продолжает думать о работе или о своем решении бросить ее, но какая-то искра вдруг вспыхивала в нем, и он начинал работать еще быстрее, чем раньше, яростно отбрасывая золу со своего пути.
Чья-то чужая лопата мелькнула перед его лицом и отбила кусочек кирпичной кладки, и вдруг где-то прямо перед ним в темноте загремел голос Билла Эддисона:
– Черт меня подери, если это не старина Брайн! Наконец-то мы покончили с этой дрянью!
Обняв друг друга, они хохотали, радуясь своей победе.
15
Сидя в пустой лагерной библиотеке за кружкой чаю, которую поставил около него на стол слуга-малаец, Брайн развернул полевую карту Пулау-Тимура. Из Сингапура прибыла новая группа радистов, наконец-то ему предоставили двухнедельный отпуск и отправили в лагерь отдыха в Мьюке. Он только что освежился под душем, и солнце еще не успело пропитать потом его одежду – на нем была безупречно белая рубашка и шорты, которые всего час назад принесла из стирки прачка-китаянка; палец его, скользнув от Муонга по береговой линии, остановился на Мьюке – окаймленном пальмами заливе напротив Гунонг-Барата, который отделен от него полосой воды всего в несколько миль, окрашенной в разные оттенки синего цвета. Прихлебывая чай, он блуждал глазами по карте: отпечатано в 1940 году, отметил он, исторический документ, и ему припомнился этот год – там, за холмами, вдали, словно айсберг, растаявший под вечным солнцем времени, – год, когда один за другим ушли в армию его двоюродные братья Колин и Дэйв, а потом через несколько недель вернулись обратно. Они вернулись у него на глазах, когда все уходили на войну, и, как ни странно, под молчаливым любопытством, с каким он смотрел на их гимнастерки, перекинутые через спинки стула, как шкуры убитых животных, скрывалось глубокое убеждение, что они поступили правильно и хорошо. Ада помогала им, и другие родственники тоже, потому что это отвечало их натуре и их традициям. Из десятка здоровых мужчин, связанных с их семейством узами близкого и дальнего родства, только двое, уйдя в армию, остались там, и один из них был убит в Тунисе. «А мы что говорили» – таков был приговор всех остальных, которые либо дезертировали, либо устроились на военных заводах. «Это, наверно, рекордная цифра для одного семейства, – подумал Брайн. – Никто не может сказать, что мы не внесли свой вклад в борьбу за свободу, хотя, что мне делать в этой стране, ума не приложу, только вот, конечно, войны тут сейчас нет».
Его мирок, да и весь мир вообще изменились с тех пор, и. конечно, пора было измениться, хотя собственная его жизнь была похожа на остров, оторванный от родного берега. Малайя, он чувствовал это, была лишь промежуточным звеном, и его ожидали какие-то голубые дали, как в той песенке, которая за последние полгода обошла всю страну, – песенке «За голубым горизонтом»; она звучала в кафе, ее насвистывали, напевали, ее звуки, точно сладкая отрава, текли из радиоприемников. В концертах по заявкам, передаваемых малайским радио, ее просили исполнить десятки слушателей – малайцы, китайцы, англичане, и так из недели в неделю, целое море имен, их было столько, что диктор даже перестал зачитывать эти бесконечные списки, а просто ставил пленку, и сладкая музыка лилась над страной. Много недель Брайн не мог от нее отделаться. Мотив то нравился ему, то казался отвратительным, но, сам того не замечая, он насвистывал его каждое утро, шагая к рубке по взлетной дорожке с бутылкой воды и продуктовым мешком, хлопавшим по ляжкам, и скрываясь на заросшем кустарником пустыре, уходя вдаль, в никуда, в беспредельность, над которой сверкал голубой горизонт.
Посреди пустыря расчищали квадратную площадку под новую радиорубку, и он должен был помогать двум механикам распаковывать огромные ящики, устанавливать стены и крышу, антенны. Они работали втроем целыми днями, голые до пояса, потемневшие от загара. Новая рубка по сравнению со старой казалась великолепным сооружением: будет стоять на сухом месте, туда проведут электрический кабель, который проложат под землей вдоль новой дороги, и грузовик сможет подъезжать к самым дверям. Заново оборудованная радиостанция, как говорили, будет работать круглосуточно, и дежурство тоже будет круглосуточное независимо от того, есть самолеты или нет, хотя Брайн понимал, что начальству, конечно, начхать, если ты поспишь час-другой в самые тяжелые предутренние часы. Разговоры о строительстве новой станции велись уже несколько недель, и вот теперь, несмотря на плохую погоду, им все-таки привезли установку и стали собирать ее по номерам и по плану так, словно собирали модель из детского конструктора. Была установлена и новая подстанция, а на взлетной дорожке появилось несколько радарных установок. Поговаривали даже, что заменят допотопную контрольную вышку каким-то сверхпрочным небоскребом. Взлетную полосу теперь ограждали на ночь. «Будто в военное время»,– подумал Брайн, почувствовав, как у него при этой мысли сжалось что-то внутри. Да и в лагере все теперь занятые, деловитые, здесь появилась какая-то совсем новая атмосфера, которой не было, когда он сюда прибыл, – словно все они тут не зря. Он заметил это и в столовой, когда зашел туда в обеденное время, и в уборной, куда забежал по дороге в душ, прежде чем идти к Мими, и во взводе связи, где теперь работало больше связных каналов, чем раньше, да и в той особой подтянутости, которой щеголяли теперь все, кто работал в штабном корпусе. Можно было подумать, что эта проклятая война уже началась, хотя он чувствовал, что главный его бой еще впереди – ему придется воевать против дисциплины, которую хочет навязать им штаб. Связистов, дежуривших посменно, это должно было коснуться в последнюю очередь: они были освобождены от маршировки и от караульной службы, им разрешалось приходить в столовую с опозданием, если они предъявляли бумажку, которую любой предприимчивый радист мог взять у офицера связи из стола и заполнить. И если дежурный офицер, обходя казарму поздно утром после подъема, интересовался, почему радист дрыхнет так долго, прикрывшись простыней, то можно было пробурчать из-под противомоскитной сетки, что он дежурил прошлой ночью, – тогда хоть не было особого шума. Нет, учиться семь месяцев, чтобы получить радистский значок, без сомнения, стоило.
Карта была несложная, и запомнить ее не составляло труда. Он откинулся в деревянном кресле, чтобы допить чай и спокойно дождаться, пока в одиннадцать подойдет грузовик, который должен отвезти всю их компанию к острову. Двухнедельный отпуск – это тоже уже кое-что, а потом он вернется и станет работать в новой радиорубке, а там уже он будет на борту корабля, рассекающего синие волны на пути в Англию. Время идет быстрее, если впереди есть что-нибудь приятное, а когда наступают приятные минуты, сразу замечаешь, что недели и месяцы ожидания безжалостно убиты, зачеркнуты намертво и в памяти от них ничего не остается, они как сморщенная змеиная шкурка, которую иногда отбрасываешь ногой с дороги.
«Все на борт» – эта крылатая фраза стала у них лозунгом освобождения; если б он летал на «остере» или на «тайгер-мосе», он написал бы ее в небе над зеленым склоном Пулау-Тимура, а пока довольствовался тем, что посылал ее в эфир морзянкой в сравнительно свободные часы ночного дежурства, только для того, чтоб услышать, как эти начальные буквы ВНБ повторял какой-нибудь полусонный радист в Карачи или Мингаладоне – трехзвучный след трехбуквенного символа, пропетого электрическими контактами под чьей-то рукой, хоть и далекой, но разбуженной движением его сердца. Томясь на «чертовом острове» действительной службы, каждый хотел удрать домой – бросить винтовку, гаечный ключ или ключ радиста, перо или поварешку и бежать что есть духу к первому же военному транспорту с синей каемкой на корпусе. Незаметные черточки мелом на стене за конками отсекали уже отслуженные месяцы, тут же была написана дата очередной демобилизации н отъезда, и со временем это стало казаться Брайну каким-то магическим преобразованием формул, которые помогут взорвать атомы, удерживающие на месте решетку их тюрьмы.
Он отгонял пустые мысли и надежды, слишком захваченный настоящим, чтобы мечтать о возвращении в Ноттингем. Нельзя сказать, чтоб его туда не тянуло, – ведь целый год до отъезда из Англии он был женат на Полин, и, чтобы она не скучала без него, он оставил ей ребенка. Но они успели прожить вместе всего несколько недель, так что настоящей семейной жизни у них по существу и не было. Писать письма она была не большая охотница, а год разлуки – слишком долгий срок, чтобы узы, привязывавшие его к ней, остались такими же крепкими. Он не мог делать пометки мелом на спинке кровати или на стене, хотя тоже знал с точностью до одного дня, что как ни крути, а десять месяцев здесь еще пробыть придется, но для того, чтоб обнажать перед всеми эти шрамы будущего, требовалась душевная энергия, которую он не хотел так легко тратить.
Его вдруг охватило мрачное беспокойство, и он готов был разнести в клочья этот длинный, тихий барак с полками книг, потому что не понимал еще причин этого беспокойства. Грохот грузовиков, огибавших расположение мотопехоты, и топот солдат, шагавших в гарнизонный клуб, не вывели его из задумчивости. «Как это чудесно, Брайн, – сказала Мими, когда он сообщил ей о своем двухнедельном отпуске. – У тебя с самого приезда не было отпуска». Он удивился: чему она так радуется? Ведь она должна скучать по нему так же, как он по ней. Но подозрения его всегда были недолговечны, и он успокоился, когда она, нежная, заботливая, приподнялась на постели и склонилась над ним для поцелуя. И вдруг им овладело слепое, неистовое желание сделать по-своему, ненависть к этому мертвенному спокойствию, которое словно затаилось в самом ее сердце. Он прижался губами к этим неподвижным губам, чтобы разжечь ее страсть, убивая при этом свою собственную.
Она отодвинулась. Ему показалось, что она поняла все, только не подала виду.
– Меня целых две недели не будет! – крикнул он. – А тебе все равно? – И тут же пожалел, что позволил себе кричать на нее. Так нельзя – об этом говорили ему ее молчащие губы и ее глаза. Ну а как же тогда? Как, бог ты мой? Ему приходилось довольствоваться одной только постелью, а этого мало.
– Мне тоже грустно, Брайн. – Ее нежное тело придвинулось к нему, и на душе у него стало не так мрачно.– Мне не хочется, чтобы ты уезжал.
– И мне не хочется.
– Не говори так. Тебе полезно отдохнуть. И даже необходимо. Ты слишком много работал, гораздо больше других.
Может, она и права: эти четырнадцатичасовые смены кого угодно в три погибели согнут, хотя, если подумать, вроде бы ничего в них особенно трудного нет.
– Там проходит автобус из Мьюки, – сказал он с усмешкой.– Так что я смогу каждый вечер видеть тебя в «Бостонских огнях», если ты не прочь потанцевать со мной.
– Да, – отозвалась она как-то рассеянно, уйдя в себя, с отрешенностью, которую ему, наверно, никогда не сломить, хотя он не перестанет стремиться к этому.
Она придвинулась вплотную, но, ощутив ее прикосновение, он остался холоден, и мрачная волна снова поднялась у него в душе, породив неудержимое желание ударить ее за то, что она прибегает к этой уловке.
– Ты можешь предложить что-нибудь получше? – спросил он грубо.
Она отшатнулась.
– Приезжай повидать меня, если хочешь. «Бесконечная запись, как на магнитофонной ленте, – подумал он, – нужно взять ножницы и обрезать ее, тогда, может быть, я увижу что-нибудь настоящее». Ветер теребил за окном верхушки деревьев. Брайн присел на постели и потянулся за рубашкой.
– На кой черт стану я мешать другим. Если не хочешь, чтоб я к тебе ходил, так и скажи.
Прежде чем он успел натянуть рубашку, Мими крепко обхватила его сзади, прижавшись губами к его спине между лопатками.
– Я могу предложить кое-что получше.
– А мне начхать.
– Я приеду к тебе в Мьюку. Там можно найти укромное местечко на берегу и устроить пикник. Я доберусь туда утренним пароходиком, а потом на автобусе. Ну как?
Пощечина ожгла ее, отбросив к стене. Когда острие ссоры обнажалось, все улаживалось быстрее.
Утром он пошел к казарме за вещами. Пит Керкби и Бейкер должны были ехать на том же грузовике. Бейкер был лондонец (отец его, биржевой маклер, сколотил небольшое состояние), высокий, с серыми, стального оттенка, глазами, близорукий, в очках без оправы, блондин, подстриженный ежиком.
– Грузовика еще не видать? – спросил Керкби.
– Он там по взлетной дорожке за своей тенью гоняется, чтоб время убить, – сказал Брайн. Бейкер откинулся на койке, усталый после ночного дежурства. – А мне одного хочется – выспаться. Осточертела эта морзянка, каждую ночь все одно и то же.
– И я не спал, – сказал Керкби, запихивая в вещевой мешок купальные трусы и тапочки. – В четыре утра пришлось принять длиннющую радиограмму от какого-то бабника из Сингапура. Ну и занятие! Этот парень там совсем дошел, пока ее передал, а я взмок, пока принял. Чуть на стену не полез. В шесть только закончили: полных два часа. Если б не близился отпуск, я, наверно, привязал бы себя к передатчику, включил ток – и крышка.
Бейкер собрал чертежи своей авиамодели и упаковал их в чемодан вместе с деревянными планками: он надеялся закончить до начала соревнования новую модель. Когда он смотрел вдаль через открытую дверь, взгляд его, пробиваясь сквозь усталость бессонной ночи, становился каким-то странным, такой взгляд иногда бывает перед приступом безумия у человека, который может броситься туда, в набегающие волны, в поисках более долгого сна, чем тот, который был ему сейчас и впрямь нужен. Муха ползла по его колену, но он не замечал ее. Брайну казалось, что Бейкера зря учили на радиста: в его морзянке не было четкого ритма, его сигналы, срываясь с ключа, только путали того, кто пытался разобрать их за сотни миль отсюда. Дисциплины в эфире он не любил, быть может потому, что ему уже пришлось испытать на себе слишком много подобных же мелких ограничений, когда он учился в младших классах закрытой школы, чем он часто хвастал. Он с презрением относился к профессии радиста, говоря, что, если у тебя есть врожденное чувство ритма и цепкая память, позволяющая запоминать всякие правила и целые страницы кода, этого достаточно, чтобы достичь совершенства, и, значит, на его взгляд, такая работа годится для недоразвитых. Он питал страсть к более сложной аппаратуре – к машинам, мотоциклам, самолетам. Если верить его рассказам, он как угорелый носился на мотоцикле по дорогам Англии, возмущая тишину воскресного вечера в тихом Сэрри с такою же отчаянной, как он сам, девчонкой, визжавшей ему в ухо, чтоб он жал на всю железку. Низкий лоб, орлиный нос и тонкие прямые губы придавали его лицу выражение гордое и высокомерное, это часто бесило соседей по казарме, уверенных, что он в самом деле такой, тогда как надменность его чаще всего бывала просто маской, под которой он старался скрыть свое с трудом сдерживаемое безрассудство.
Керкби засунул в бумажник пачку денег, и они направились к грузовику. На Бейкере была ярко-зеленая рубашка с цветами, открытая спереди и болтавшаяся над шортами, которые были совсем как у кинозвезды Бетти Грейбл; он был весь обвешан вещами и фотоаппаратами, словно рождественская елка – игрушками. Он просидел с четверть часа в открытом кузове грузовика, злясь на шофера, который исчез где-то за кухней.
– Мы к переправе опоздаем, если он сейчас не придет, – ворчал Керкби. – Уж лучше бы сами как-нибудь добрались, давным-давно были бы в Мьюке.
Когда Брайн сказал, что в Мьюке будет просто рай без писка морзянки, хоть две недели отдыха, Бейкер вдруг запел во все горло:
По ней скучать я буду там:
Морзянку слать не лень.
Морзянку слать не лень
Мне каждый божий день.
Наушники не жмут.
Висят спокойно тут...
Он вытащил из своего мешка белую мягкую шляпу, встряхнул ее и нахлобучил на голову.
– Бога ради, хватит вам орать, – донеслось из ближней казармы. – Спать не даете.
– Заткнись! – крикнул Бейкер. – Радуйся заокеанской жизни, птенец желторотый.
– Шел бы ты... – отозвался голос из казармы менее злобно, потому что того солдата не палило жаркое солнце, да и навешано на нем, наверно, тоже было поменьше, чем на Бейкере. – Я здесь уже пять лет.
– Рассказывай! – заорал Бейкер. – Да я уже в Багдаде жил, когда тебя твой папа еще и в проекте не имел.
– Языкастый, скотина. – И больше ни слова.
Когда Бейкера прислали в школу радистов, еще там. в Англии, он был молчалив и замкнут, да и потом, спустя два месяца, он все еще держался особняком. Брайн подумал, что теперь замкнутость стала для него просто уловкой, он попросту прибегнул к тактике, внушенной ему воспитанием, когда очутился среди незнакомых и шумных людей, чьи разговоры едва понимал. Но теперь он мог кричать и скандалить не хуже любого старого матроса. Хлопнула дверца машины, колеса забуксовали в пыли, потом машина рванулась к воротам. Брайн присел на корточки закурить, и тут у самых его ног упал большой сверток, за ним второй, поменьше, потом бутылка с водой, панама без значка, две пачки сигарет и несколько книжек. Пока хозяин всех этих пожитков карабкался в кузов, Брайн прочел название одной из книжек – «Филантропы в рваных штанах»*
_________________________________________________________________________* Роман из жизни рабочих английского писателя Роберта Трессела
_________________________________________________________________________
и подумал: «Интересно, о чем это?»
– Ну-ка, держи да помоги мне залезть.
Грузовик уже набирал скорость, и человек бежал за ним по дороге. Брайн и Бейкер протянули ему руку и помогли перевалиться через борт. Опоздавший благополучно плюхнулся на свои пожитки, затем встал и, усевшись на перекладине, стал распечатывать пачку сигарет.
– Надеюсь, этот рикша довезет до Мьюки? – спросил он, протягивая им сигареты.
– Да, – отозвался Брайн, беря сигарету. – Спасибо. – Он прикрыл огонек от ветра ладонью. – А ты тоже на две недели?
– Что-то вроде этого. А в часть меня назначат, когда вернемся. Я только утром прилетел из Чинги. Вы все трое связисты?
Брайн окинул его взглядом: это был человек среднего роста, плотный, здоровый, лет тридцати пяти. Его панама, перелетев через борт машины, упала на башмак Брайна, как кольцо в ярмарочном аттракционе, а теперь владелец панамы взял ее и нахлобучил на лысеющую голову. На нем были защитного цвета штаны, заправленные в армейские сапоги, и белая пятидолларовая рубашка – словом, самая дешевая неформенная одежда, какую только можно придумать. Рубашка с открытым воротом и закатанными рукавами обнажала волосатые руки и грудь, на левой руке была вытатуирована голая женщина. «Строевик,– решил Брайн. – Наверно, уже лет десять в армии, и в Малайе он тоже не новичок, во всяком случае судя по загару». Лицо у него свежее, сквозь загар проступал румянец, но в густых усах пробивалась седина, а светло-карие глаза заставляли думать, что когда-то он был шатеном. В нем было что-то юношеское, какая-то простота и разумность в отношении к жизни; Брайн замечал это и в других сверхсрочниках, которые жили в этом замкнутом служебном мирке и оставались добродушными, покладистыми, пока не становились унтер-офицерами (он подозревал, что этот как раз и был унтер-офицером, но не мог бы сказать наверняка и оттого испытывал некоторую неловкость. Нужно это дурацкое обращение по уставу, когда говоришь с ним, или нет?). В нем чувствовалась какая-то целеустремленнность и добродушный юмор, потому что такие люди не знают забот, но за стенами лагеря, в штатской одежде, они проходят по жизни неуверенно, точно во сне.
Грузовик с ревом промчался через деревню, и от быстрой езды пятна пота у них на рубахах высохли.
– Я тоже связист, – сказал новенький, когда Керкби ему ответил. – Так что, когда вернемся, нам часто придется вместе работать. Моя фамилия Нотмэн. Для офицеров капрал Нотмэн, а для вас просто Лен. Плевал я на эту дисциплину и на то, есть ли у вас нашивки или нет.
– Это мы увидим, – сказал Бейкер. – А где вы работать будете?
– На телефонной станции. Я раньше радистом был на самолете, но потом, когда нас стало слишком много, меня разжаловали. Хотели на кухню сунуть, чистить картошку, но я устроился телефонистом при ФБП.
Керкби повернулся к нему.
– Что это за ФБП? – спросил он с усмешкой.
– Филиал британских пиратов. Федерация британских паразитов. Фаршированные головы. Безденежье. Покалеченные ноги. Десять шиллингов в день на всем готовом, даже крабов дают. Но я устал до смерти, – сказал он. – Сегодня в четыре часа встал.
– Теперь нас таких двое, – сказал Бейкер. Нотмэн вытащил из вещевого мешка бутылку китайской рисовой водки.
– На, попробуй. Кишки не загниют. Здесь самое лучшее виски. Я его в этой бутылке ношу, как самогонку – прячу, чтобы не угощать всяких сволочей, которые мне не по нутру. А они-то думают, я им одолжение делаю, что не сую под нос эту бутылку, они мне за это благодарны. А потом спохватятся, да поздно.
Брайн сделал глоток из бутылки, за ним Керкби. Бейкер решил воздержаться.
– Будет поздно, друг, – сказал Нотмэн. – Бери, пока дают, не прогадаешь. А то через пять минут у тебя может сердечный припадок начаться, и тогда калекой на всю жизнь останешься. Меня уж тут выучили.
– Ты откуда? – спросил Брайн, заметив в его речи своеобразный акцент.
– Из Канады, но у вас, у лимонадников, восемь лет прожил, так что теперь, наверно, стал такой же, как вы. – Он запихнул бутылку обратно в мешок и запел хрипловатым, но приятным голосом, глядя на проносившиеся мимо пальмы:
Нас в небесные чертоги
Не доставит старый форд,
Потому что старый форд
Не домчит туда и в год...
Он пел, пока Брайн, Пит и даже Бейкер не подхватили песню. Трудно было сказать, пьян ли Нотмэн или просто разошелся, а может, и то и другое, да к тому же, наверно, сказывалось напряжение, накопившееся за время скучных дежурств, и неожиданная разрядка. Они слушали слова песни и живо подхватывали каждый куплет, а грузовик тем временем въехал в Кота-Либис и повернул к воротам порта, где таможенные чиновники в чалмах удивленно подняли головы от тюков и чемоданов, чтобы взглянуть, откуда доносится пение:
И нельзя связаться с небом
Нашим кодом Ку-Дэ-Эм ,
Потому что нет у бога
Передатчиков совсем.
Брайн стоял у поручней, глядя, как зеленая вода течет к Муонгу. Три большие джонки, груженные мешками с рисом и каучуком, плыли туда же, и их латаные паруса медленно скользили над водой, что казалось, будто и не движутся вовсе; это напоминало ему прочитанные недавно стихи о старых кораблях, чьи паруса, как лебеди, плыли. «Да, похоже на спящих лебедей, – подумал он, – и еще они похожи на корабли, которые после битвы тащатся в спасительную гавань». Нотмэн сидел в кузове, стиснув руками голову, потом стал безразлично смотреть назад, на длинную полосу берега, словно те новые места, куда он ехал, не интересовали его.
Пароходик так ловко и точно проскочил между стоявшими на якоре судами, что казалось, будто он скользит по рельсам, проложенным под водой. Когда пароходик заскользил к пирсу, Брайн взобрался обратно в кузов, Нотмэн снова оживился: сложив на коленях толстые руки, он с любопытством наблюдал за малайцами и китайцами, взбиравшимися по сходням с узелками и корзинами в руках.
– Бог ты мой, – сказал Бейкер. – Они как мухи. Тысячи мух.
Сонное выражение исчезло с лица Нотмэна.
– Ты бывал когда-нибудь в лондонской подземке в восемь утра? По сравнению с тем, что там творится, здесь все грациозно, как балет в Ковент-Гарден.
Машины, тесно стоявшие на нижней палубе, стали постепенно съезжать на пристань, и грузовик, осторожно проехав по пирсу, очутился в городе, а оттуда по широкому, застроенному красивыми домиками бульвару направился к прибрежному шоссе. Все сняли панамы, боясь, что их сдует ветром и унесет в море. Город кончился, за ним показалась целая вереница голубых заливов. Когда залив остался позади и машина двигалась по перешейку, сверху, с шоссе, открывались новые заливы и новые перешейки. Потом грузовик вдруг круто спустился в лощину, и на дне ее они увидели полоску песчаного берега и зажатый меж скал горный поток, окаймленный пальмами. Китайская семья грелась на солнышке у дома, детишки, гоняясь друг за другом, с шумом вбегали в воду. Гладь моря ширилась, потом сужалась так, что оставалась лить узкая полоска верхушками деревьев, зубчатая, похожая на пилу, потом она исчезала, и грузовик снова карабкался вверх.
– Чудесно, – сказал Нотмэн, передавая бутылку по кругу, – выпьем за все это. Кто откажется, тот просто болван. Что ж вы мне не сказали, что Пулау-Тимур – это такая красота?
– Да вы же не давали мне слова вставить, – возразил Брайн, передавая бутылку Бейкеру.
Конечно, чудесно он это знает и без Нотмэна, он всегда так считал. У того, кто создал все это, кем бы он там ни был, зоркий глаз, если кисть его могла написать такие заливы и широкими мазками изобразить море вдали; и у него, наверно, был гигантский кулак, которым он стукнул о землю и нагромоздил эти горы, и той же рукой разбросал по долинам алмазы, превратившиеся в храмы. Корабли приплывали из древнего царства Барат и бросали якорь в проливе между островом и материком, и вырос на перешейке город. Неизменные и яркие краски этой картины, ее долговечность по сравнению с его собственной жизнью, тепло, щедро изливаемое небом, изобилие крохотных жизней, которые, Брайн это знал, так и кишат на каждой ветке, и под каждой травинкой, и в синеве моря, – все это вызывало у него мысли о смерти, о гибели. Эта непостижимая красота наполнила его сердце непостижимой тоской. Он смотрел вдаль, и не было больше ни гор, ни океана, а только эта тоска, так внезапно охватившая его.
Мьюка находилась в двадцати милях от городка – несколько белых двухэтажных домиков, стоявших в сотне футов над скалами и пляжем.
– Да, в Кении ничего подобного не было, – сказал Нотмэн.
– А долго ты там пробыл? – спросил Брайн. Они поднимались на второй этаж главного корпуса.
– Два года.
– И в джунглях был?
– Ходил раз охотиться.
– Сбил что-нибудь?
– Да, большой палец на ноге да еще командира. Никакой дичи. Совсем как здесь. – Они взбирались по бетонным ступеням. – Да, тут после бутылки пива поскользнешься, ноги переломаешь.
Им предоставили помещение, китаец должен был стирать белье за доллар в неделю, а еще кто-то – стелить постели, чистить обувь и приносить по утрам чай – тоже за доллар.
Уладив все эти дела, они побежали вниз по каменистой тропе купаться.
Брайн вбежал в море, словно хотел спастись от смерти земле в пустыне соленой воды, плеснувшей ему навстречу, и он упал в воду, сдался на ее милость, качаясь на волне, как бревно, пока не ощутил спиной шершавое прикосновение песчаного дна. Все это было так далеко от азбуки Морзе, дальше уж невозможно, и вода, теплая, молоко, сжимала его со всех сторон, настойчиво стадясь проникнуть внутрь тела. Он сильно шлепнул по ней ладонями, подняв столб брызг, раскрыл рот, опаленный солнцем, которое словно только и ждало его, чтобы обрушить ему на голову весь свои жар и запечь волосы в жесткий и плоский блин. Лежа с закрытыми глазами, он гадал, куда он обернулся сейчас лицом – к морю или к берегу. Если к берегу – Мими приедет его навестить.
А если к морю – она бросит его. Он смотрел на черные паруса груженой джонки, входящей в пролив в миле от побережья, но, прежде чем успел он что-нибудь понять, Бейкер поднырнул и схватил его за ноги. Брайн отбился кулаками, всплыл на поверхность и обхватил Бейкера за пояс, стараясь перевернуть его, а потом, упершись ему в грудь подбородком, стал давить и давить, пока тот не разжал рук. Брайн окунул Бейкера в воду, но он тут же всплыл, молотя кулаками податливую гладь моря.
В лагере было сейчас человек десять, не больше, пляж почти все время пустовал, и в столовой обслуживали быстро.
– Вот это роскошь, – сказал Брайн Нотмэну, когда тот бросил ему маленькую книжонку и сказал:
– Почитай-ка вот, пока мы здесь.
На другой день все, кто был в лагере, отправились на ту сторону острова купаться в горном озере. Брайн стоял в кузове грузовика между баклагой с водой и ящиком с бутербродами. Длинная желтая полоса пляжа, тянувшаяся вдоль всего северного берега, заканчивалась лесистым выступом мыса у маяка Телебонг-Хед. Брайн искал глазами какое-нибудь укромное местечко, на случай если Мими приедет к нему, как обещала, но, увидев за дальней деревушкой чудесную бухточку, отгороженную с обеих сторон скалами и затененную росшими в глубине ее пальмами, вдруг совсем перестал верить, что она приедет.
Скала, заслонявшая все впереди, исчезла за поворотом дороги, и тогда перед ними внизу открылись рисовые поля, словно туго натянутая ярко-зеленая ткань, на которой тут и там были разбросаны коричневые заплатки деревень. Плоская равнина, уходя вдоль, к темной зелени мангровых болот, сливалась у моря с синей дымкой, подернувшей горизонт. И это принесло ему ощущение счастья, потому что, раз тут рисовые поля, значит, есть и люди, добывающие трудом кусок хлеба, но вскоре, когда грузовик пошел на спуск, видение это исчезло.








