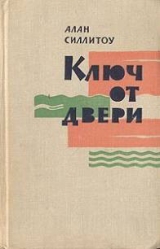
Текст книги "Ключ от двери"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Из этого сумбура мыслей выплыла вполне реальная прочная уверенность, что, до того как он попадет в Англию, Мими будет греть его душу, поможет ему сохранить рассудок и стойкость. Их связь скоро должна была кончиться, и они, зная это, старались теперь видеться как можно чаще. Он быстро проходил меж деревьями к дому вдовы («Здесь начинается запретная зона для союзной армии»), даже когда вдова была дома, ощупью пробирался через веранду к незакрытому окну, у которого ждала Мими. А потом они лежали в постели, и Мими, распустив свои иссиня черные волосы, прижавшись к нему, шептала что-нибудь, и оба, даже в упоении любви, были так тихи, что их совсем не было слышно за ночными звуками Малайи, за шелестом кустов и деревьев.
Часто им казалось, будто время остановилось; они лежали в полумраке и разговаривали шепотом, ведь вдова сидела в своей комнате, за стеной, да и вообще говорить было, собственно, не о чем: близился тот день, когда большой, трехтрубный, разукрашенный флагами корабль войдет в Сингапурскую гавань и он поднимется по трапу со всеми своими пожитками.
«Жаль, что я не владел собой, когда отпустил того малого. Конечно, я все равно прогнал бы его, но куда лучше было бы сделать это хладнокровно и обдуманно». Он чувствовал себя так, будто его обманули, над ним посмеялись, а он не знает, в чем состоит этот обман, и когда он начался, и почему до сих пор бередит его душу. Правда, ему казалось, что все это началось еще до его рождения или, во всяком случае, в те времена, когда он не мог разобраться и поделать тоже ничего не мог. Но никакого вывода он не делал и, вероятно, не хотел делать, так как могло получиться, что в конце концов ему некого винить в этом обмане, кроме самого себя.
Они слышали, как вдова ходит по дому; потом наступила тишина.
– Сейчас она сядет шить, – шепнула Мими, поворачиваясь к нему всем своим теплым телом. – Ты услышишь, как строчит машина. Она будет шить долго, много часов подряд.
– Как странно, – сказал он, – я так никогда и не видел этой старухи. А ведь она, можно сказать, была нашим ангелом-хранителем.
– Да.
– Какая она? Ты ни разу о ней не рассказывала.
– Да и рассказывать нечего. По-моему, она знает, что ты приходишь ко мне, но молчит. Мы о тебе не говорили, но я уверена, что она все знает. Мы вообще мало разговариваем. Иногда я ей даю американские доллары, а она меняет их на малайские деньги и отдает мне, хоть и не по такому выгодному курсу, как на черном рынке. Но это неважно. Она добрая и часто дает мне риса или супа, а то поит чаем, если я прихожу поздно, когда она еще шьет или читает. Если я не могу заплатить за квартиру, она не требует.
– Мне кажется, она хорошая женщина.
– Она не скупая, но очень бережливая. Я как-то встретила ее на рынке – оказывается, она, когда покупает яйца, берет миску, наливает в нее воду из крана и проверяет каждое яйцо на глазах у продавца. Продавцы не очень-то ее любят, но яйца она покупает хорошие. И еще она берет с собой на рынок счеты и говорит: «Дайте мне вот это, сколько это стоит?» Щелк, щелк. «Ну, – говорит, щелк, щелк, щелк, щелк, – выходит столько-то, верно?» «Верно»,– говорит продавец, зная, что нельзя накинуть, ни цента.
Брайн закурил и дал сигарету Мими.
– И довольна она своей жизнью?
– Наверно. Почему бы ей не быть довольной? У нее есть акции каучуковой плантации и еще кое-что. – Он пускал колечки дыма. – У нее родственники в Пулау-Тимуре.
– Почему же она живет одна? Ведь китайские старухи обычно живут в семьях, правда?
– Она хочет жить одна. Не знаю уж почему.
– Но ведь с ней живешь ты.
– Мы почти не видимся.
– А меня она и в глаза не видела. – Он рассмеялся. – Интересно, будет она скучать, когда я уеду? Сказать по правде, я придумывал про нее разные истории. Представлял ее себе каким-то коммунистическим агентом, который собирает информацию или вербует людей для их дела, – своего рода комиссаром в северной Малайе, сеящим смуту в рядах британских оккупационных сил.
Она засмеялась.
– Какой ты глупый!
– Нужно же как-то развлекаться в радиорубке, а то совсем свихнешься, пока за тобой придет корабль.
После этого мимолетного и туманного упоминания о его отъезде оба на миг замолчали.
– Мими, – сказал он, – как раз перед тем, как мы нарвались на засаду там, в горах, я поймал партизана, китайца.– Он наконец сказал ей об этом; он знал, что скажет, прежде чем они расстанутся. – И отпустил его, потому что не мог убить, – сказал он. – А потом, когда мы залегли, я стрелял в воздух. Стрелял так, чтобы никого не задеть. Это было нелегко, но я справился с собой. Можешь мне поверить.
Он все говорил, а она слушала с интересом, но на лице у нее нельзя было прочесть ни одобрения, ни осуждения. Она сидела на кровати с горящей сигаретой в руке.
– Почему ты это сделал? – спросила она наконец. – Почему?
Он рассердился – она так ничего и не поняла.
– Потому, что я так хотел. А теперь решил рассказать тебе, вот и все. Неужели не понимаешь?
Последние две недели тянулись так же медленно, как закованный в кандалы человек плетется по шестидюймовому мосту через широкое и глубокое ущелье. Брайн терзался страхом: а вдруг он не дойдет? Лагерь был деморализован, как осажденная крепость, и Брайн при всякой возможности старался улизнуть оттуда. Территория была обнесена колючей проволокой, наиболее уязвимые места укреплены мешками с песком, посты настолько усилены, что казалось, только половина лагеря спит теперь по ночам. Ходили даже разговоры, будто солдат подразделения связи, пользовавшихся столькими привилегиями, заставят насыпать песок в мешки. «Это уж слишком, – говорили многие, – мобилизация мобилизованных», – и отказывались этому верить.
А Мертон умер, и Брайн снова вспомнил, как дедушка, прожив на свете без малого восемьдесят лет, безропотно угас, словно пламя, горевшее у него в горне. Его жена умерла через полгода после него – прилегла днем поспать и больше уже не проснулась. В это время Брайн был в Малайе, гораздо дальше прежней Абиссинии, о которой он едва осмеливался мечтать, потому что это был рубеж того фантастического мира, которым его, смеясь, манили еще в детстве, в дождливые вечера. Во время ночного дежурства в радиорубке он читал наизусть «Хана Кублы», или «Пресвятую деву», или другие стихи, и его охватывало то самое настроение, какое бывает, когда нахлынут далекие воспоминания детства. Однажды в тихий зимний день он сидел, глядя в окно на отблески огня, как бы зажженного каким-то добрым богом специально для него, чтобы он не сомневался, что уют и утешение есть и вне стен его теплого дома. Возможно, что он, читая по ночам стихи, сам выпустил этот острый гарпун, который полетел, увлекая за собой веревку, привязанную к нему. Но, во всяком случае, он впервые осознал, что у него есть прошлое и что сам он не возник из ничего. Он мог сказать: «Помню, как десять лет назад я шел по Вишневому саду и встретил Альму Арлингтон», и эти десять лет уже не были бессмысленным скоплением времени, а чем-то таким, что можно было четко определить, разграничить и назвать прошлым. Через неделю он будет уже на корабле, поплывет домой, чтобы так сказать, воссоединиться со своим прошлым, – и при этой мысли он чувствовал страх, смешанный с отвращением, и это было такое же чувство, какое он испытывал, читая стихи. Однако прошлое пока еще было очень туманным, точно так же, как и будущее, но по крайней мере он знал: и прошлое, и будущее у него есть.
– Время, проведенное в Малайе, – это большой кусок моей жизни, – сказал он Нотмэну в муонгском баре через стол, заставленный бутылками.
– Может быть, тебе это только сейчас так кажется,– возразил Нотмэн. – Поверь мне, когда через десять лет оглянешься назад, все покажется сном, длившимся несколько дней.
– Не могу себе этого представить, – сказал Брайн.
– А вот увидишь.
И Нотмэн снова наполнил стаканы.
Связисты вместе с писарями, поварами, шоферами я санитарами набивали мешки песком. Брани не верил, что лагерь можно надежно укрепить. Он был убежден, что, даже если они построят каменную стену в десять ярдов вышиной, рано или поздно все рухнет. Но он работал упорно, без отдыха и, хотя не особенно устал, чувствовал себя одиноким и ничего не замечал, кроме своей работы. Работали они с семи утра, на весь день полагалось только два коротких перерыва, и он механически загребал лопатой песок; иногда лопата казалась легкой, а иногда – такой тяжелой, что часть песка приходилось отсыпать. Горло у него пересохло, он мечтал о глотке воды, мечтал погулять несколько минут в тени деревьев, вдали от мешков с песком. Тем, кто оказался в конце вала, приходилось хуже всех, они были все время на глазах у караула, вынужденные работать без передышки, не имея возможности хоть изредка отлучиться и выпить воды, как это делал он. Часовые походили на статуи, взмокшие от пота.
– Что ты сказал? – спросил Керкби.
– Ничего, – отозвался Брайн. – Наверно, я просто думал вслух.
Из душевой около казарм вышел человек, красный как рак, он был обмотан вокруг пояса полотенцем и, шлепая мокрыми сандалиями, насвистывал малайскую лирическую песенку, которую часто передавали по радио. Он казался воплощением чистоты. Когда он скрылся, Брайн снова ощутил боль в груди.
«Все это скоро кончится», – подумал он, и теперь ему еще яснее, чем лицо мертвого Бейкера, представился самолет, повисший между деревьями, словно огромная туша в мясной лавке. Он представлял себе это даже отчетливее, чем партизана, которого отпустил, и чем засаду, которая не раз вставала в его воображении. Он видел самолет, повисший между высокими домами, словно мертвый кит, перегородивший улицы Лондона, он висел и в Змеином бору, где Брайн любил играть в прошлом, которое не было больше забытым сном, – широкий фюзеляж меж деревьев над маленьким ручьем, который он часами пытался запрудить и отвести в сторону, пока, во сне, самолет не грохнулся на землю, и тогда он вернулся к действительности. Теперь он чувствовал себя лучше – головная боль утихла. Лопата казалась не такой тяжелой, и ему уже больше не было жаль ни часовых, ни себя. Он наслаждался тяжелой работой, у него появилась охота к ней после столь долгого заточения в радиорубке. Бодрый и радостный, он перестал копать и поглядел на других, увидел, что они еле двигаются в изнеможении. Солнце не изнуряло его, лес даже издали казался зеленым и прохладным, словно посылал ему часть своей благодатной тени.
Когда ему разрешили уйти, он пошел один между деревьями в умывальную, чтобы напиться и окатиться водой, а оттуда – в казарму за ложкой и миской. Умывальная была недалеко от берега, и он увидел проходившего мимо малайского рыбака с длинным шестом на плече, а милях в двух, в муонгской гавани, сновали серые и черные корабли на фоне разноцветных портовых строений, и ему подумалось, что они чем-то напоминают выстроенные на подоконнике дорогие детские игрушки. Он стоял у колючей проволоки, позабыв на мгновение о голоде и жажде, удивляясь тому, что он здесь, внутри этой крепости, когда там, вдали, столько кораблей с дымящими трубами, похожих на водяных жуков и готовых плыть во все концы света. «Я называю себя коммунистом и в то же время, как раб, строю этот вал из мешков с песком для защиты от коммунистов».
– Насколько я тебя знаю, ты не коммунист, Брайн,– сказал Нотмэн, когда они накануне вечером говорили о политике.
– Но я и к этой системе не принадлежу, поверь мне.
– Я тебя не виню, – продолжал Нотмэн. – Едва ли кто-нибудь на твоем месте сохранил бы рассудок, почти все люди с ума посходили, и все же я надеюсь, что когда-нибудь они образумятся.
– Так кто ж я по-твоему? – спросил Брайн.
– Ты бы мог быть социалистом, если бы больше читал и знал о социализме.
– Гитлер был социалистом, – сказал Брайн со смехом. – Национал-социалистом, а я не хочу иметь ничего общего с такой дрянью.
– Он не был социалистом, – стал терпеливо объяснять ему Нотмэн, – он только притворялся, чтобы обмануть рабочих. А сам заискивал перед крупными капиталистами, которые использовали его для ограбления евреев и в конечном счёте для подавления рабочих. И рабочие попались на удочку. Нет, уж если тебя кем и можно назвать, так это социалистом-анархистом.
– Может быть, – согласился Брайн, но он верил, что все люди братья и что все богатства мира нужно по справедливости поделить между теми, кто трудится: врачами и рабочими, архитекторами и механиками. Вот как думают те, по другую сторону этого вала, и, если даже они, как утверждает Нотмэн, не могут быть истинными социалистами, все равно их боятся и его все-таки заставляют строить укрепления, чтобы их сдержать. – Но у меня теперь открылись глаза. Остается только научиться видеть, а если один человек видит, то может быть, вслед за ним прозреет и другой.
– Нужно время, – сказал Нотмэн. – чтобы мир объединился, и я имею в виду не только рабочих. В наши дни это происходит, так сказать, кружным путем. – Он рассмеялся. – Но часто именно так и бывает.
– А ты не думаешь, что нужно делать что-то, стараться это приблизить? – настаивал Брайн.
– Да, но только то, что можно сделать, не изменяя себе. История работает на нас, поэтому жди своего времени: ты даже не будешь знать, что пора действовать, ты вдруг обнаружишь, что действуешь, и действуешь правильно.
Брайна эти рассуждения не удовлетворили, ведь в джунглях партизаны действовали, он видел это своими глазами, слышал, как их пули свистели вокруг него.
Он встретился с Мими в «Египетском кафе» вечером, накануне своего отъезда. Они сидели у зарешеченной двери, за которой трещали цикады и квакали лягушки.
– Рядом с каждым кафе насекомые и животные устраивают свое собственное кафе, – сказал он со смехом, вертя в руках стаканчик с неразбавленным виски.
Он поежился, чувствуя холодок их встречи, и подумал, что было бы гораздо лучше, если б они из деликатности, во имя прошлого, полчаса назад вдруг решили бы не идти на это свидание.
Она была не накрашена, ее волосы были схвачены сзади ленточкой – в первый раз она, видимо, решила показать ему, как они отросли за эти недели.
– Я решила не приходить, – сказала она. – Но не могла.
– Я тоже не мог, – сказал он. – Я чувствую себя предателем, негодяем.
– Почему? – она широко раскрыла глаза.
– Потому что бросаю тебя, а сам этого не хочу. Корабль меня ждет, чтобы отвезти за восемь тысяч миль, а мне вовсе не хочется ехать.
– Это глупо.
– Нисколько. Я не хочу ехать. Но у меня не хватает решимости. Я хочу остаться здесь с тобой. Но знаю, что не останусь. Я сделаю то, чего не хочу.
– Рано или поздно всякому приходится так поступать. Для тебя это будет не в первый раз. Да и не в последний.
– Верно, – сказал он, опрокинув стаканчик, и виски горячей струйкой обожгло ему горло. – Действительно, далеко не в первый раз, если уж ты заговорила об этом. Но никогда раньше я не ощущал этого так остро.
Насекомые, как иголки, проникали сквозь двери и решетчатые окна ветхого кафе, густым облаком кружились около гирлянд электрических лампочек. Столики в кафе ломились от бутылок, вокруг слышались громкие шутки; драки здесь бывали по крайней мере раз в месяц – каждую вторую получку, и кафе часто закрывалось.
– Мне скоро нужно идти, – сказала она тихо, надеясь, что он не будет ее удерживать. – Сяду на следующий паром. Я должна быть уже на работе, и, если не приду, меня уволят.
– Я пришлю тебе книги, как обещал.
У обоих голос не дрогнул, но он почувствовал, что безнадежность захлестывает его, словно морская волна.
– Что ж, это будет очень мило с твоей стороны, если пришлешь.
– Ну конечно, пришлю. И буду тебе писать. Кто знает? Может, я даже вернусь через год, или через десять, или через пятнадцать лет – зайду в «Бостонские огни» и потанцую с тобой раз-другой, прежде чем ты меня узнаешь. – Этого не будет, – сказала она.
– Да, пожалуй.
– Ты никогда больше не уедешь из Англии. У тебя будет слишком много работы и всяких развлечений.
– Ну, то и другое трудно совместить, – засмеялся он. Она встала.
– Я возьму велорикшу до парома.
Они вышли, поглядели немного на туманные лучи дорожных фонарей, пронзавшие сердцевидные тени, как стрелы, обозначающие любовь, но без инициалов. Он взял ее за руку, поцеловал ее в глаза, в губы и почувствовал, что она ответила ему на поцелуй, обняв его одной рукой.
– Прощай, Мими. Береги себя.
Она поколебалась, затем повернулась к нему.
– Помнишь, ты рассказывал мне тогда ночью о том, что было в джунглях... Ты вел себя храбро. Я все поняла. Это было просто замечательно. Ты правильно сделал, что не стрелял в них.
Он провожал ее глазами, когда она шла к ближайшему рикше, видел, как легкий силуэт опустился на сиденье. Ноги рикши завертели педали, и вскоре Брайн, стоя на пороге, уже не мог расслышать шороха шин. Вместо этого на него нахлынули звуки, громкие, незнакомые, но явственные, – это в нем бушевало море, и он, повернувшись, пошел в другую сторону.
Весь день за окном вагона мелькали знакомые пейзажи – сначала поезд мчался, как стрела, среди рисовых полей и вдоль болот, потом устремился к горам, извиваясь, словно кривая переменного тока, которую рисовали на доске в радиошколе. Красивые названия вспыхивали в тайниках его памяти: Кеда, Келантан, Перак, Тренгану, Паханг, Селангор, Негри Сембилан, – мерно и уверенно выстукивали колеса, и это было приятным разнообразием, помогало забыть о джунглях, которые раскинулись под облаками, у горных вершин, и об укрепленных бунгало на окраинах деревень. Круглые блестящие колеса поезда к вечеру домчали его до Куала-Лумпура, большого города, где в половине восьмого солнце закатится точно так же, как закатилось в Пулау-Тимуре сутки назад, когда он любовался закатом из двери казармы, прежде чем пойти к Мими.
Джунгли, мелькавшие за окном, целиком поглотили его, заполонили сознание, словно он пил воду из ручья, зная, что больше его не увидит, и, только когда он оглядел вагон и в глаза ему бросились ремни от вещевого мешка, которые свешивались с полки и качались при каждом толчке, он вдруг понял, что расстался с Мими навсегда. Теперь, пустившись в путь, он с нетерпением мечтал выбраться из этой страны, но прощание с Мими угнетало его, и он не мог вырвать из своей души боль, хотя знал, что она бесполезна. Эта боль не покидала его до конца путешествия. Правда, к вечеру она стала менее мучительной, а Мими была теперь почти так же далека от него, как Полин, когда он больше года назад впервые танцевал с Мими в «Бостонских огнях». Поезд подходил к Куала-Лумпуру, и Брайн почувствовал, что уже распростился с ней и с Малайей, что двери этой яркой, красивой страны закрылись далеко, в глубине гор, оставшихся позади. Он сидел неподвижно, в стороне от других демобилизованных, охваченный сладкой печалью, отсекая прошлое, и печаль эта перерастала в страдание, потому что он не представлял себе по-настоящему, с чем расстается и не осознал необъятности той жизни, какая ему предстояла.
В Куала-Лумпуре они взяли свои вещи и направились через мрачную платформу к ночному поезду, шедшему в Сингапур. Сержант железнодорожной охраны остановил Брайна и спросил, где его винтовка.
– У меня ее нет.
– Добавляйте «сержант», когда обращаетесь ко мне! – рявкнул тот.
– Сержант, – добавил Брайн.
Ездить в ночном поезде без винтовки запрещено, – сурово сказал сержант. Группа солдат стояла, ожидая, чем все это кончится.
– Мне наплевать, сяду я на поезд или нет, сволочь ты этакая, гестаповское дерьмо, вислогубое отродье,– сказал Брайн.
– Что? – разъяренный сержант надвинулся на Брайна; от него пахло потом, карболовым мылом и табаком. – Слушайте, – сказал он, – к вашему сведению, вчера этот поезд обстреляли из пулеметов.
– Нам приказали сдать винтовки в Кота-Либисе, сержант.
– Они не имели права, черт их возьми! Вы лучше подождите, пока я выясню, как быть с вами.
Он ушел в конец платформы и посовещался с офицером.
– Мы опоздаем на корабль, – сказал Джек и выругался. – Это ясно.
– Пусть идут ко всем чертям со своими винтовками, – сказал Брайн. – В следующий раз я пристрелю этого гада, если мы нарвемся на засаду и он окажется в поезде. Ей-богу, пристрелю. А если этого не сделаю я, то, может, в ближайшие дни это сделают партизаны.
– Слишком многого хочешь, – сказал Керкби. – Первую пулю получают бедняги вроде Бейкера. Пули никогда не попадают в кого нужно.
– Пролетарии всех стран, соединяйтесь! – крикнул Джек. – Садиться в поезд!
Сержанта нигде не было видно, и Брайн внес в вагон свои вещи; остальные последовали за ним. Каждый занял себе полку, а потом они снова вышли из вагона, чтобы купить мороженого.
Поезд тронулся, громыхая в пустынной темноте. Брайн разделся и, забравшись на верхнюю полку, натянул на себя простыню. Некоторые уже спали, пустые стаканчики из-под мороженого катались по проходу, словно пустые катушки с ткацкой фабрики, которые сбрасывали на свалке с грузовиков. Он не мог заснуть и лежал на спине, глядя в потолок, который был всего в нескольких дюймах от его головы. «Лежать бы сейчас дома в постели, – думал он,– рядом с Полин. Но этого уже недолго ждать. Я сойду с корабля через три недели, на другой же день получу документы, сяду на скорый поезд до Ноттингема, а затем на такси доеду до Эспли и... где мы проведем этот вечер? В «Ячменном зерне» или в «Маяке», выпьем там вволю легкого пива, будем смеяться, болтать и целоваться, когда никто не будет на нас смотреть.
Я увижу и мать с отцом. «Гляди, отец, я вернулся. Конечно, я вышел из тюрьмы, я свободен, мне заплатили – и я готов работать на фабрике. Полин, сходи купи мне два комбинезона, подержанную куртку, бидончик и пару хороших сапог, чтобы гвозди и стальные стружки не поранили ног. На каком номере автобуса я буду добираться туда каждое утро к половине восьмого? Не объясняй мне, я знаю это чуть не с самого рождения. Ты работаешь все в том же цехе, отец, отвозишь стальные отходы на тачке? А этот малый с носом, как кочерыжка цветной капусты, он все еще секретарь цеховой профсоюзной организации? Он по-прежнему каждый день приносит номера «Дейли уоркер»? Скажи ему, чтоб он записал и меня в союз. Приятно будет повидать и моих школьных приятелей: Джима Скелтона, Альберта, Колина и Дэйва, они, наверно, уже отбыли свой срок. И Берта тоже, когда этот болван отслужит еще три года, на которые он в конце концов дал согласие. Надо будет как-нибудь повидать Аду и дядю Доддо – возьму тарелку рагу и кусок пирога и буду слушать тоскливую ругань Доддо, его рассказы, как он работает десятником на недавно национализированной шахте или как гоняет очертя голову на своем новом, мощном мотоцикле. А когда пойду обедать в столовую напротив, увижусь с другими ребятами. Или, может мне не захочется в столовую и я пойду домой к маме – заверну за угол, потом прямо по улице, во двор и ввалюсь в дом с черного хода. «Эй, мама, – крикну я из умывальной, – чайку заварила?» «Да, Брайн, сынок,– ответит она. – Все готово». А вечером снова поеду на автобусе к Полин, выйду с толпой в туман или слякоть (или, если мне повезет, погода будет ясная, хотя Малайя избаловала меня в этом отношении на всю жизнь), за целую милю почувствую свежую теплоту нашей комнаты, запах пудры Полин, ее поцелуй, а около двери обниму Полин, ущипну ее и увернусь, прежде чем она успеет дать мне тумака. За ужином поговорю с ней о краске для пола и обоях, которые я думаю купить, потому что нужно привести в порядок дом и теперь, когда Маллиндер умер, кроме меня, некому этим заняться. Я помню, что бак в ванной комнате начал ржаветь, когда я уезжал, и, конечно, никто им не занимался, так что я начну с него. После чая выйду на темную мокрую улицу, пройду мимо пивных и лавок, где торгуют рыбой и жареным картофелем, с сигаретой в зубах, одетый в лучшую пару, и заверну в кабачок забавляться и тянуть пиво с Джонни, Эрни, Артуром, Нэном и остальными. Вечер или два я, конечно, посвящу профсоюзным делам, должен же кто-нибудь это сделать, а я как раз подходящий человек. Разберусь, что к чему, притащу домой новых книжек, узнаю, чем дышит мир, может быть, прочту кое-какие из тех, которые стащил несколько лет назад. Я не поддался этим сволочам на военной службе и не поддамся здесь. А уж если я за дело возьмусь, все будет иначе».
А потом ему живо вспомнилась забытая, но приятная поездка в Ноттингем во время отпуска, перед отплытием. Он стоял в коридоре вагона у двери, прижимая коленом вещевой мешок, и, когда поезд прогромыхал над Трентом, увидел внизу на берегу юношу и девушку – как раз в это мгновение они глядели на мост, и он обнимал ее за плечи, словно они только что перестали целоваться и ждут, пока пройдет поезд, и снова начнут целоваться, как только последний вагон исчезнет из виду.
Но, пока поезд мчал его по Малайе, он не мог уснуть и думал о Полин, о давно исчезнувшем очаровании их первых встреч, которое, он надеялся, вернется снова, как только он демобилизуется и приедет домой. Он смутно представил себе Вишневый сад, освещенный солнцем (Полин писала ему, что теперь он весь застроен домами), и эта картина напоминала ему о ней ярче, чем любое другое из ноттингемских воспоминаний. Он чувствовал запах влажной земли и травинок в тот летний вечер, когда они бродили там, встретившись на фабрике, помнил, как он пощупал землю, прежде чем расстелить свой плащ в ложбинке, чтобы можно было лечь на него, едва настанут сумерки и скроют их от посторонних глаз. Он ощущал запах ее тела, когда расстегивал ее пальто, вспоминал, как дым их сигарет смешивался с запахом земли и влажного мрака. Эти воспоминания, становясь то ярче, то бледнее, нахлынули на него, как чудесные звуки рояля, передаваемые какой-то далекой радиостанцией за тысячи миль, через пустынный и безбрежный океан, то громкие, то едва слышные, но они никогда не смолкали в душе, настроенной на эту волну.
Пробираясь сквозь джунгли, поезд сбрасывал с себя тоннели, словно диковинная змея – кожу, и рассыпал искры в безбрежной черно-желтой ночи. Его подушка стала от пота тяжела, как свинец, а простыни были холодные. Видимо, в вагоне не было вентиляции, и ему казалось, что это кошмарный сон: прошлое и настоящее, растревоженные переменой, неудержимо вырвались на волю. Он сказал себе, что Малайя уже позади, что утром, когда рассветет, он будет не на полуострове, а в лабиринте Сингапура. Долгий, сияющий солнцем сон был позади; горы, покрытые джунглями, стали как бы спящими мохнатыми чудовищами, которые заняли свое место в прошлом. Он совершил последнюю вылазку в джунгли – во всяком случае, в малайские джунгли, – отстучал свои последние радиограммы, и они унеслись к последним кровавым бликам ваката над Пулау-Тимуром. И все же у него сжималось сердце теперь, когда он все это покидал.
«Утром, – подумал он, засыпая наконец, – корабль отплывает из Сингапура, и, наверно, на пристани будет играть оркестр шотландских волынщиков». Оглядываясь назад и глядя вперед, он чувствовал, что у него теперь есть ключ от двери, тем более что скоро день его рождения (когда человек дожил до двадцати, двадцати одного или двадцати двух лет или вообще стал на год старше – одним словом, дожил до очередного своего дня рождения, он становится как бы бессмертным и неуязвимым). «И теперь, когда у меня есть ключ от двери, – подумал он с улыбкой, и сердце у него замерло,– остается только напрячь силы и открыть ее; но я не удивлюсь, если на это потребуется больше половины моей жизни».
Издательство «Прогресс», Москва 1964
Перевод Н. Дехтеревой, Б. Ростокина, В. Смирнова
Сканировал Oldlem








