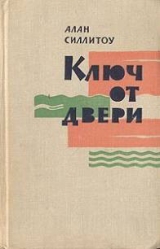
Текст книги "Ключ от двери"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
– Такие парни, как вы, в шестнадцать лет должны в ополчении быть, – сказал старик. – Это полезно.
Брайн обиделся, словно его обозвали шалопаем или «легавым».
– Это ты так думаешь, друг.
– Я лучше как-нибудь еще развлекусь, чем из ружья палить, – сказал Джим.
Джим был одного роста с Брайном, но плотнее его, лицо у него было широкое, татарское, подбородок круглый, с ямочкой, зубы квадратные, нос приплюснутый, а волосы рыжеватые, зачесанные назад. Он служил механиком и ремонтировал швейные машины, на которых работали девушки, а также наблюдал, чтобы защитные гимнастерки без задержки поступали из пошива и каждая девушка получала свою долю еженедельного вознаграждения за труды. Брайн, которого Джим уважал за его книги, сам уважал Джима за то, что тот так ловко управляется с машинами и с электричеством и умеет чинить моторы.
Девушки уже вышли, спустились с крыльца, и, не сказав друг другу ни слова, все четверо зашагали по улице.
– Куда же мы пойдем? – поинтересовалась Полин.
– Погуляем, – сказал Брайн.
– Вот остряк, – она толкнула его в бок.
– Не тронь моего друга, – сказал Джим.
– Ребята! – воскликнула Джоан. – Давайте не ссориться. Но все-таки куда мы пойдем? Мне бы тоже хотелось знать.
Брайн сказал, надеясь, что его предложение примут без спора:
– В Вишневый сад.
– Слишком далеко, – сказала Джоан. – И вообще не знаю, зачем туда идти.
– А я знаю, – улыбнулся Джим.
– Ну, меня вы туда не затащите, – решительно сказала Полин.
Брайн подмигнул Джиму: все равно, мол, пойдем в ту сторону.
– Ну-ка, перестань хитрить, – сказала Полин. – Я видела, как ты подмигивал.
– Смотреть надо как следует.
– Сам смотри, а то как двину! – отрезала она.
– Он думает, хитрей его тут нет, – поддержала подругу Джоан.
– Ну и катитесь отсюда, чтоб вас разорвало, – сказал Брайн. – А я просто хотел пойти в Вишневый сад, вот и все.
Полин была одного роста с Брайном; длинные темные волосы рассыпались у нее по спине, поверх застегнутого темно-коричневого воротника. Когда она спускалась с крыльца, Брайн разглядел, что на ней под пальто надета рабочая одежда. Глаза у нее были большие, карие, казалось, они видят все, хотя Брайн знал, что она почти ничего не замечает. Джим рассказал Брайну, что она одна из самых проворных работниц на фабрике и что во время работы она вовсе не такая мечтательная, какой прикидывается, хотя оба приятеля соглашались, что сразу этого никогда не скажешь. Иной раз по вечерам, предоставленные собственным мыслям, задумчивые или бездумные, они, нисколько не тяготясь молчанием, шагали рука об руку по залитым солнцем улицам и бульварам, затихавшим после окончания рабочего дня, прежде чем сумерки сгустятся над городом. Когда она шла рядом, Брайн чувствовал, какая она высокая, как изящны ее движения. У нее была хорошая фигура, теперь он уже знал это наверняка – небольшая красивая грудь, крутые бедра, чуть толстоватые ноги. Вся она была довольно плотная и крупная, но не настолько, чтобы о ней можно было сказать «не девка, а кобыла».
Сейчас она шла впереди, взяв за руку Джоан, и так они спустились по Илкстоун-роуд, сопровождаемые шагах в пятидесяти Джимом и Брайном.
– Они сегодня что-то кисло настроены.
– Наверно, у них какие-то женские неприятности, – ухмыльнулся Джим.
– Надеюсь, что нет, – сказал Брайн. – Полин мне нравится. Хорошая девчонка, и горячая такая. А у тебя как дела с Джоан?
– Отлично. Рассуждать она не горазда. Иной раз за вечер и двух слов не скажет. Я однажды спросил ее, почему это так. Мы в кино с ней были, и мне тогда показалось, что ей уже все надоело и она хочет со мной порвать. Когда мы домой шли, я ее и спрашиваю: «В чем дело, детка? Скажи мне», – а она в слезы. Так и не сказала, в чем дело. И перед этим мне показалось, что она какая-то странная, когда мы у нас дома пили чай с гренками. А когда я ее на прощание поцеловал, она такая же нежная была, как всегда; так что все уладилось и назавтра на работе она была, как обычно.
Брайн видел, что у Джима дело зашло дальше, чем у него. Джим не только работал рядом со своей милой – то подойдет к ней приводной ремень поправить, то машину смазать или почистить, – она и по вечерам большей частью бывала с ним, помогая матери Джима или оставаясь с его младшими сестрами и братьями, когда родители уходили в кино. Полин же никогда не бывала у Ситонов, да и Брайн не мог весь день провести рядом с ней. Они встречались по вечерам несколько раз в неделю, но если физическая близость между Джимом и Джоан была такая же, как у молодоженов, проживших вместе год, то у Брайна с Полин все еще продолжалась игра в кошки-мышки, и, разлучаясь, они забывали друг о друге до следующего свидания, потому что только физическая потребность сводила их. Он никогда не приглашал ее к себе посидеть с отцом, с матерью, с Фредом, Артуром, Маргарет, Сэмми так, будто она была членом их семьи. И он завидовал отношениям между Джоан и Скелтонами, но как-то не мог установить такие же отношения с Полин. Он часто по вечерам бывал у нее дома, и когда-то они были знакомы семьями, но сама она ни разу не предложила, чтобы он повел ее к себе. Брайн думал, что она, быть может, стесняется попросить его об этом, и пользовался ее застенчивостью, если только это и впрямь была застенчивость, чтобы предотвратить такое посещение. При одной мысли о том, что Полин будет сидеть у него дома с отцом и с матерью, он ощущал неловкость– то ли от мысли, что ему будет стыдно за них, то ли оттого, что Полин может им не понравиться и тогда она тоже будет чувствовать себя неловко. Он не хотел, чтобы отец и мать знали о его связи, ему хотелось сохранить от них в тайне эту сторону своей жизни, как будто если б они узнали, то должны были бы разделить с ним тайну его любовных отношений, которые из-за этого утратили бы свою полноту. Но, когда однажды мать сказала: «Я встретила миссис Маллиндер, она говорит, что ты гуляешь с ее дочерью», он вовсе не смутился, хотя все еще не приглашал Полин к себе. «Ну что ж, – сказала она, – это неплохо. Она девочка хорошая. Только смотри, дома не появляйся, если какой грех случится». Вот и все.
Когда они прошли Рэдфорд, уже темнело. «Ну и хорошо, – подумал Брайн. – Только бы никого из знакомых не встретить». И едва он это подумал, как по дороге из Вудхауза показался дядя Джордж, он спускался с холма на велосипеде и окликнул Брайна, едва они поравнялись:
– Э, Брайн, а не рано ли тебе за девочками ухаживать?
И тогда Брайн состроил пристойную физиономию и крикнул в ответ:
– А я что, я ничего!
И чего ему вздумалось кричать, этому Джорджу? Но Брайн не мог удержаться от смеха, вспомнив, как дядя Джордж уговорил однажды Веру представить его молодой незамужней женщине у них во дворе и как Вера послала Брайна сказать этой Элис Декстер, что она, Вера, просит ее зайти на минутку – это, чтобы помочь ее скупердяю брату, кузнецу Джорджу. И, когда Элис Декстер пришла к ним, Джордж взял в руки газету, чтобы она видела, что он читает, как человек трезвый и образованный, но читать он сроду не умел и газету держал вверх ногами. Эта история часто вызывала смех у них в семье, и особенно смеялся Ситон, ведь он тоже не умел читать, но и не пытался никогда делать вид, будто умеет.
Ветер завыл над голым Вишневым садом.
– Тебе не холодно, детка? – спросил он Полин-.– Закутайся поплотнее.
– Не холодно, – прошептала она.
Те двое где-то слева слились в одну неясную тень и явно собирались найти удобную ложбинку, чтобы там пристроиться. Брайн крепко обнимал девушку за талию.
– Сейчас мы найдем хорошее местечко.
Звезды были бледные и какие-то расплывчатые, каждая из них словно боялась, что ее вот-вот скроет туча.
– Здесь чудесно. Так тепло и тихо.
– Да. И вообще здорово, – отозвался он. – Моя бабушка жила когда-то вон там, – он показал в темноту. – И дед тоже, он был кузнец.
При воспоминании о том, что дед его был кузнец, Брайн испытывал какую-то необъяснимую гордость. Кузнец – это искусный мастер делать вещи, который умело управляется с самой тяжелой черной работой, как, например, он сам, когда чистит дымоходы; кузнец придает своим молотом новую форму железу и стали, положив металл на наковальню, у него стальные мускулы, он ловко владеет своей силой.
– У-у-у! – протянула она. – Загадай желание, Брайн,
– Зачем? Осторожно, куст.
– Я видела, как звезда упала.
– А я не видел. – Он еще был полон мыслей о кузнецах.
– Вон еще одна, гляди, – сказала она, протягивая руку.
– Теперь видел, – радостно заявил Брайн. – И загадал желание.
– И я тоже.
– Ты что загадала? – спросил он.
– Не скажу. Если кому-нибудь скажешь, оно не сбывается.
– Ну и ладно, – поддразнил он ее. – Я тебе тоже не скажу.
– А я тебя и не спрашиваю, – отозвалась она обиженно. – И не говори, если не хочешь.
– А ты как думаешь! – воскликнул он с возмущением.– Ты мне не говоришь, и я тебе тоже не скажу.
– Ладно, – проговорила она. – Но ведь, если бы ты сказал, мое-то желание все-таки могло бы сбыться.
– А мое нет, – возразил он, не думая идти на уступки.
– Может, оно у нас одно, – сказала она. Это насторожило его. «Готов поклясться, что нет. Я вовсе не загадывал, чтоб мы поженились», – подумал он. Но ведь достаточно, чтоб она это загадала, хотя он-то уверен, что этого не будет.
– Ты знаешь, какое у меня было желание, правда? – спросила она, сжимая ему руку.
Он знал это. Оно пришло стремительно, без слов, стрела любви, невидимая во мраке, помогла сбыться его желанию, потому что никакого другого желания он и не мог бы загадать, оставшись наедине со своей девчонкой посреди Вишневого сада в весенний вечер, под покровом сумерек. И слова ее зазвучали лаской, более сладостной, чем все. что он когда-нибудь слышал, хотя уже не в первый раз вспыхивало у обоих это желание.
– Я загадал тоже самое, – сказал он, и перед ним возникли две строчки – надпись, которую он видел на картине в гостиной в Ноуке: «Коль любишь крепко, как я тебя, ничто не разлучит тебя и меня». Чувство это тут же рассеялось, едва только ему пришло в голову, что, если б он рассказал об этом Полин, она посмеялась бы над ним и даже перестала бы с ним гулять, сочтя его слюнтяем. Но это не огорчило его.
Взошла луна, и теперь они уже были бесконечно далеки от маленьких домиков, и бугры, и лощины, и кусты в слабом лунном сиянии выступили из мрака. Теплая нежная пелена легла от изгородей и домиков до самой долины Змеиного бора, и бледный свет луны превратил небольшой, всего в полмили шириной. Вишневый сад в огромную и неприступную пустыню, где словно и не бился пульс жизни. Брайн сорвал пучок свежей травы и поднес к лицу, вдыхая ее запах.
– Что-то Джима и Джоан не видно, – сказала она.
– Да они здесь, рядом, – отозвался он. – Если им покричать, они услышат.
И, чтоб она совсем перестала думать об этом, он привлек ее к себе, крепко обхватив за талию. Он нашел ее губы, слегка открывшиеся, чтоб ответить на его слова, и он ощутил теплую влажность этих пойманных губ, сразу затвердевших и сомкнувшихся при его неожиданном порыве, но она обнимала его, и от этого только горячей делались поцелуи, которые она словно пыталась остановить, все сильнее прижимаясь к нему. Он споткнулся о какую-то кочку, но сохранил равновесие, хоть и не видел ничего у себя под ногами, отстранился на миг от ее губ, крепко прижатых к его губам, а потом, держа ее в объятиях, снова прильнул губами к ее губам, так что у обоих дух захватило. И оба они знали, что это за уловка: она давала каждому из них возможность показать, что его любовь сильнее, потому что тот, кто первый начинал задыхаться и ловить воздух, любит меньше. Близость ее тела, лица и губ пробудила в нем сладостное томление. Он впился в ее рот, не дыша и не давая вздохнуть ей, затягивая это чувственное прикосновение к ее губам, которые вначале словно дремали, но потом дрогнули, подтверждая, что и она любит его горячо и вовсе не собирается уступать в этом состязании. Он все сильнее прижимался к ее лицу, в то же время желая освободиться и рассмеяться и вздохнуть полной грудью или хоть самую малость, но вместо этого он все вдыхал и вдыхал сладость ее губ, припухших и слегка вздрагивающих, притягивающих его к себе так, что он чувствовал ее любовь, и поцелуи его лились все сильнее, точно неудержимые слезы.
Ветер налетел на них, словно поцелуй далеких лесов, и в долине, устланной поцелуями, вес, что было вокруг,– и воздух, и трава, и тьма – отступило, оставляя их в тисках неразрешимой любовной муки. Руки Полин сжимали его шею чуть ниже затылка, и она надеялась, что он почувствует ее страдания, такие же сильные, как и его, и ослабит неистовые, беспощадные объятия, позволив ей вздохнуть и победить, потому что ее любовь сильнее. Для него весь мир сосредоточился в каком-то тесном, ярко освещенном пространстве, в круге, ограничившем все его мечты, и эти поцелуи вызвали к жизни видение. Оно было чудесным. Брайну хотелось вздохнуть, но он снова сдерживал себя, хотя от этого поцелуи его становились не такими волнующими, и, сдерживаясь, он продолжал думать только о том, чтобы продлить их. И руки его блуждали по ее шее и плечам, он стремился сдержать бурное дыхание. «Я люблю тебя, Полин, я люблю тебя. Уступи же, сдайся. Начни дышать, чтоб я мог доказать тебе это». Но она прижималась к нему все теснее, словно хотела доказать, что ей все равно, пусть даже этот поцелуй длится еще пять минут кряду. Колени его дрожали. Он пытался задержать дыхание еще хоть на секунду: так бывает, когда нырнешь и хочешь вынырнуть в нужном месте. И хотя губы ее были тоже крепко сомкнуты, она качалась из стороны в сторону и стонала и старалась освободиться. А он знал, что еще несколько секунд – и он умрет, потому что легкие его были точно бочонок с порохом, и теперь только одно видение было в освещенном круге – фитиль, который, извиваясь, тянется к этому пороху, и вот уже дымок поднимается и ползет по стенкам. Еще немного – и он умрет, словно захлебнувшись под водой.
Она вдруг разжала руки, но он не понимал, что с ней, пока она не начала бить его кулаками по спине, и тогда он услышал, как она жадно хватает воздух. В глазах у нее были слезы, и он нежно поцеловал ее; теперь оба они дышали глубоко, и он почувствовал, что у него тоже на глазах выступают слезы, только это слезы любви и счастья. Они стояли, прильнув друг к другу н уронив руки.
– Я люблю тебя, Брайн, – сказала она.
Они спустились в широкую ложбину и прилегли у куста; темные края ложбины как бы приближали ночь, земля отдавала сыростью. У них не было часов, чтобы узнать, сколько сейчас времени, и они курили оба, чтобы вернуть вкус и плоть легкому дыханию своего изнуренного тела и создать иллюзию живительного тепла в сыром и свежем ночном воздухе.
– Тебе нужно купить пальто, – сказала она, – а то схватишь воспаление легких.
Он усмехнулся.
– Ну уж нет. У меня кровь как кипяток. Я – ходячая печка.
– И все-таки, – сказала она. Они вылезли из ложбины.– Должно быть, уже десятый час. Интересно, а где они?
– Ушли, наверно. Джоан, кажется, живет в Лентоне? Он освободился от лихорадочного возбуждения и остро воспринимал теперь ночь, испытывая к шороху листьев, к запахам земли и трав любовь, столь же сильную, как и к самой Полин. Он остановился и снова поцеловал ее долгим и нежным поцелуем.
– Ну вот, – сказала она с улыбкой, – и как это тебе не надоест?
– Никогда не надоест, – он сжимал в темноте ее руку. Они прошли Кольерс Пэд и вышли на ярко освещенное шоссе.
– Отец с матерью, наверно, в кино, сегодня ведь пятница,– сказала она. – Они, думаю, не скоро вернутся.
– Если твой отец дома, мы с ним, может, в воланы поиграем. Я все же надеюсь как-нибудь его одолеть.
– Никогда не одолеешь: он слишком долго практиковался.
Брайн согласился с ней: Тед Маллнндер был долго прикован к постели после аварии на шахте. Когда он возвращался из забоя, на него наехала вагонетка и сломала ему ногу. Словно акула, вцепилась в него острая боль, взметнулась к голове и взорвалась в мозгу, швырнув его в туманную страну черных провалов и снов, где его собственная боль перемешивалась с чужими страданиями, и очнувшись, он с ужасом убедился, что это его собственные страдания. Одна операция за другой, и теперь он превратился в несчастного, страдающего астмой калеку и единственное утешение находит в том, что стал непобедимым игроком в местной любительской команде игроков в воланы. По вечерам он чаще всего ковылял на костылях в пивную «Джон Ячменное Зерно», где, проглотив три пинты легкого пива, играл, когда до него доходила очередь. Хоть он и мог стоять на ногах, но предпочитал бросать волан, сидя на стуле, установленном у черты, потому что мастерство свое он приобрел в больнице, когда играл с кресла на колесиках. Он был широкоплечий, смуглый, насмешливый; веселый характер помогал ему сохранять вкус к жизни и старых друзей, а в борьбе с отчаянием его поддерживали жена и четыре дочери.
Сейчас Маллиндер сидел за столом, протянув к горящему камину искалеченную ногу, а его жена, высокая, смуглая, как цыганка, вошла в комнату с эмалированным чайником в руках и поставила его перед мужем. Вошли Полин с Брайном. «Вот жизнь, – подумал Брайн, – за ним ухаживают, как за королем. Конечно, завидовать тут нечему – кому охота быть хромым». Одиннадцатилетняя Морин, сидя по другую сторону камина, разглядывала какой-то «комикс».
– Привет, Брайн! – воскликнула она, едва он появился на пороге.
– Ну как, сдала на стипендию? – спросил он.
По ней сразу было видно, что она из этой семьи: лицо у нее овальное со смуглой оливковой кожей, даже еще более задорное и проказливое, чем у других, потому что она самая младшая.
– Еще не знаю. Да мне плевать, сдала или нет. Я буду себя по-дурацки чувствовать в этой школьной форме. Я хочу в четырнадцать пойти работать, не дожидаясь шестнадцати.
– Ты что, спятила? – спросил Маллиндер. – Учиться куда лучше. Узнаешь, почем фунт лиха, когда на работу пойдешь. Эх ты, сумасбродка!
– С тобой и вправду можно с ума сойти. Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты меня сумасбродкой не называл. – И, чуть не плача от смущения и стыда, она заговорила с Брайном: – Брайн, а ты знаешь, что будет, если часто-часто моешься?
– Что?
– Мыльной сыпью весь покроешься! Правда ведь, папа?
– Валяй дальше, – отозвался отец. – Выходит, ты и впрямь сумасбродка.
Миссис Маллиндер послала Полин мыть чашки, а Брайна посадила за стол напротив мужа.
– Возьми бутерброд с сыром, – сказала она. – Если хочешь, я тебе сахарину в чай положу, а то паек мы только завтра получим.
– Да, спасибо. Мы только с сахарином и пьем.
Ему показалось странным, что его об этом спрашивают,– он словно попал в общество более культурное, чем то, к которому привык. Чай – это чай, все равно с чем его пьешь – с сахарином или с сахаром. У них дома паек забирали за три недели вперед, мать всегда ухитрялась выклянчить его у бакалейщика.
– Она хитрая, – сказала миссис Маллиндер со смехом, когда он упомянул об этом. – Война кончится, а у нее будет уже за три недели вперед получено.
– А как на русском фронте в последние дни? – спросил Маллиндер, подсмеиваясь над пристрастием Брайна, который, конечно, принял вопрос всерьез.
– Они скоро будут уже в Германии. Русские, уверен, возьмут Берлин.
– Будем надеяться, они там и останутся, – сказал Маллиндер. – Хотят с этим сбродом покончить раз и навсегда.
Брайн откусил кусок бутерброда.
– Еще бы.
– Достань сигареты у меня в плаще, Полин, – сказал отец.
Брайну нравилось смотреть, как она работает, как моет посуду, нарезает хлеб и сыр, мажет масло на хлеб. Украдкой, насколько это было возможно в комнате, полной народу, он следил за движениями ее гибкого шестнадцатилетнего тела и видел, какой привлекательной она стала, сняв толстое пальто и оставшись в блузке и юбке, в которых простояла целый день у станка. Сладостное чувство, сохранившееся от объятий в Вишневом саду, еще трепетало в нем, и время от времени, когда Полин проходила мимо стола, он ловил запах ее лица и тела, запах пудры и губной помады, которой она потихоньку пользовалась, хотя отец не раз запрещал ей это делать. Брайн с удивлением думал: «Неужели никто не догадывается?» Ему казалось, что это должно отражаться в глазах, в каждом движении.
Он медленно ел бутерброд, пил чай, рассеянно прислушивался к перебранке между Морин и Дорис, старшей сестрой Полин, которая через месяц должна была выйти замуж и теперь, казалось, хотела вдосталь насладиться домашними ссорами, прежде чем навсегда покинуть родительский дом. Маллиндер включил приемник, надеясь послушать последние известия, но не сумел ничего поймать и выключил радио, произнеся вслух шахтерское ругательство, потонувшее в общем шуме. Интересно, как он терпит весь этот гам, хотя неизвестно, может, ему это нравится. И все же, надо признать, веселая семейка. Вот если б у Ситонов в доме такой спор разгорелся, давно уже в воздухе мелькали бы кулаки или горшки летали. Полин ужинала, сидя напротив нею. Она поймала его взгляд и поднесла к губам чашку, не желая глядеть на него. И вдруг невероятная мысль ошеломила Брайна, нелепая мысль, которая сразу вырвала его из привычного мира, – работа, свидания с Полин, да и свобода тоже, потому что, несмотря ни на что, он был свободен, – и все вокруг приняло такой новый и головокружительный оборот, казавшийся в то же время чудесным, что против его воли это видение обожгло его, как раскаленное клеймо. «А может, она уже беременна, – подумал он. – Мы ведь несколько раз бывали вместе».
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ДЖУНГЛИ
17
Июньским утром в девять часов открытый грузовик отъехал от лагерных ворот и тяжело покатил на север по прибрежному шоссе. Кроме Брайна, в машине было еще пятеро. Встречный ветер скоро высушил капли пота на его лице; он облокотился на борт машины, снял панаму и с облегчением почувствовал, как ветерок шевелит его короткие светлые волосы. С пяти утра Брайн был на ногах – сверил карты, уложил вещевой мешок, надежно спрятал компас, чтобы он не разбился и не подмок. Как только они поели и вышли во двор, длинное помещение кухни, окруженное пальмами, снова погрузилось в сон.
Брайн думал, что этот день так и не настанет, но сейчас, когда мощный мотор грузовика с ревом нес их к Гунонг-Барату, его вдруг охватило какое-то безразличие и он уже почти не волновался. Напротив, как ни странно, когда синие, пестреющие тенями облаков рисовые поля развернулись перед ним, убегая на восток, на него нахлынули мысли и воспоминания о Ноттингеме, которые совсем успокоили его. Он был немного озадачен этим, нахмурился, пригнулся, чтобы ветер не задул огонь, и закурил сигарету. Ему вспомнилась Полин: высокая и какая-то задумчивая, она шла по тротуару широкой улицы; после родов она похудела, и от этого лицо ее стало еще выразительнее. Четыре долгих года после школы он работал и ухаживал за Полин, а потом женился на ней, и теперь ему пришла в голову мысль: я связан, хоть никогда не ощущал этого по-настоящему, потому что даже тогда, когда я спал с ней, приезжая в отпуск, мне казалось, будто я урвал украдкой что-то недозволенное. Даже когда родился ребенок, немногое для меня изменилось; отчего же я все-таки женился на ней? Не нужно было, наверно, этого делать, да я ведь и не прожил с ней столько, чтобы самому понять, рад я или нет тому, что женился на ней. Не пойму даже, рад ли я этому, по крайней мере так, как должен бы радоваться.
Жаркие лучи солнца, словно пронзавшие череп насквозь, несмотря на прохладный ветерок, прогнали его видения, и он стал любоваться красочными пейзажами Малайи, мелькавшими, как кадры волшебного фонаря. Они доехали до взлетной дорожки, и, после того как сел какой-то самолет, грузовик резко рванулся вперед. Бейкер упал на мешки.
– Эй, ты, подонок! – заорал он. – Думает, что везет каких-нибудь летчиков. И на черта ему понадобилось поднимать нас чуть свет? А мне такой замечательный сон снился – еду я на мотоцикле по Кенту с красивой девчонкой. А здесь никакой цивилизации.
– Брось, – проворчал Керкби. – На нервы действуешь. И на кой хрен ты тогда поехал, если не хотел?
– На земле и на небе порой случаются вещи настолько странные, что они необъяснимы с помощью вашей философии, Керкби.
Бейкер вовсе не хотел насмехаться над Керкби, но он так щурился (на самом деле это объяснялось просто-напросто плохим зрением) и говорил таким высокомерным тоном, что люди, которые не знали его и не могли разобраться в его настроениях, часто злились.
– Послушай, ты, – отозвался Керкби, – помолчи, а не то как ткну штыком прямо в твою вонючую философию...
– Скажи спасибо, что ты здесь, – отозвался Брайн. – Нам всем ведь пришлось из-за тебя наврать с три короба.
Бейкера накануне отвели в дежурку, его обвинили в неповиновении сержанту, который сказал, что им нельзя будет везти домой чемоданы. Тогда полказармы связистов пошло за ним и поклялось, будто видели, как сержант ударил Бейкера. Только после этого его отпустили.
Серебристые деревья на каучуковой плантации, росшие в строгом геометрическом порядке, тянулись на целые мили по обеим сторонам дороги, и, когда грузовик снова вырвался на открытую равнину, в нос им ударил гнилой запах ила с берегов широкой, мелководной, почти неподвижной реки. Грузовик прогромыхал по расшатанному понтонному мосту, и Джек Валлиец шутливо крикнул «ура», когда они выбрались на шоссе. Темные, крытые пальмовыми листьями лачуги малайской деревушки стояли в стороне от дороги, каждый новый изгиб которой приближал их к Гунонг-Барату; в лучах полуденного солнца темно-зеленые уступы карабкались вверх к острой вершине, упершейся в массу белобрюхих облаков.
– А красиво. – сказал Брайн Нотмэну. – Никогда бы мне не видать этого, если б я не уехал из Ноттингема.
– Все относительно. – сказал Нотмэн. – Когда мы стояли под Лондоном, я, бывало, любил бродить в Ист-Энде по Уайтчепелу и Бетнал Грину – и назад вдоль Кейбл-стрит. Почему-то они волновали меня, эти улицы. А видел ты рынок Петтикоут-лейн? Он тоже красивый. Надо тебе пожить в Лондоне, когда вернешься. Найти там работу.
– Я бы и сам не прочь. Никогда не любил долго на одном месте сидеть. Там, наверно, много разных машиностроительных фирм, вроде той, где я работал.
– Конечно. Ты ведь молодой. А жена твоя не будет против такой перемены?
– Нет, раз я так захочу, – сказал Брайн.
Они, точно сквозь туннель, проскользнули по широкой главной улице Балик-Кубонга и снова выехали на дорогу. Свернув влево к Пенунджоку, грузовик чуть не наскочил на бензоколонку.
– Надо бы проверить этого мерзавца, имеет ли он право машину водить, – сказал Керкби.
Заросли каучуковых деревьев стали гуще, потом грузовик повернул к северу по немощеной дороге, и слева от них осталась маленькая речушка – они определили по карте, что это Сунген-Паван. Дорога оборвалась у края джунглей, как будто ее строители вдруг бросили свои инструменты и отказались идти дальше в непролазную чащу. Брайну так не терпелось спрыгнуть на землю, что он чуть не вывалился из кузова.
– А все-таки он живьем нас довез.
Грузовик развернулся и скрылся за деревьями, где было шоссе, еще до того, как громкие проклятия солдат достигли ушей мрачного водителя. Брайн поднял свой вещевой мешок, поправил его на спине. Все они были в рубашках защитного цвета, в брюках, заправленных в высокие сапоги, в панамах. У каждого за плечами мешок, одеяло и плащ, а поверх мешка, как на рождественской елке, висели фляжка, сверток с едой, нож и винтовка. Брайн с минуту молча смотрел на джунгли, словно недоумевая, что он здесь делает и зачем ему понадобилось входить под эти деревья, откуда доносился лишь звук падающей воды, точно злобный призыв к мщению. Так вот они, джунгли. Он усмехнулся. А где же все эти тропические растения из цветных фильмов, где попугаи, перелетающие с ветки на ветку? И как насчет Тарзана, Мартина Рэтлера. Алана Куотермэйна и Джима из джунглей? Не то чтоб я очень верил всему этому, особенно когда вышел из школы. Джунгли были темно-зеленые, однообразные, полные мрака и негостеприимных, застывших в неподвижности деревьев.
Они продвигались по руслу ручья гуськом. Брели медленно, пошатываясь под тяжестью ноши. Часто, наступив на скользкий подводный камень, теряли равновесие, и в первые же дни каждому довелось искупаться в ледяной воде. Уступы поменьше, примыкавшие к главной вершине, были высотой до двух тысяч футов, и на склонах виднелись заросли, казавшиеся непролазными.
– Я бы не прочь оказаться сейчас в Кью-Гарденз, – сказал Бейкер и, поскользнувшись, шлепнулся в воду, он был похож на плот, на котором плавали его тюк, винтовка и панама. Брайн помог ему выкарабкаться.
Предполагалось, что за старшего будет Оджесон, высокий, худой, светловолосый человек, недавно выучившийся на зубного врача и выглядевший немного солиднее, чем остальные, которым было лет по двадцать. Но на первом же привале Нотмэн довольно твердо, хотя и уважительно, сказал:
– Если вы не возражаете, сэр, теперь я вас поведу. Мне уже приходилось ползать по джунглям. Так нам будет легче.
Оджесон согласился:
– Я и сам собирался предложить это.
Он снял с погонов оба колечка – знаки отличия – и засунул их в пачку с сигаретами. Они продолжали идти, меняясь время от времени местами и осторожно ощупывая ногами дно ручья. Склон медленно поднимался, ветви деревьев были не слишком густые, и сквозь листву проникали лучи солнца, так что снизу до пояса их сковывал холод, а рубахи прилипали к потному телу.
Брайна радовали эти трудности, он двигался осторожно, твердо ставя сначала одну ногу и только потом отрывая от земли вторую. Мешок натирал ему плечи, паек выдали консервами, и банки больно упирались в спину. Они оживленно болтали, время от времени по ущелью разносился смех, даже Бейкер в конце концов стал ступать увереннее и развеселился. В первые часы это было похоже на обыкновенную прогулку по лесу, а когда ручеек превратился в большой прозрачный водоем, они разделись и полезли в воду.
Им пришлось осторожно пробираться меж деревьями, обходя крутое ущелье глубиной в сотни футов – серповидную впадину, похожую на узкую ножевую рану в боку у горы. Нотмэн, шедший впереди, взял винтовку на ремень и вытащил нож: порой ему приходилось прорубать дорогу в зарослях.
– Прогулочка кончилась, – сказал Джек Валлиец, шедший за ним.
Увязая в сырой земле, они пробирались сквозь низкую поросль все выше в прохладный полумрак. Над ними и вокруг них по крутым склонам высились деревья и густые заросли кустарника. Ни Брайн, ни другие – никто, за исключением Нотмэна, – никогда не видели такой чащи и понятия не имели, как пробираться сквозь нее. Ползучие растения стлались по земле и вились вверх по стволам, поросшим мхами, длинные цепкие травы оплетали папоротники и преграждали дорогу, похожие на проволочную паутину, будто какой-то нетерпеливый великан взялся сплести их, а потом, отчаявшись, бросил эту тяжелую работу. Высокие стволы деревьев нависали над ними, и густая тяжелая листва, казалось, скрывала небо вот уже тысячи лет.








