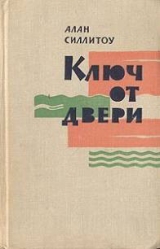
Текст книги "Ключ от двери"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Я убежал бы, если б хотел, – сказал он твердо,– но не хочу. Я тебя очень люблю, ты знаешь.
– Что-то я не припомню... – поддразнила она его.
– Да я же говорил тебе! – закричал он. – Сколько раз говорил!
– Знаю, знаю, милый.
– Но вид у тебя всегда был такой, будто ты мне не верила.
– А ты как думал? Мы и так далеко зашли, дальше некуда. – Напоминание о том, что у него будет ребенок, сразу смирило его, и он привлек ее к себе.
– Ну, не надо спорить, милая.
– За эти три недели я вся извелась. А тут еще мама меня допекает.
– Почему же ты не написала мне? – крикнул он. – Я бы пулей примчался. Никто б не посмел меня остановить.
– Сама не знаю. Я думала, писать об этом не стоит. И мама тоже так сказала, когда узнала.
– Думала, я сбегу и поминай как звали, – усмехнулся он.
Ее кулак больно ткнул его в бок.
– Вовсе нет, ты, хитрая бестия. Можешь убираться на все четыре стороны, если хочешь: я все равно рожу ребенка и обойдусь без твоей помощи. Знаешь, что мама сказала? «Не выходи за него, если он тебе не нравится. Но если хочешь, то так все-таки лучше». Мне не больше твоего хочется так рано замуж выходить. И я вовсе не оттого за тебя выхожу, что ребенок. Я и с ребенком могу дома жить и работу не бросать.
Он потер ушибленный бок: иногда она бывает кроткой, как ангел, а иной раз как вспылит – только держись.
– Чего ты взъелась? Я же пошутил.
– Ладно, – сказала она. – Только тебе иногда тоже не мешает быть ко мне подобрее.
– Так я же часто... – Он хотел подчеркнуть свою доброту. – Видишь, я еду домой в отпуск, мчусь из самого Глостершира, чтоб с тобой повидаться, а ты меня вон чем встречаешь. Думаешь, меня это не ошарашило?
– Понимаю, а только я ведь не могла по-другому, правда? Я рада, что ты приехал. Теперь мне стало полегче.
Губы их слились в долгом поцелуе, и они оторвались друг от друга, только когда проезжавшая мимо машина осветила их фарами, сворачивая возле Балун-Хаузиз.
– А я не боюсь, что у меня родится ребенок, – сказала она. – Я уверена, что буду любить его и все будет хорошо.
– Ну, значит, все в порядке. Мы ведь сами на это шли.
Радость и страх наполняли его. Потрясение первых минут, когда будущее показалось ему непроглядным, как океан мрака, за последние полчаса перестало быть таким пугающим, и мало-помалу его наполнило чувство огромной радости. Шагая в обнимку, они пересекли шоссе и вышли на дальнюю опушку леса.
За день до того, как Брайну нужно было возвращаться в Глостершир, у них во дворе появился Берт, одетый с иголочки, в берете, в походной форме и с орденскими ленточками, полученными за последний бросок через Рейн. Полк его был расквартирован в Триесте, и он проехал через всю Европу, чуть не двое суток тащился в жестких вагонах, чтобы – как он в шутку сказал Хэролду Ситону – вволю наслушаться Рэдфорда, выпить и всласть пощупать какую-нибудь толстушку.
Им было по пути, и они вместе вышли из дому. Брайн шел к Полин в Эспли, а Берт хотел зайти к брату, жившему неподалеку, в Синдерхилле. Стояла сухая погода, жара, казалось, никогда не кончится – она держалась уже целую неделю, – и они шли, разговаривая о службе в армии. Брайну казарма не нравилась, но он не хотел объяснять Берту, почему, а Берт был, наоборот, в восторге, оттого что не нужно думать, где бы поесть и как достать лишний шиллинг.
– Я, может, еще на три года сверхсрочником завербуюсь, а мог бы на рождество домой вернуться, – сказал он. – Наверняка даже так и сделаю.
– А зачем? – спросил Брайн. – Работы сейчас много.
– Мне в армии служить больше нравится, чем работать. – сказал Берт.
За стеной, сложенной из плит песчаника, протянулось кладбище, на многих могилах клонились под ветром трава и цветы, отсвечивая снежно-белым, алым или коричневым на фоне мрамора. Было воскресное утро; люди пришли сюда навестить родные могилы и хлопотали возле них с садовыми ножницами и лейками. Брайн сказал двоюродному брату:
– Я тоже хочу в некотором роде завербоваться, только на всю жизнь. Я женюсь.
Оба остановились. Берт схватил его за руку и посмотрел ему прямо в глаза.
– Не может быть.
– Да, женюсь. На Полин. А что, ведь мы давно с ней гуляем.
– Да брось ты.
– Что значит «брось»? – Он ждал от Берта каких-то других, горячих слов, а так непонятно даже, что он хотел сказать, считает ли его дураком или разумным человеком, сумасбродом или просто шалопаем, способным жениться только потому, что ему хочется новенького, а может, думает и то и другое. Но он недооценивал Берта, тот хитро взглянул на него и, прищурив один глаз, спросил:
– Она что, ребенка ждет?
И протянул ему пачку сигарет, наверно чтобы смягчить свою бесцеремонность, если он ошибся.
В первую минуту Брайн решил было сказать, что это не так, но не знал, насколько беременность Полин будет заметна к тому времени, когда они поженятся. Да и в любом случае, если она родит ребенка, арифметика будет несложная, все можно на пальцах подсчитать, так что лучше уж признаться сейчас, чем потом оказаться трусливым лжецом.
– Да, она беременна, – сказал он. – И мы женимся.
Они пошли дальше, и теперь Берт держался чуть поодаль, глядя ему в лицо и стараясь угадать, не обманывает ли он.
– Но ведь тогда тебе крышка! – с жаром воскликнул Берт. – Все, теперь ты уж на крючке, приконченный, пришпиленный. А почему бы тебе не удрать?
– Потому что я не хочу. Ведь тогда я не смогу ее видеть.
– Да брось ты. Завербуйся, пусть тебя ушлют за океан, или на худой конец перережь себе глотку, сунь голову в петлю. Господи, тебе же только восемнадцать!
– На будущий год девятнадцать будет, – ухмыльнулся Брайн.
Берт был расстроен.
– Ну конечно, Брайн. А потом стукнет двадцать один, и мы дадим тебе ключ от этой самой двери; неужели ты не можешь подождать хотя бы до тех пор? Это ж просто идиотство какое-то – жениться в восемнадцать. Подумай, сколько у тебя впереди всяких удовольствий. Можешь бегать за всеми женщинами, какие тебе приглянутся. Я-то знаю, что женитьба – это не для тебя. Ты не из таких. Слишком уж ты большой шалопай, вроде меня.
– Знаю, – сказал Брайн. – Но я люблю ее, понимаешь. Думаешь, я вынужден жениться, потому что у нее ребенок? Но ведь нет худа без добра. Конечно, если 6 я не любил ее, я бы еще крепко подумал.
– Тебе надо двадцать раз подумать, любишь ты девчонку или нет.
Брайн думал уже сто раз и знал, чего хочет. У Полин будет ребенок, и они поженятся, потому что он любит ее. И незачем спрашивать себя, что он сделал бы, если 6 не любил ее, если б она была для него какой-нибудь случайной знакомой.
– Эх, ты, раскис? – спросил Берт.
Брайн повернулся к Берту, сжав кулаки, готовый пустить их в ход.
– Ни черта я не раскис, отвяжись от меня. Я просто делаю то, что хочу и считаю правильным, а тебя не спрашиваю, хорошо это или нет, потому что знаю: это хорошо, и я хочу этого.
– Ну ладно, раз так, – сказал Берт. – Что ж. Тогда позволь мне быть шафером на свадьбе.
Они пожали друг другу руки и еще не успели переменить тему разговора, как Берт уже пришел к выводу, что Брайн неплохо это придумал – жениться.
Поле пшеницы едва заметно суживалось. Комбайн медленно полз им навстречу и миновал их раньше, чем они успели дойти до середины поля. Вокруг все так же колыхались высокие хлеба, а комбайн, похожий на красного жука, уже поворачивал назад, и шум мотора, далеко слышный в тишине осеннего вечера, был похож на ленивое ворчание какого-то невидимого мастодонта. Несколько сухих пшеничных колосьев торчали на тропке, точно головы, которые не смогли отрубить огромные ножи машины.
Брайн взял Полин за руку, и они шли теперь к пологому янтарно-зеленому склону холма. Заметив, что она прихрамывает, он озабоченно нахмурился.
– У тебя все еще болит нога, милая?
– Да, вот здесь, сверху.
– Тогда мы не пойдем далеко, – сказал он, сжимая ей руку и надеясь, что боль пройдет, как только она перестанет о ней думать.
Он застегнул начищенные до блеска пуговицы шинели и усмехнулся, поглядев на длинные темные волосы Полин, повязанные ленточкой; ее спокойное лицо, пухлые губы, белый лоб – все дышало какой-то силой. Она теперь больше не красилась и однажды даже спросила у него:
– Ты не против, если я иногда буду распускать волосы?
Впрочем, она ведь и раньше, не особенно увлекалась пудрой и помадой. Запах свежескошенной пшеницы заставил его резче ощутить грусть оттого, что они последний вечер вместе и должны расстаться на несколько месяцев, и он улыбнулся, пряча свою грусть.
– Надеюсь, мы хорошо проведем этот вечер. Она сжала его руку.
– Отпуск был такой короткий, правда?
– Но все-таки мы успели пожениться.
– Ты не жалеешь об этом?
Мимо прополз трактор, волоча за собой подводу с зерном, убранным комбайном. У молодого тракториста был оторван рукав рубахи. Его помощник улыбнулся им откуда-то сверху, с груды мешков.
– Мы еще молоды, так говорят все у нас на фабрике. Но, по-моему, лучше пожениться молодыми.
– По-моему, тоже, – сказал он со смехом. – Дольше можно побыть вдвоем.
Они поженились две недели назад, и обе семьи, а также все друзья толпились в тот день в вестибюле магистратуры, а потом набились в зал «Трафальгара», чтобы шумно отпраздновать торжественное событие.
– Тебе хорошо было эти две недели?
Она почувствовала по его голосу, что он расстроен, уже потому, что пытался скрыть это сейчас, когда они ничего не могли скрыть друг от друга.
– Мне было чудесно, – ответила она. Живот ее уже был заметен под широким пальто.
– Завтра в это время я буду в Бирмингеме.
– Я тоже хотела бы уехать. Мне тяжко с тобой расставаться.
– Знаю. Мне ведь тоже нелегко.
Она спросила почему, наперед зная, что он ответит, и все же ей хотелось услышать это от него.
– Потому что тебя со мной не будет. – сказал он. – Я часто думаю, как бы удрать из армии. Просто убежать, и все. Они меня не найдут. Мы могли бы жить в другом
городе.
– Не делай этого, – сказала она. – Тебе всего два года служить. И все будет кончено.
– Вероятно, меня отправят за границу.
– Но ты скоро вернешься.
Он удивлялся, как может она говорить об этом с такой уверенностью, будто два года для нее сущий пустяк, а ему они представлялись безбрежным океаном. «Ее любовь, должно быть, глубже, чем моя, спокойнее и прочнее, если это кажется ей таким пустяковым препятствием на пути к нашей семейной жизни. Но у нее будет ребенок, скучать ей не придется».
– Пойдем туда? – Она указала в ту сторону, где тропка разветвлялась на две: одна вела через луга, другая – вверх по холму.
– Пойдем налево, – сказал он, сам не зная почему.
Она шла впереди, мурлыча какую-то песенку. С одной стороны был низкий поросший травой бугор, с другой – кусты черной смородины. Пение птиц и ворчание комбайна, работавшего внизу, теперь едва слышались, и солнце, уже почти скрывшееся за холмом, освещало поля бледным желтым светом. Ветерок приносил белые семена лавровишни, и они хлопьями оседали на его серой шинели.
– Еще немножко, и ты будешь совсем как снежный ком, – сказала она и рассмеялась – ей почему-то легко было смеяться в этот вечер.
– А ты как снежная дева.
Ее пальто тоже было в белых хлопьях.
– Дева! Я теперь замужняя дама! – она остановилась.– А как называются эти голубые цветы?
– Не знаю, – сказал он, поддразнивая ее.
– Нет, знаешь. Должен знать. Ты же мне все время рассказывал, как жил в деревне у своей бабушки, когда был маленький.
Он склонился над цветком.
– По-моему, колокольчики.
– А я думала, они цветут в апреле, – сказала она.
– Это другие колокольчики. Те цветут в апреле, а эти нет. И чему тебя только учили в школе?
Три синие головки прятались под низкими листьями возле папоротника.
– Вера, Надежда, Любовь – вот на что они похожи,– сказала она, гладя их пальцами.
– И надежда непоколебима, – сказал он, видя, что один из цветков даже не шевельнулся.
Она снова коснулась цветка, заставив его качаться вместе с другими.
– Как просто, видишь?
Они присели на бугорок, и она высыпала песок из туфель.
– Мне сегодня не хочется домой, а тебе?
– Но, детка, в поле спать вредно, – сказал он.– Дома тебе лучше будет со мной.
Подойдя к кустам черной смородины, он сорвал несколько веточек с одного, потом с другого, пока не набрал целую горсть.
– Что ты там возишься? – крикнула она, не видя его. Он подошел к ней:
– Открой рот.
– Зачем?
Она отбирала самые спелые ягоды и ела их, затем, вдруг спохватившись, заставила его тоже съесть несколько ягод.
– Я уже поел, пока собирал.
А потом, когда ни одной не осталось, они вдруг прочли в глазах друг у друга застенчивую нежность.
– И зачем только я должен завтра уехать? До чего все это нелепо.
Она ничего не могла ему сказать и только отвечала на его поцелуи.
Они шли дальше, и все больше белого пуха оседало на них. Он садился даже на ягоды смородины, и приходилось сдувать его, прежде чем съесть ягоду. Они нашли и малину, ее сок, как кровь, стекал у них по пальцам, и, когда они поцеловались, он пошутил, что губы ее стали сладкими, как малина.
– А я-то думал, это от губной помады, – сказал он, беря ее за руку и поворачивая к себе. Он увидел, как дрогнули ее губы, и они поцеловались горячо и страстно.
– Я люблю тебя, – сказала она. – Брайн, милый, я люблю тебя, – произнесла она едва слышно.
– И я люблю тебя, милая.
Эти слова, такие значительные, больше не казались туманными и неуместными, и оба не смеялись над ними, как смеялись бы, если б услышали их друг от друга раньше. Он подумал, что слова эти вызывают неловкость, когда смысл их забыт или неведом, но, когда произносишь их сознательно, они так же воспламеняют, как поцелуи, расцветающие вместе с ними.
На дорожке раздались голоса, и они отошли.
– Полезем наверх, – предложил он, кивнув в сторону холма. – Там густые кусты, и нас никто не увидит. – Она поколебалась. – Не бойся, все будет в порядке.
Они пробирались через кусты ежевики, и, когда тропка стала совсем узенькой, Брайн пошел впереди. Полин повеселела, она тихонько мурлыкала песенку и шла медленно, с достоинством. После свадьбы они прожили две недели у Полин; он стал членом их семьи, им отвели комнату; окна ее выходили во двор, где был разбит садик. Их поставили на очередь в магистратуре, но было ясно, что они смогут получить квартиру лишь много лет спустя после его демобилизации. Так что они решили, когда он вернется, снять комнату и жить самостоятельно.
– Давай вот здесь посидим. – Он расстелил шинель и снял френч.
– А ты не простудишься, милый?
– Ну, ведь еще не зима, – сказал он, смущенный тем, что она проявляет о нем заботу, которой почти не замечал до женитьбы.
– Ну смотри же, – сказала она. – Не хочу, чтобы ты заболел.
Он положил руку ей на живот.
– Тебе вот об этом малыше надо беспокоиться, а не обо мне.
– Ему-то тепло, – сказала она.
Они прилегли, обнявшись. Потом он поднял голову и увидел, что внизу по тропинке идет какой-то мужчина. Интересно, видит он их или нет?
– Что там, милый?
– Ничего.
Он снова наклонился и поцеловал ее. «Завтра меня здесь не будет, – мысль эта стучала ему в виски, не давая спокойно провести последние часы с Полин. Эта мысль мучила его весь день, и теперь, когда они молча лежали рядом, она стала еще мучительнее. – Я должен вернуться в тюрьму. А сейчас я свободен. Что, если плюнуть на них и дезертировать? Пока меня хватятся, несколько дней пройдет. А так я еще целых три месяца не увижу ее, буду там выбиваться из сил, чтоб стать каким-то несчастным радистом. Еще удивительно, как я прошел отборочные испытания. – Он дотронулся до ее набухшей груди, поцеловал закрытые глаза; все ее настоящее и будущее трепетало сейчас там, где чуть вспухал нежный бугорок. – Она носит в себе ребенка, которого мне тоже не хочется покидать. Надо взять все от оставшихся часов. – Но он не мог говорить. – Бывает, говоришь без умолку, а бывает и так, что только целуешь, а сказать ничего не можешь; в том-то и беда, что именно тогда не находишь слов, когда нужно».
Она прильнула к нему. «Он уедет завтра, – эта мысль мучила ее, и она едва удерживалась от слез, вспоминая об этом. – И я долго не увижу его». Она боялась расстаться с ним, хотя теперь обе семьи о ней заботятся, они ее не бросят. Уже темнеет, а скоро пора уходить.
– Брайн, а когда тебе снова дадут отпуск?
– Под рождество.
Он поднял голову и увидел, как по лугу идут два человека, может быть браконьеры, хотя еще не совсем стемнело, и ему стало не по себе от мысли, что эти люди могут их увидеть. А хорошо бы не уходить отсюда.
Она коснулась пальцами его щеки и поцеловала его. «Мне хорошо с ним здесь, вдали от людей, от города». Он ответил на ее поцелуй, но вдруг слезы сдавили ей горло, и она судорожно сжала его в объятиях. «Наверно, он больше меня не любит», – подумала она.
Руки у него были холодные, он привстал и потянулся за своим френчем. Туман стлался по полям, солнце садилось, крадучись, прячась за деревьями, как дезертир; по небу плыли серые облака. Она потрогала ладонью землю.
– Здесь сыро, а ты должен беречь себя. – Уже осень, – сказал он, поднявшись.
Рядом качалась какая-то ветка. Он огляделся и, никого не увидев, помог Полин встать. Может быть, подумал он, предстоящее расставание делает их такими неуклюжими и нерешительными. Он поднял шинель и надел ее.
– Посмотри, какой туман, – сказала она, когда они спускались с холма. Всюду был покой и мертвая неподвижность.
– Как странно, – сказал он, озадаченный непривычной тишиной.
– Просто комбайн перестал работать, – догадалась она.
У подножия холма они обернулись на миг, чтобы взглянуть на солнце. Кроваво-красное и уродливое, оно пряталось за тонкими стволами дальних деревьев, похожее на медаль, преждевременно выпущенную в честь наступления зимы, а зима еще только близилась. Багровый свет заливал луга по обе стороны рощицы.
Она писала ему раз в неделю, а он старательно учился, чтобы сдать экзамен и получить значок радиста: это дало бы ему, во-первых, повышение жалованья, а во-вторых, моральное удовлетворение, поскольку он впервые в жизни приобретал настоящую профессию. Дни летели незаметно: на занятиях они чертили и описывали схемы приемника и передатчика, изучали закон Ома и порядок работы на передатчике, с каждой неделей все быстрее отстукивали ключом морзянку и работали на телетайпе, чтобы в конце концов перейти на самостоятельные станции в полевых условиях. Ему нравилось приобретать знания и мастерство, ради этого стоило изредка заниматься маршировкой.
Но долгие вечера были тягостны, и он погружался в мрачное молчание, которое подчас, когда он сидел один в гарнизонном клубе, становилось почти осязаемым; тогда на него нападали приступы тоски, вроде тех, каким был подвержен отец в долгие пустые вечера перед войной во время безработицы. Отец впадал в злобное отчаяние, вызванное чувством бессилия и безвыходностью положения, в которое он позволил себя поставить. Отчаяние охватило и Брайна, он не мог с ним справиться много недель после возвращения из Ноттингема. Он писал по два письма в ответ на каждое письмо Полин, и то, что она писала ему реже, чем он ей, вызывало у него такое нетерпение и недовольство, что часто, придя в ярость, он едва удерживался, чтобы не порвать с ней. Но ее случайные весточки, написанные под влиянием настроения, а не в ответ на его письма, доносили до него тепло ее любви так живо и трепетно, как редко удавалось ему самому в длинных и продуманных письмах. Несколько слов, случайно и неповторимо поставленных рядом, вдруг изливали на него всю полноту их еще восторженной любви, до боли близкой и ощутимой.
Он усердно учился, расшифровывал в своих тетрадях значки и диаграммы, зная, что, если он сдаст экзамены и наберет больше шестидесяти очков, ему будут лучше платить; но усваивать материал без помощи преподавателя становилось все труднее. В зимние морозы температура ночью в нетопленых казармах была ниже нуля, и они мерзли, дыша спертым, холодным воздухом, потому что доставка угля в лагерь прекратилась по неизвестной причине. И тогда Брайн вместе с двумя бывшими моряками торгового флота и одним бывшим жуликом шел воровать топливо. Они тайком пробирались к высоким кучам угля, сваленного около теплых офицерских квартир, и, наполнив мешки, возвращались, черные, как пираты, чтобы развести красное пламя в пузатой печке на радость всем лентяям и трусам.
Время от времени он один отправлялся по вечерам через белые заснеженные глостерширские поля в ближнюю деревушку, где выпивал несколько пинт дешевого сидра и грелся в трактире у щедрого огня, привлекая к себе недобрые взгляды местных жителей, которые считали, что он лишает их части принадлежащего им тепла – какой-то беглый солдат из лагеря, вскочившего, словно нарыв, на теле их прекрасного графства. Так думали все, кроме лавочников и трактирщиков. Выпив, он уже не боялся холода, добирался до лагеря, валился на койку и спал, пока в половине седьмого сигнал утреннего подъема не стаскивал его сильной и настойчивой рукой.
С приближением рождества, перед отпуском, он чувствовал себя так, словно стоит на платформе и ждет мчащегося экспресса. В последнее время четкий и размеренный стук колес этого экспресса слышался ему во сне, колеса мерно, отчетливо, твердо, ровно выстукивали по временам радиосигналы, причем одна серия сигналов, слишком разогнавшись, налезала на другую, и ритм ломался – это было странно волнующее и реальное сочетание звуков. Потом хвост поезда пропадал вдали, звуки глохли в тоннеле и ветер обжигал ему затылок, потому что какой-то безмозглый дурак оставил окно казармы открытым.
Черный туман заволакивал окрестности, и поезд целых пять часов тащился до Дерби. Состав был переполнен; вместе с десятком других пассажиров он устроился в багажном вагоне, где все расселись на мешках, запахнув поплотнее шинели. Он добрался до Ноттингема в полночь. Пустынный и мрачный вокзал раскинулся по обе стороны путей. Брайн, нагруженный вещами, держа в зубах билет, поднялся по ступенькам к дверям с надписью «Выход».
Он взял такси. Автомобиль, быстро зашуршав шинами, помчался по спящему городу к Кеннинг-серкус, куда вело гудронированное шоссе, а потом мягко покатил по знакомой и ярко освещенной улице к дому Маллиндеров.
Теща открыла ему дверь и, остановившись у лестницы, сказала, что сейчас она должна поскорей лечь, чтобы не застыть от холода, а с ним поговорит утром.
– Как Полин, здорова? – спросил он.
– Да, – ответила она, закрыла дверь и стала подниматься по лестнице.
Полин, должно быть, спала очень крепко, потому что не слышала, как он хлопнул дверью, н проснулась, только когда он уже раздевался. Комната была простая, с желтыми стенами, выкрашенными еще Маллиндером, которым однажды овладела вдруг жажда деятельности, – это было давным-давно, в одно из тех воскресений, самую память о которых он унес в могилу вместе со своей хромой ногой. Кроме кровати, здесь стоял гардероб, туалетный столик и два стула, пол был устлан линолеумом, а в углу стоял шкаф с книгами Брайна.
– Я ждала тебя только завтра, – сказала она, когда он, склонив к ней холодное от мороза лицо, обнял и поцеловал ее. – Скорее лезь сюда, милый, а то застынешь.
– Почему ты не топишь?
– А мне это ни к чему, – сказала она. – В постели и так тепло. И потом, я взяла грелку.
– Ну, больше она тебе не понадобится, во всяком случае на ближайшие две недели, потому что я здесь. Так что можешь ее выбросить.
Выглядела она хорошо, глаза у нее еще туманились спросонья.
– Как ты себя чувствуешь, милая?
– Отлично, – сказала она. – Каждую неделю хожу в клинику. У меня расширение вен, и врач говорит, нужно как-то от этого избавиться. Рожать буду дома. Недели через две или три, хотя иногда он так дает о себе знать, что я не удивилась бы, если бы все произошло завтра.
– Если это случится, пока я здесь, я продлю отпуск. – Вот бы хорошо. Просто замечательно.
Он вспомнил бумагу, с которой их ознакомили в радиошколе неделю назад, – это был список заокеанских назначений. Курсантам предлагалось высказать свои пожелания, а там – как прикажет начальство. Те десять минут, что Брайн держал список в руках, он весь дрожал от волнения: всплыли детские воспоминания о фантастических тропиках и давнее шальное желание поехать в эти страны, и он выбрал Японию. Он не заполнил графы, где нужно было указать причину, препятствующую отправке за океан. «Дурак я, – ругал он себя потом. – Ведь я мог бы остаться в Англии – я женат, и Полин скоро должна родить». Но по какой-то непонятной причине он не заполнил графы. Он так никогда и не понял, что побудило его сделать это, никогда не задавался этим вопросом и не сожалел об этом, удивлялся разве только тому, что его послали в Малайю, а не в Японию.
21
Два мощных грузовика стояли у ворот, и моторы их ревели так грозно, что казалось, когда машины наконец тронутся, они уволокут за собой весь лагерь. Но вот рев стал тише, и первый грузовик, рванув с места, пронесся через деревню, не обращая внимания на сигналы полицейского, который пытался остановить его у перекрестка, и повернул к унылой полосе Патанских болот.
Когда «дакота» камнем полетела вниз, притянутая неведомым магнитом где-то в джунглях, ее радист успел отстучать сигнал SOS, а потом раздалось долгое монотонное жужжание, так что недремлющим радистам в Кота-Либисе и Сингапуре удалось довольно точно засечь ее местоположение. После этого аварийная рация самолета ни разу даже не пискнула, так что неизвестно было, уцелел кто-нибудь из экипажа или нет. Линии пеленга, проложенные на меркаторской карте северной Малайи, пересеклись в районе, покрытом глухими, необитаемыми джунглями, между Кедой и Пераком.
Брайн сидел в первом грузовике – металлическая лента наушников охватывала его коротко остриженные волосы– и устало слушал треск атмосферных разрядов: словно кто-то тряс коробок спичек у самых его барабанных перепонок. Каким-то необъяснимым образом этот шум, слышный только ему, затуманивал видневшиеся вдали тонкие деревья и малайские хижины, стоявшие возле рисового поля на длинных сваях, словно на деревянных ногах. И он немного сдвинул наушники, чтобы полюбоваться природой – огромными знойными голубыми равнинами, тихо проплывавшими вдали; глядя на них, он со страхом думал о темной лесной чаще там, в горах, где запеклась кровь погибших людей. Прямая дорога, расстилавшаяся впереди, кюветы и ряды тонких высоких деревьев по обе стороны – все это было похоже на освещенный тропическим солнцем голландский пейзаж, запомнившийся ему давным-давно, еще со школьных времен.
В наушниках прозвучал неторопливый стук морзянки – его позывные, а потом, очень коротко, координаты пехотного подразделения, продвигавшегося к северу от Тайпина. Он вырвал из блокнота листок с радиограммой и передал ее Оджесону, который карандашом написал ответ. Это было похоже на игру, на задачу по координации действий, когда две группы должны сойтись с третьей, нарочно спрятавшейся в горах. Он сдвинул бакелитовую чашечку с одного уха и сказал:
– Наверно, эти бандиты перехватывают мои радиограммы. Нужно их зашифровать. Мне-то, конечно, наплевать: пускай перехватывают, сколько влезет.
Бейкер, прикрывшись от ветра, прикурил две сигареты и передал одну Брайну.
– Можешь не беспокоиться, экипаж давно погиб.
– Погиб или нет, а мы не вернемся из этих джунглей, пока не найдем их. Может, не одну неделю будем здесь рыскать.
Дым отнесло ветром прямо ему в лицо, заставив открыть глаза. Он заглянул через целлофановое окошечко в кабину водителя: стрелка спидометра колебалась около цифры шестьдесят. На рисовых полях зеленели высокие, сочные всходы, казалось, оттуда веет прохладой, а на невозделанных участках в воде отражались белые облака, скрывшие голубые и зеленые хребты, к которым грузовики свернули на последнем перекрестке. Второй грузовик следовал за ними в сотне ярдов; Нотмэн помахал из кузова и сжал кулак – это было приветствие «рот фронт».
Ветер был такой сильный, что сигарета Брайна скоро стала жечь ему губы и он выплюнул ее в темную асфальтовую реку дороги. Грузовик замедлил скорость, и пот выступил у Брайна на лице, волосы слиплись. Узкая извилистая дорога шла от деревни через каучуковую плантацию, где одинокий крестьянин с подвешенными на коромысле жестянками продвигался от дерева к дереву, – это зрелище напомнило Брайну рекламную картинку в одном из тех журналов, которые он часто листал в лагерной библиотеке. Бунгало управляющего было укреплено мешками с песком и колючей проволокой, а на пригорке, господствовавшем над подступами к бунгало, малайцы поставили пулемет.
Морзянка. Его карандаш привычно записал радиограмму из пехотного взвода: они сообщали, что их грузовик сломался. Когда последние слова дошли до его сознания, он понял, что из-за этого они могут надолго застрять в джунглях. Оджесон передал ему курс и координаты.
– Подождем их на месте. Надеюсь, это ненадолго.
– Хотел бы я вместо такой прогулочки плыть на корабле домой,– сказал Брайн Бейкеру.
Бейкер засмеялся.
– Мы сами виноваты, что полезли на Гунонг-Барат. Зря я тогда вас послушался.
С тех пор как он уехал из Англии, его хмурое лицо утратило свой природный цвет, загорело и приобрело оттенок дубленой кожи. Накануне он допоздна пьянствовал один в гарнизонном клубе, и теперь ему еще больше обычного было «начхать на все». Чем меньше времени оставалось до демобилизации, тем больше он пил и даже начал курить, а учебники по автоделу и каталоги мотоциклов, заброшенные, пылились у него в ящике.
– А по мне, лучше в борделе сидеть, чем в этой парильне на колесах, – сказал он.
– Скоро будешь там. Или в Лондоне со своей девушкой. Послушай, а вдруг твой мотоцикл заржавел и развалился?
Бейкер был так измучен, что не почувствовал насмешки.
– Не знаю. Брат обещал присмотреть за ним, так что он будет в приличном состоянии. Конечно, брат не бог весть какой хороший механик, но, если он обещал, значит, сделает.
Оджесон поднял голову от карты и пристально поглядел на дорогу; Брайн подумал, что его холеное лицо, наверно, чем-то похоже на лица тех летчиков, которых они ехали спасать. Он представил их себе: наверняка все с высшим образованием и, уж конечно, мастера своего дела, самоуверенные и беззаботные, но тут же они представились ему мертвые, искалеченные, повисшие на огромных ветвях могучих лесных великанов. Или, может, они живы, их только ранило и все они ждут не дождутся помощи, а жизнь уходит из них, как воздух из проколотого баллона.
Грузовик поворачивал теперь уже не так резко, вторая машина шла следом в пятидесяти ярдах по дороге, пролегавшей в тени, у подножия гор. Брайн, прикрыв глаза, дремал под мерный усыпляющий рокот мотора и прислушивался, не вызовут ли солдаты их снова, а Оджесон готовил координаты для передачи на станцию в Кота-Либисе. Они останавливались у дорожных застав и быстро объясняли патрулям задание.








