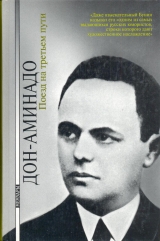
Текст книги "Поезд на третьем пути"
Автор книги: Дон-Аминадо
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Что танцуешь, Катенька?
Польку, польку, маменька!
С кем танцуешь, Катенька?
С офицером, папенька!
А папенька с маменькой, только грузно вздыхали, хлопали себя по ватным коленкам, и укоризненно вторили под аккомпанемент машины:
Ишь ты, поди ж ты,
Что ж ты говоришь ты!..
Температура подымалась.
Балиев был неисчерпаем.
"Музей восковых фигур". "Марш деревянных солдатиков".
Изысканный остроумный лубок Потёмкина "Любовь по чинам".
Пронзительная, дьявольски-зажигательная Тамара Дейкарханова.
Алексеева-Месхиева, не женщина, а кахетинское вино! – как говорил Койранский.
Юлия Бекеффи, протанцевавшая такую венгерку, такой чардаш, явившая столь необычайный задор и молодой и своевольный блеск, что у самого В. А. Маклакова, по его собственному признанию, в зобу дыханье спёрло.
Еще Виктор Хенкин в песенках кинто. И еще, и еще, всего не упомнишь.
А ровно в двенадцать часов – цыганский хор, "Чарочка", дрожащие в руках бокалы, поздравления, пожелания, троекратные лобызания, шум, гам, волнующееся море шелков, мехов, кружевных накидок, мундиров, фраков и, наконец, вершитель апофеозов, долгожданный московский любимец Б. С. Борисов, сам себе аккомпанирующий на гитаре и поющий почти без голоса, но с каким вдохновением, мастерством, с каким проникновенным умилением и какие слова, не блещущие чеканной рифмой, но полные вещего, рокового значения:
Время изменится,
Всё переменится,
Правдой великою
Русь возвеличится!..
Несбыточные надежды, "бессмысленные мечтания". Но надо же за что-то уцепиться, во что-то верить, жить, мечтать, надеяться:
– В канун 16-го года, на третий год войны, когда в России сегодня Горемыкин, а завтра Штюрмер, и в жёлтом петербургском тумане все огромнее и неодолимее, как гоголевский Вий, вырастает, ширится, заслоняет фронт, страну, народ – неуёмная, зловещая, длиннополая тень сибирского зеленоглазого мужика, Григория Распутина...
***
В газетах всё то же.
Острожные намеки, многоточия, восклицательные знаки, не пропущенные цензурой и потому зияющие пустопорожними провалами, то там то тут, статьи, заметки, телеграммы от собственных корреспондентов, сведения с мест.
Длинные отчеты о заседаниях Государственной Думы.
Щегловитов, Сухомлинов, Протопопов.
Речь Родзянки, речь Шингарева.
Земский Союз. Военно-промышленные комитеты.
Последние судороги, последние попытки – помочь, наверстать, спасти.
– Война во что бы то ни стало! "Война до победного конца"!
Гальванический ток, порождённый отчаянием. Лозунг самовнушения. Крик с гибнущего корабля, в бурю, в ночь:
– Спасите наши души! Шестнадцатый год его не услышит.
В семнадцатом – будет поздно.
– А покуда всё идет своим чередом, изо дня в день, по заведенному порядку.
В "Русских ведомостях" исполненные истинного, высокого патриотизма, почтенные, достойные, длинные статьи.
Из тридцати ежедневных номеров можно сделать толстый журнал, многоуважаемый ежемесячник, под редакцией непреклонного, седобородого Розенберга, и читать его на покое, при уютной лампе под зелёным абажуром.
Но нетерпеливо ждать утренней, еще свеже пахнущей типографской краской газеты, накидываться на от века размеренные столбцы и нервно искать волнующего отклика для сердца, для души – найдёшь ли?
Ни пульса, ни взлёта, ни орфографической ошибки.
Все бесспорно, и все давным-давно известно.
Ни проблем, ни дилемм, одни аксиомы.
О которых говорил еще Чехов:
– Волга впадает в Каспийское море. Лошади едят сено.
Уважения бездна, а брожения, сыворотки – и в помине нет.
А ведь на "Русских ведомостях" выросли поколения, и в медвежьих углах то и дело прислушивались к почтовым бубенцам, только б скорей дождаться старого, испытанного друга!
Зато в "Русском слове" вот этой самой сыворотки и игры ума сколько хочешь.
Царит, управляет, всех и вся под себя гнёт, орёт и мордует Влад Дорошевич.
Шестидесятник он никакой, но редактор и журналист Богом отмеченный. Сытинских денег не щадит, не жалеет.
– В любом углу, в любом провинциальном захолустье корреспондент на корреспонденте сидит, корреспондентом погоняет.
На фронте Василий Иванович Немирович-Данченко, весь в папахах и в бакенбардах, невзирая на возраст, как угорелый носится, и такое пишет, что печатать неловко.
Но, что поделаешь, любит читатель, чтоб его за жабры брали. Ну, и получай вдоволь.
Главное, чтоб скуки не было.
Подавать повкуснее, и в горячем виде.
В Петербургском отделении А. В. Руманов, вездесущий, как Фигаро. Всё видит, всё знает.
Раньше всех всё пронюхает. Из министерских приёмных не вылезает.
Днём ездит, ночью телефонирует.
На извозчиков состояние тратит.
А уж о московском составе и говорить не приходится.
Александр Александрович Яблоновский. А. Р. Кугель (Homo novus). А. В. Амфитеатров, Сергей Потресов. Григорий Петров. Н. Ашешов, Ив. Жилкин. Н. А. Тэффи. Профессор Метальников. Пантелеймон Пономарёв. Константин Орлов. Юрий Сахновский. Ал. Койранский, Вилли (В. Е. Турок), Петр Потёмкин, И. М. Троцкий, А. Коральник, Н. В. Калишевич.
А всех разве перечислишь?
В двунадесятые праздники, а также на Пасху и на Рождество, академик Иван Алексеевич Бунин.
А в невралгическом пункте, на перепутье ветров, на перекрестке, забитом метранпажами, корректорами, наборщиками, телеграфистами, репортёрами, запоздавшими театральными хроникёрами, и всякой нужной и ненужной, утомительной, кропотливой и изнуряющей мелочью, в гуденье машин, в табачном дыму, сидит, как Гаспар из "Корневильских колоколов", мрачный, сосредоточенный, от рождения лысый, лицом похожий не то на петербургского Пассовера, не то на флорентийского Савонаролу, неистовый, влюблённый в свое ремесло, вечный ночной редактор Александр Абр. Поляков.
Знакомство с ним произойдёт в Киеве при гетмане Скоропадском, а крепкая дружба на веки веков завяжется на улице Бюффо, в Париже, в "Последниех новостях" П. Н. Милюкова.
Успех "Русского слова" был сказочный, тираж по тем временам, неслыханный, а Дорошевичу всего было мало, сердился, хмурился, ногами топал, и в минуты раздражения говорил Сытину:
– У вас в конторе даже построчных подсчитать не умеют. Вот посажу вам в бухгалтерию Малинина и Буренина, они вам, Иван Дмитрич, сразу порядок наведут!
***
В Ваганьковском переулке хиреет, чахнет "Голос Москвы", наследие Пастухова.
Направление захолустное, убогое, замоскворецкое.
Лампадное масло и нашатырный спирт.
Романы с продолжением, с ограблением, с несчастной любовью, смотринами, именинами, неравным браком.
Герой пьет горькую, мамаши липовый чай, а виновница торжества серную кислоту.
Покуда все они пили, читатели естественной смертью тоже вымирали, а новое поколение чувствительностью не отличалось.
Тираж падал, газета дышала на ладан.
Оживить её взялся Никандр Туркин, писавший в молодости лирические стихи, а в расцвете лет перешедший на прозу.
Стихи его быстро забылись, а прозу нельзя было забыть только потому, что никто её не читал.
Призвали на помощь милого, рыхлого, одутловатого Анзимирова, старого журналиста и вечного молодожена.
Анзимирова поддерживал Н. И. Гучков, бывший московский городской голова.
Газета стала заниматься высокой политикой, поддерживала октябристов, давала длинные отчеты о заседаниях городской думы, не говоря уже о Государственной, много места уделяла коннозаводству и другим жгучим и неотложным вопросам.
Но возврата к прошлому уже не было.
Время было беспощадное, суровое, военное.
– Одним коннозаводством не проживёшь, а издателей уму не научишь! – с тоской говорил бедный Анзимиров, изредка появляясь с бледной молодой женой в Художественном кружке.
Держалась газета до самой октябрьской революции, но так как новые октябристы опирались больше на Владимира Ильича, нежели на Николай Иваныча, то газету закрыли в первый раз за всё время ее существования, но зато уже навсегда.
***
Большим, слегка бульварным успехом пользовались во время войны "Вечерние новости", которые издавал всё тот же Крашенинников, а редактировал Борис Ивинский, петербургский журналист из окружения Василевского (не-Буквы), в надежде славы и добра переселившийся в Москву.
Человек он был темпераментный, малограмотный, но одарённый, а на ролях редактора проявил способности пожалуй выше среднего.
Пунктом помешательства была у него вёрстка.
– Первая страница должна пылать, вторая гореть, а рее остальные то там, то тут ярко вспыхивать.
Первое качество – поразить, ошарашить, ударить в лоб, и по темени.
Все прочие качества – суть производные.
Появились новые шрифты, крупные заголовки, жирно набранные сенсации, коротенькие, но ударные передовички, и три маленьких фельетона в каждом номере: военный, штатский и скаковой...
– Война и скачки! – кратко резюмировал, просматривая тиражную рапортичку, весьма удовлетворённый успехом своего детища, Крашенинников.
Сотрудники были молодые, зелёные, начинающие.
– Быстров, Шальнев, Хохлов, Вержбицкий.
Отдел скачек вёл сам редактор, сильно этим спортом увлекавшийся.
А военные стихи, под псевдонимом Гидальго, писал сотрудник "Раннего утра" и суворинской "Нови" Д. Аминадо.
В четыре часа дня "Вечёрка" бралась нарасхват, редактор уезжал на скачки, издатель подсчитывал барыши.
Тридцать лет спустя, – все эпилоги происходят тридцать лет спустя! – после трудной, жалкой и нетрезвой эмигрантской биографии, Борис Иванович Ивинский, опускавшийся всё ниже и ниже, закончил свою журнальную деятельность в "Парижском вестнике" Жеребкова, где так же неумеренно, как когда-то московских Галтиморов, славил немецких генералов, пресмыкался пред победителями, и венчал на царство Великого Фюрера с бильярдной кличкою Адольф.
Умер он в страшной нищете и в еще более страшном одиночестве.
О смерти его узнали случайно, и с невольной грустью сказали: – Конец Чертопханова.
***
После неслыханного успеха петербургской "Руси", а в особенности после окончательного закрытия ее, за основателем и редактором ее Алексеем Алексеевичем Сувориным (А. Порошиным), блудным сыном "Нового времени", установилась прочная репутация бунтаря, безумца, конквистадора, порой народника, порой славянофила, во всяком случае бесспорного и горячего патриота – без примечаний и кавычек.
"Русь" расцвела в разгар японской войны, отцвела несколько лет спустя, но оставила по себе не бледнеющее от времени воспоминание, как о чём-то значительном, ярком, и по смелости и независимости редком – в те жуткие конституционные времена – литературном и газетном событии.
Редактор был разорён, продал небольшое наследственное именьице, уплатил долги и, после долгого и вынужденного безмолвия, нашел пайщиков, воспрянул духом, и решил начать все сначала.
Знаменитого отца уже не было в живых.
"Новое время" продолжало гнуть свою нововременскую линию.
В Петербурге, переименованном в Петроград, попахивало мертвечинкой.
Алексей Порошин переехал в Москву, и в самый разгар войны, и всё на той же Большой Дмитровке снова раздул кадило.
– Название должно быть короткое и по возможности односложное, газета будет называться "Новь"! – заявил он на первом редакционном собрании. Предупреждаю, что газета эта будет особенная, ни на какую другую не похожая, и ни от каких банков и промышленных кругов не зависящая.
Надо сказать, что А. А. Суворин был натурой крайне неуравновешенной, с большими странностями, и с совершенно невероятной путаницей либерализма, славянофильства, терпимости, отрицания, прозорливости и тупости.
Последним его увлечением были иоги, индийская мудрость, непротивление злу и, в то же время, резкая, властная, непреодолимая тяга к борьбе, беспощадности, презрению к несогласным, спорящим, инакомыслящим.
Сказались эти черты характера и на подборе сотрудников, образовавших столь пестрый и неожиданный веер вокруг маленькой седеющей редакторской головы, что им, конечно, можно было только обмахиваться для пущего развлечения, и не издавать газету, да еще "особенную".
Но Суворин нисколько не развлекался, а, сжав зубы, упорно преследовал свою навязчивую идею, да не одну, а несколько сразу.
Передовые статьи с большим изяществом и, пользуясь изысканной, далеко не всем доступной терминологией, писал эстетический анархист, доцент Московского университета, Алексей Алексеич Боровой.
На ролях домашнего философа и так сказать редакционного иога состоял некто Успенский, большой специалист по четвёртому измерению.
В редакции по этому поводу не без опаски говорили:
– Лишь бы не было абстракции при уплате гонорара!
Но опасения эти были несправедливы и неосновательны.
В плане земном и материальном всё было в порядке, – и бумага, и типография, и экспедиция, и гонорар.
Ничего не понимали только одни читатели.
Филипп Петрович Купчинский, высокий человек в зелёном френче и лакированных ботфортах, прославившийся еще в "Руси" своими душу раздирающими описаниями голутвинских расстрелов, учинённых семеновцами, состоял теперь военным корреспондентом и присылал с фронта такие картинки окопной жизни, что даже в искушенной редакции и то диву давались.
Оказывалось, что в окопах, когда наступало затишье, солдаты мирно беседовали о переселении душ, и хотя по штабным понятиям назывались стрелками, на самом деле были убежденными теософами, а Блаватскую чуть ли не считали шефом полка.
Прибавить к этому большие нижние фельетоны известного клоуна Владимира Дурова, под интригующим названием "Думающие лошади", которым талантливый клоун посвятил труды и дни в своём роскошном, знакомом всей Москве, особняке на Божедомке.
Да не забыть упомянуть о статьях самого Алексея Порошина – из номера в номер – о лечении голодом... – и то трудно себе представить, какой отдых для души выпал на долю читателей и какой тираж – на долю газеты!
Эстетический анархизм, четвёртое измерение, заклинание змей, теософы с винтовкой на прусском фронте, божедомские дневники, – и редакторская уступка темной толпе, – маленькие фельетоны Юрия Бочарова в прозе и Д. Аминадо в стихах, – какое надо было иметь пищеваренье, чтобы всё это переварить, и какие деньги и упорство, чтобы всё это продолжать.
В разговорах с Бочаровым, и даже с Боровым, мы часто себя спрашивали:
– Чего же хочет этот талантливый сумасброд, этот каким-то несомненным огнём перегорающий человек, какую цель он преследует, с какими ветреными мельницами он воюет, какой правды ищет и в каком нереальном мире, в это страшное время, вне времени, живёт?!
Ответить никто не мог.
Просуществовав больше года, особенная газета умерла естественной смертью.
Через двадцать лет, в Белграде, на тридцатый день добровольного голодания, превратившись в скелет, в мумию, испив полный глоток апельсинового соку и может быть познав истину, толпе недоступную, Алексей Порошин скончался.
***
В "Утре России", на которую большие деньги бессчётно тратил В. П. Рябушинский, брат Чёрного лебедя, редактором состоял А. П. Алексинский, а на ролях городского сумасшедшего и настоящей души газеты был Савелий Семенович Раецкий, беспокойный человек и прирожденный журналист.
Газета считалась умеренно-оппозиционной, безусловно либеральной, но особой яркостью не отличалась и большого влияния на умы и настроения не имела.
Выделялся в "Утре России" Ал. Койранский, писавший о театре, и перешедший потом в "Русское слово", к Дорошевичу.
Бурнопламенной лавой извергался и растекался будущий лауреат премии Сталина, Илья Эренбург.
А. П. Алексинский и Ф. П. Шипулинский делили между собой скуку передовых статей, один уныло поддерживал военно-промышленные комитеты, другой громил Штюрмера и нового министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова, прославившегося своим знаменитым прыжком влюбленной пантеры, развлекавшим Петербург и Царское Село.
Сергей Кречетов, поэт и основатель утонченного "Грифа", писал впечатления с фронта и отлично рассказывал, как, чудом уцелев в штыковом бою, вернулся в свою офицерскую палатку, смыл с себя ледяной водой окопную грязь, опрыскался тройным одеколоном и, чтоб не потерять образа человеческого, всю ночь напролет читал "Манфреда" Байрона.
Всё это было очень свежо и неожиданно. Тем более, что было это за год до Брест-Литовска.
***
Фронт глухо ворочался, брюзжал, но терпел, крепился и держался.
Не знал удержу только один тыл.
В клубах сумасшедшая азартная игра.
Метали банк нажившиеся на поставках Лубянские молодцы, ненасытные деляги из Китай-Города, долго завтракавшие в "Славянском базаре", а по ночам проигрывавшие целые состояния в Английском, Купеческом, в Охотничьем, в особняке Востряковых на Большой Дмитровке.
Балы и вечера "в пользу раненых" превосходили по роскоши всё до тех пор виденное.
Сначала – кесарево кесарю, – уделялся часок-другой военной поэзии и гражданской мелодекламации.
Любимец публики, артист Малого театра, Владимир Васильевич Максимов, слегла подрумяненный и напудренный, из вечера в вечер читал мои стихотворные грехи молодости, посвященные королю Альберту:
Наступит день. Он будет ярок!
На именины короля
Весь мир отдаст ему в подарок
Его бельгийские поля!
Нарядные дамы были этим обещанием очень растроганы.
Из Петербурга приезжал Н. Н. Ходотов и устало декламировал под аккомпанемент рояля:
Счастлив лишь тот, кому в осень холодную
Грезятся ласки весны.
Счастлив кто спит, кто про долю свободную
В тесной тюрьме видит сны.
Горе проснувшимся... В ночь безысходную
Им не сомкнуть своих глаз.
И, после многозначительной паузы, почти шопотом пояснял:
Сны беззаботные, сны мимолетные
Снятся лишь раз...
Намёк был понят, гром рукоплесканий, Ходотов привычным жестом откидывал непослушную прядь волос, и кланялся так, как кланяются все баловни судьбы на театральных подмостках.
Автором этих пользовавшихся неимоверным успехом строф был русский Catulle Mendes, Николай Максимович Минский, а положил их на музыку популярный в те времена Н. Вильбушевич.
Трафарет, однако, требовал продолжения: Песни Индийского гостя из оперы "Садко", хоровой удали "Вдоль да по речке, вдоль да по быстрой", и, в зависимости от аудитории, песни начинавшего входить в моду Вертинского.
О Вертинском можно было бы написать не рецензию, а целое исследование.
Но ученые социологи разумеется выше этого, а психиатры просто еще не додумались.
Между тем в эпоху упадка, предшествовавшего войне, и в период развала, за ней последовавшего, надрывные ритмы аргентинского танго и манерная сухая истерика столичного Арлекина являли собой два звена единой цепи, – начало конца и самый конец.
Погубили нас не одни только цыганские романсы, чайки и альбатросы, но и все эти подёргивания, откровения и телодвижения, гавайские гитары, вздрагивания, сурдины и, конечно, притоны Сан-Франциско, где
Лиловый негр вам подаёт манто...
После всей этой литературной и вокальной мешанины начинался бал, танцы до утра, рябчики, буфет, пробки в потолок, и напрасен был, как глас вопиющего в пустыне, хриплый, полуприличный, как всегда нарочитый, но быть может и не совсем неискренний окрик Владимира Маяковского, который так и гаркнул на весь мир с окрестностями:
А вы, проводящие за оргией оргию,
Имеющие ванную и тёплый клозет,
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
Вычитывать из столбцов газет?
***
Тучи на горизонте сгущались, как выражались провинциальные передовики, и становилось все чернее и чернее.
В темпе нараставших событий уже не хватало ни adagio, ни allegro.
Одно presto, одно furioso!
На Сухаревке, на Таганке, на толкучках, в знаменитой Ляпинке студенческом общежитии, на Большой Козихе и на Малой, на университетских сходках, начинавшихся на Моховой и кончавшихся в Манеже, из трактира в лабаз, из Торговых Рядов на улицу, – ползли, росли, клубком клубились слухи, шопоты, пересуды, "сведения из достоверных источников", сообщения, глухие, нехорошие разговоры.
Ходили по рукам записочки, лубки, загадочные картинки, воззвания, стишки, эпиграммы, неизвестных авторов поэмы, весь этот не то сумбур, не то своеобразный народный эпос, всегда предшествующий чему-то необыкновенному, роковому и неизбежному.
Среди многочисленных неизвестных авторов – теперь в порядке послесловия и эпилога, целомудренные скобки можно раскрыть, – был и автор настоящей хроники, погрешивший анонимными и неуважительными виршами, посвященными сибирскому колдуну и петербургскому временщику.
Восстанавливать приходится по памяти, но так как своя рука владыка, то за неточности и запамятования просить прощения не у кого.
Была война, была Россия.
И был салон графини И.
Где новоявленный Мессия
Хлебал французское Аи.
Как хорошо дурманит деготь
И нервы женские бодрит...
– Скажите, можно вас потрогать?
Хозяйка дома говорит.
– Ну, что ж, – ответствует Григорий
Не жалко. Трогай, коли хошь...
А сам поднявши очи горе,
Одним глазком косит на брошь.
Не любит? Любит? Не обманет?
Поймет? Оценит робкий жест?
Ее на груздь, на ситный тянет...
А он глазами брошку ест.
И даже бедному амуру
Глядеть неловко с потолка
На титулованную дуру,
На бородёнку мужика.
Княгини, фрейлины, графини,
Летят, как ведьмы на метле.
И быстро падают твердыни
В бесстыдной обморочной мгле.
А чародей, змея, мокрица,
Святой прохвост и склизкий хам,
Всё извивается, стремится,
К державе, к скипетру, к верхам.
...За что ж на смерть идут герои?
Почто кровавый длится бой?
Пляши, кликуша!.. Гибель Трои
Приуготовлена судьбой.
***
Война до победного конца!
Девиз всё тот же. Лозунг остаётся в силе.
Верить во что бы то ни стало. Рассудку вопреки, наперекор стихиям.
А разбушевавшиеся стихии уже хлещут через борт.
1 ноября с трибуны Таврического дворца раздаются речи, которых топором не вырубишь.
Голос Милюкова прерывается от волнения.
С побелевших уст срываются слова, исполненные вещего, угрожающего, убийственного смысла.
– Что ж это, глупость? Или измена?!
Ответа не будет.
Его никто не ждёт.
Ни от сильных мира, уже обессиленных.
Ни от притаившейся безмолвствующей страны, силы своей еще не сознавшей.
Всё в мире повторяется. Так было, так будет.
Когда молодое вино цветёт, старое уже бродит.
Лента на экране дрожит, мигает.
16-го декабря, во дворце князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, бесхребетной, зеленоглазой гадине придет конец.
Глухой ночью окровавленное тело будет сброшено в холодную, чёрную Неву.
А на утро Петербург, Россия, мир – узнают правду:
– Распутина нет в живых.
Остальное будет в учебниках истории.
Неучи Иловайского, ученики Ключевского, каждый расскажет её по-своему.
Пребудут неизменными только числа и даты.
2-го марта на станции Дно, в вагон царского поезда, стоящего на запасных путях, войдут тучный А. И. Гучков и остроконечный В. В. Шульгин.
Всё произойдет с потрясающей простотой.
Никто не потеряет самообладания.
Ни барон Фредерикс, последний министр Двора, ни худощавый, подвижной генерал Данилов, ни господа уполномоченные Государственной Думы.
Николай Второй, Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, подпишет акт отречения, напечатанный на пишущей машинке.
И не пройдет и нескольких дней, как во главе Гвардейского экипажа, предшествуемый знаменосцем с красным знаменем, великий князь Кирилл Владимирович, будущий зарубежный монарх не Божьей милостью, а самотёком, одним из первых явится на поклон, присягать на верность новой власти.
Матросы Шекспира не читают, и монолог Гамлета им неизвестен.
"Еще и башмаков не износили"...
***
Былина, сказ, легенда, предание, трехсотлетие Дома Романовых, всё кончается, умирает и гаснет, как гаснут огни рампы, огни императорского балета.
В ночь с 3-е на 4-е марта в квартире князя Путятина на Миллионной улице, все ещё не отказываясь от упрямой веры в конституционную, английскую! монархию... с несвойственной ему страстностью, почти умоляя, обращался к великому князю Михаилу Александровичу, взволнованный, измученный бессонницей, Милюков:
– Если вы откажетесь, ваше высочество, страна погибнет, Россия потеряет свою ось!..
Решение великого князя бесповоротно.
Руки беспомощно сжаты, ни кровинки в лице, виноватая, печальная, насильственная улыбка.
В гостиную входит высокая, красивая, молодая женщина, которой гадалки гадали, да не судила судьба.
Не быть ей русской царицей.
Дочь присяжного поверенного Шереметевского, разведенная офицерская жена, а ныне графиня Брасова, морганатическая супруга Михаила Александровича.
Что происходит в душе этой женщины? С какими честолюбивыми желаниями и мечтами борются чувства любви и страха за сына Александра Третьего?
Рассказывая о прошлом, Милюков утверждал, что московская красавица держала себя с огромным, сдержанным достоинством.
Жизнь ее была похожа на роман, но каждая глава его отмечена роком.
Безумно влюбленный великий князь, припавший к мраморным коленям Победы Самофракийской.
Короткое счастье, озарённое страшным заревом войны.
Отречение мужа, после отречения Царя.
Вдовство и материнство в длительном, многолетнем изгнании, в отражённом блеске, в тускнеющем ореоле.
Гибель единственного сына, разбившегося на автомобильных гонках.
Одиночество, нищета, и освободительница – смерть на койке парижского госпиталя.
На церковном дворе rue Daru, после торжественного богослужения, за которое платил какой-то меценат, в жалкой толпе стариков и старух, дряхлых современников, и газетных репортёров, кто-то вспомнил слова давно забытого романса, который пел во времена оны, знаменитый Давыдов:
Она была мечтой поэта...
Подайте, Христа ради, ей...
XVIII
Легенда кончилась, началась заварушка.
Одна длилась столетия, другой отсчитано восемь месяцев.
Избави нас Бог от жалких слов, любительских суждений, неосторожных осуждений.
А пуще всего – от безответственного наездничества и кавалерийского наскока.
Хихикать и подмигивать предоставим госпоже де-Курдюковой, которую выдумал Мятлев, а воплотило в плоть и кровь всё, что было худшего в зарубежье.
Начиная от сменовеховцев двадцатых годов и кончая нынешними шестидесятниками, кои, доехав до Минска при Гитлере, удалились под сень мюнхенских Bierhalle для бредовых объединений и расторопных манифестов.
И все-таки, надо сказать правду: заварушка, превратилась в драму, драма в трагедию, а учредительное собрание разогнал матрос Железняк. Почему, и как всё это произошло, объяснит история...
Которая, как известно, от времени до времени выносит свой "беспристрастный приговор".
Князь Львов был человек исключительной чистоты, правдивости благородства.
Павел Николаевич Милюков был не только выдающимся человеком и великим патриотом, но и прирожденным государственным деятелем, самим Богом созданным для английского парламента и Британской Энциклопедии.
А когда старая, убелённая сединами, возвратившаяся из сибирской каторги, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская взяла за руку и возвела на трибуну, и матерински облобызала, и на подвиг благословила молодого и напружиненного Александра Федоровича Керенского, – умилению, восторгу, и энтузиазму не было границ.
– При мне крови не будет! – нервно и страстно крикнул Александр Федорович.
И слово своё сдержал.
Кровь была потом.
А покуда была заварушка.
И, вообще, всё Временное Правительство, с Шингарёвым и с Кокошкиным, с профессорами, гуманистами, и присяжными поверенными, всё это напоминало не ананасы в шампанском, как у Игоря Северянина, а ананасы в ханже, в разливанном море неочищенного денатурата, в сермяжной, тёмной, забитой, и безграмотной России, на четвёртый год изнурительной войны.
И вот и пошло.
Сначала разоружили бородатых, малиновых городовых, и вёл их по Тверской торжествующий и весёлый Вася Чиликин, маленький репортёр, но ходовой парень.
Через несколько лет он станет редактором харбинских, шанхайских и тянь-тзинских листков, и будет получать субсидии то в японских иенах, то в китайских долларах.
Вместо полиции, пришла милиция, вместо участков комиссариаты, вместо участковых приставов присяжные поверенные, которые назывались комиссарами.
Примечание для любителей:
– Одним из них был и некий Вышинский, Андрей Януарьевич.
Вслед за милицией появилась красная гвардия.
И, наконец, первые эмбрионы настоящей власти:
– Советы рабочих и солдатских депутатов.
Естествознание не обмануло революционных надежд.
Из эмбрионов возникли куколки, из куколок мотыльки, с винтовками за плечом, с маузером под крылышками.
Мотыльки стали разъезжать на военных грузовиках, лущить семечки, устраивать митинги, требовать, угрожать, вообще говоря, – углублять революцию.
Керенский вступил в переговоры, сначала убеждал, умолял, потом тоже угрожал, но не очень.
Тем более, что ни убеждения, ни мольбы, ни угрозы не действовали.
Грузовиков становилось всё больше и больше, солдатские депутаты приезжали с фронта пачками, матросы тоже не дремали.
А с театра военных действий приходили невеселые депеши.
– От генерала Алексеева, от Брусилова, от Рузского, от Эверта.
В порыве последнего отчаяния, в предчувствии неизбежной катастрофы, Керенский метался, боролся, телеграфировал, часами говорил пламенные речи, выбивался из сил, готовил новые полки, проявлял чудовищную нечеловеческую энергию, и, обессиленный, измочаленный, с припухшими веками, возвращался из ставки в тыл,
А в тылу шли митинги, партийные собрания, совещания, заседания, что ни день возникали новые комитеты, советы, ячейки, боевые отряды; и министр труда принимал депутацию за депутацией, и не просил, а умолял:
– По крайней мере не стучать кулаком по столу!
Но глава депутации не смущался, опрокидывал министерскую чернильницу царских времён, и начинал зычным голосом:
– Мы, банщики нижегородских бань, требуем...
Продолжение следовало.
И на плакатах уличной демонстрации уже было ясно написано аршинными буквами:
– Товарищи, спасайте анархию! Анархия в опасности!..
В так называемых лучших кругах общества, начиная от пёстрой по составу интеллигенции, еще так недавно исповедывавшей весьма левые, крайние убеждения, и до либеральной сочувствовавшей буржуазии, тайком почитывавшей приходившую из Штутгарта "Искру" и "Освобождение", – царила полная растерянность, распад, нескрываемая горечь и уныние.
– Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей!.. – мрачно повторял один из умнейших и просвещённейших москвичей, Николай Николаевич Худяков, профессор Петровско-Разумовской Академии, обращаясь к своему старому приятелю, Якову Яковлевичу Никитинскому, написавшему энное количество томов по вопросу об азотном удобрении.
Никитинский, несмотря на почтенный возраст, был неисправимым оптимистом, и в пику Худякову, который всё ссылался на Карлейля, возражал ему с юношеской запальчивостью:
– Я, Николай Николаевич, из научных авторитетов признаю только один.
– А именно?
– А именно, лакея Стивы Облонского. Великий был мудрец, хорошо сказал: увидите, образуется!
Через несколько недель скис и сам Яков Яковлевич.
За новым чаепитием, в уютной профессорской квартире на Малой Дмитровке, Худяков не удержался и, не глядя на начинавшего прозревать приятеля, бросил куда-то в пространство:








