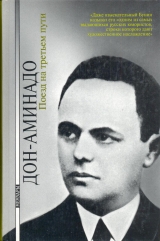
Текст книги "Поезд на третьем пути"
Автор книги: Дон-Аминадо
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Беседа оборвалась.
Больше она не возобновлялась.
***
Непокорные ветви продолжали расти вбок, в сторону.
Толстые уехали в Берлин.
Ветлугин что-то невнятное промямлил, не то хотел объяснить, не то оправдаться, и последовал за Толстыми.
На прощание сказал, что любят отечество не одни только ретрограды и мракобесы, и что любовь – это дар Божий...
– А вы, – закончил он, ища слов и как будто замявшись, – вы еще хуже других, ибо расточаете свой дар исключительно на то, чтоб мракобесие это поэтизировать, и соблазняя, соблазнить, как говорил Сологуб. И все-таки, несмотря на всё, я вас люблю... можете верить, или не верить, мне это в высокой степени безразлично.
В доказательство непрошеной любви, спустя несколько месяцев, пришло последнее письмо из Берлина.
Помечено оно было февралем 22-го года. ..."хотя вы и считаете меня гнусным перебежчиком и планетарным хамом, но упорно не отвечать на письма еще не значит быть новым Чаадаевым и полнокровным европейцем.
Хочу, чтоб вы знали, что и в моем испепеленном сердце цветут незабудки.
Посылаю вам целый букет:
Издательское бешенство все возрастает.
"Слово" открыло отделение в Москве, на Петровке!..
И, кроме того, переходит на новую орфографию, которую вы так страстно ненавидите.
А. С. Ефрон возвращается на родину, где ему возвращена типография. Хлопотал об этом Алексей Максимович Пешков, он же Горький.
"Грани" – издательство проблематичное, настроение правое, но с деньгами у них слабо.
Продаются, однако, и они хорошо, и альманах "Граней" допущен в Россию.
Незабудка номер два: в "Доме искусств", в очередную пятницу, были Гессен и... Красин.
После этого, А. А. Яблоновский и Саша Черный кажутся ультразубрами.
Тема дня – приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка.
Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем.
С ними, с Ященко, Толстым и Соколовым-Микитовым много и часто пьянствуем.
Воображаю ваше презрение.
Толстой вернулся из Риги в отличном настроении.
Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей "Касатке".
Но дело не в этом, а в том, что Рига – аванпост, а также и трамплин.
Все переговоры ведутся в Риге, а судя по советской "Летописи литераторов" и по преувеличенному ухаживанию Пильняка, – Толстой по-прежнему любимец публики.
Так что будьте уверены, что продолжение последует...
Я живу одиноко, ни на какую родину не поеду, а если куда и поеду, но на родину Генри Форда, в Америку.
В ожидании чего, пишу памфлеты и романы, и продаю на корню.
Содержание их неважное, а названия первый сорт.
Судите сами:
"Записки мерзавца".
"Лицо, пожелавшее остаться неизвестным".
И "Иерихонские трубачи".
В последний раз жду от вас ответа и жму руку.
Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин".
Этим последним, и в некотором роде, тоже человеческим документом четырехлетний роман был исчерпан.
***
Большевизанство Ветлугина было также наиграно, как и всё остальное в его путаной биографии.
На последний шаг он не решился.
Пить водку с Кусиковым это одно, а регистрироваться на вечное поселение совсем иное.
Расчет был сделан, сальдо в пользу Америки оказалось бесспорным.
Уехали Толстые. Уехал Илья Эренбург.
А единый куст расцвел в Праге, и по новой ботанике назывался "Смена вех".
В предисловии, написанном Ключниковым, были приведены цитаты из Бердяева, из статьи его в знаменитых "Вехах" 1909-го года.
Цитата была выдернута умелой рукой и приспособлена к требованиям момента:
"В данный час истории – интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике"...
За предпосылкой следовала посылка из Александра Блока.
"Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте революцию!"
Смерть поэта от голодной цынги стройности силлогизмов не нарушила.
Оставалось найти заключение. Принадлежало оно уже самому Ключникову:
"В Ленине старая русская интеллигенция без остатка исчерпывает и изживает самое себя.
Ленин – это та цена, которой куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция.
И только благодаря Ленину – превращение интеллигенции в мещанство становится исторически невозможным".
Камертон был дан, чуткий отклик профессора Устрялова воспоследовал немедленно.
Оправдание оппортунизма, знаменитой передышки, и всего вытекавшего из Нэпа было подано горячо и на совесть.
"Великий утопист, но и великий приспособленец может пожертвовать коммунизмом, чтобы спасти Советы!..
Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер.
Он понял, что от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности нужен спуск на тормозах.
Когда спуск будет завершен, тормоза станут лишними.
Но горе тем, кто из жалких эмигрантских конур попытается мешать Великой Русской Революции в ее стремлении спастись, освободиться от собственных излишеств".
Отсюда вывод и предостережение всем, всем, всем.
Провозгласит его Бобрищев-Пушкин:
"Третьей революции не будет.
Прийдя из России, Вторая и Последняя, Великая Октябрьская революция захватит Европу и только глухие не слышат уже происходящих обвалов и подземных глухих раскатов.
Может быть Европе и будет дана отсрочка на десять, пятнадцать, двадцать пять лет, но это отсрочка имеет значение только для нас смертных, а не для всего человечества.
Ибо что значит жизнь одного поколения для истории всего мира!"
После такого манифеста, что оставалось делать целому поколению, как не воспользоваться отсрочкой.
Хорошо пророкам и ясновидящим.
Горе мещанам, которые не способны предвидеть, предчувствовать, угадать.
Ни прогрессивного паралича, коим кончаются биографии гениальных диалектиков.
Ни восхождения новых созвездий на необъятной советской планисфере. Ни тяжкого булыжника, которым где-то в Мексике раскалывают череп вождя красной армии.
Ни братской могилы, в которую прокурор Вышинский уложит целый эшелон других вождей.
Ни вечной и бессмертной славы действительно единственного в мире Отца народов, которого через три недели после кровоизлияния в мозг, беспощадная история, как корова, языком слижет.
Ах! Мещане, мещане! Вечные мещане!
Живите полной жизнью, пока вас не повесили и не расстреляли, или просто не выкинули за борт истории, написанной Ключниковым и Устряловым, Бобрищевым-Пушкиным и Лукьяновым в старом городе Праге, тридцать лет назад.
– Keep smiling! – говорят невозмутимые англичане.
И кто его знает, может они и правы.
"Старайтесь улыбаться". Смейтесь.
Благо есть над чем.
***
Смех был у всякого свой, но хор звучал дружно.
Саша Чёрный, который с возрастом упразднил петербургского Сашу, и стал просто А. Чёрный, завел себе фокстерьера, у которого тоже был псевдоним: назывался он – Микки.
Собачку свою Александр Михайлович отлично выдрессировал, и когда намечал очередную жертву для стихотворной сатиры, то сам скромно удалялся под густолиственную сень, а с фокса снимал ошейник и, как говорится, спускал с цепи.
Чутье у этого шустрого Микки было дьявольское, и на любой избранный автором сюжет кидался он радостно и беззаветно.
Но сам автор отходил от сатиры всё больше и больше.
Тянуло его к зеленым лугам, к детям, к простым и вечным сияниям еще не постигших, не прозревших, невинно открытых миру сердец и глаз, ко всему, что он так удачно и без вычуров и изысков назвал "Детским островом".
Александр Александрович Яблоновский оставался всё тем же, каким его знала читающая Россия.
"Родные картинки", перенесенные заграницу, почти не изменились по содержанию.
Тем было сколько угодно.
Голубь, переночевавший в конюшне, не превратился на утро в лошадь.
Подход и трактовка, тонкий и беззлобный юмор, и только невзначай заслуженные розги, удивительно уживались с тихой, укоризненной улыбкой, за которой следовал добродушный отеческий выговор по адресу пестрой эмигрантской голубятни.
Петр Потемкин, к великому огорчению друзей и почитателей, даже и улыбнуться не успел.
Смерть унесла его рано, слишком рано, и на могилу его мы принесли розовую герань, которую он так любил и так проникновенно воспел, как бы в ответ на вызов, утверждая право на счастье, на подоконники, на герань за ситцевыми занавесками, на всё то, что Бобрищев-Пушкин считал мещанским и обреченным, а поэты и Дон-Кихоты – обреченным, но человеческим.
Впрочем, и то сказать, не так уж много было цветов герани на эмигрантских подоконниках, и ни уютом, ни избытком, ни обеспеченным пайком могли похвастаться случайные жильцы шоферских мансард и захудалых меблирашек.
Но был "Покой и воля", и отдых на крапиве, как говорил Аверченко.
Но всё же отдых, и передышка.
Бытовую сторону отдыха на крапиве отлично уловил Вл. А. Азов, присяжный фельетонист петербургской "Речи", постоянный сотрудник "Нового сатирикона", автор "Четырех туров вальса" в "Кривом зеркале", и просто остроумный и даровитый журналист, обладавший каким-то особым, спокойным, Джеромовским юмором старой английской школы.
Его русские пословицы в вольном переводе с нижегородского на французский имели немалый и заслуженный успех.
– Малэр арривэ, кордон сильвуплэ! – это могло служить подходящим эпиграфом к любой зарубежной биографии.
– Пришла беда, отворяй ворота...
Михаил Андреич Осоргин юмористом себя не считал, из журналистов перешел в беллетристы, писал повести и романы, писал с увлечением, и читали его тоже с увлечением, и славу он имел быструю и значительную.
"Сивцев Вражек" и "Там, где был счастлив" были большими этапами его большого литературного успеха.
Но тянуло его к юмору инстинктивно и неудержимо, и считался он великим насмешником, а заостренные шутки его были метки и безошибочны.
В "Последних новостях" нередко появлялись его полулирические, полуиронические повествования о том, как надо сесть на землю, разводить огород, сеять русский укроп и нежинские огурцы, и что может из всего этого выйти разумного, доброго и вечного, если даже укроп пропадет, а огурцы не примутся.
Всё это было легко, мило, воздушно и насмешливо.
Казались тяжеловесными только его философские вставки и примечания, которыми он, то и дело, приправлял и укроп, и огурчики.
А происходило это от того, что этот изящный, светловолосый и темноглазый человек отравлен был не только никотином, коего поглощал неимоверное количество, но еще и какой-то удивительной помесью неповиновения, раскольничества, особого мнения и безначалия.
И не только потому, что он мыслил по-своему, а потому, чтобы, не дай Бог, не мыслить так, как мыслят другие.
В этом была раз навсегда усвоенная поза, ставшая второй натурой.
Как-то на балу писателей, завидев одетого с иголочки и окруженного дамами Осоргина, А. А. Яблоновский не выдержал, и с вечным своим добродушием, но не без доли ядовитости, так ему экспромтом и преподнёс:
– Ну какой же вы анархист, Михаил Андреевич? Вы, просто-напросто, уездный предводитель дворянства, и вам бы с супругой губернатора мазурку танцевать, а не Кропоткина по ночам мусолить!
Осоргин шутку не только проглотил легко, но и оценил её по достоинству.
Но, что и говорить, главенствующая роль принадлежала, конечно, Тэффи, и по неотъемлемому ее таланту, и по раз навсегда установленной табели о рангах.
Писать она терпеть не могла, за перо бралась с таким видом, словно ее на каторжные работы ссылали, но писала много, усердно, и все, что она написала, было почти всегда блестяще.
Эмигрантский быт был темой неисчерпаемой, и если не всё в этом быту подлежало высмеиванию и осмеянию, то смягчающим вину обстоятельством, относилось это и ко всем остальным присяжным юмористам,– могло послужить старое, и не одной земской давностью освященное двустишие;
Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно.
И, может быть, Тэффи была и права.
И смешным могло ей искренно казаться всё, без исключения.
Ее "Городок" – это настоящая летопись, по которой можно безошибочно восстановить беженскую эпопею.
"Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной.
Поэтому жители городка так и говорили:
– Живем худо, как собаки на Сене...
Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины – малороссами.
Женщины шили друг другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги.
Остальную часть населения составляли министры и генералы.
Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.
Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галереи не заглядывали, и плодами чужой культуры пользоваться не хотели"...
Когда-нибудь из книг Тэффи будет сделана антология, и, – со скидкой на время, на эпоху, на географию, – антология эта будет верным и весёлым спутником, руководством и путеводителем для будущих поколений, которые, когда придет их час, тоже, по всей вероятности, будут бежать в неизвестном направлении, но во всяком случае не в гости, а живот спасая.
Ибо велика мудрость Экклезиаста, и не напрасно гласит она, что всё в мире повторяется, и возвращается ветер на круги своя.
Pro domo sua принято писать кратко.
Правило глупое, но достойное.
Поэтому ничего не скажу – про Колю Сыроежкина, Дым без отечества. Нашу маленькую жизнь, и Нескучный сад.
Об этом писали другие, именитые и знаменитые.
И Бунин, и Куприн, и Алданов, и Адамович, и Зинаида Гиппиус, и Марина Цветаева, и евразийский князь Святополк-Мирский.
С меня хватит.
Единственно, что в архиве сохранилось, что, вероятно, мало кому известно, и о чём, ввиду отсутствия за рубежом многих советских комплектов, может быть и стоит упомянуть, это именно о том, что тоже называлось "За рубежом", но в кавычках.
Название это принадлежало советскому еженедельнику, посвященному эмигрантской литературе.
Редактировал еженедельник Максим Горький.
Посвятил он мне следующие строки:
"Д. Аминадо является одним из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства... Приводим несколько последних произведений поэта контрреволюционного стана".
После чего, под заголовком "Поэзия белой эмиграции", – нижним фельетоном, в разворот на две страницы, как выражаются русские метранпажи, – одно за другиим, следуют шесть длиннейших стихотворений, которые – спорить и прекословить не станем – были явно написаны не подозревавшим себя "дворянином", но в коих было столько же безысходной тоски и отчаяния, сколько построчной платы получил за московскую перепечатку белогвардейский бард контрреволюционного стана...
***
Не всё было весело в русском городке, через который протекала Сена.
Но смешного, чудовищно-нелепого, было немало.
Короновался на царство и вступил на осиротевший российский престол великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя Императором.
Царскосельские скачки были перенесены в Сэн-Брийак, куда переехали на жительство оставшиеся в живых шуаны, камергеры с ключами, и весь Двор.
Городок был объявлен столицей, а в гостинице "Мажестик" на Av. Kleber состоялся Зарубежный съезд, устроенный на шальные деньги А. О. Гукасова, мечтавшего на белом коне и лихим галопом вернуться в Россию.
Богатый нефтепромышленник, получивший баснословные суммы от сумасшедших англичан на эту самую нефть, которая осталась на Кавказе и которую эти самые англичане, после падения большевиков, – "большевики кончатся через две недели!" – собирались эксплуатировать, – Гукасов развлекался, как мог.
Издавал орган национальной мысли, который назывался "Возрождение", и устраивал собственную палату депутатов, которая именовалась Зарубежным съездом.
"Возрождение" вначале редактировал бывший редактор "Освобождения", известный экономист и ученый, Петр Бернгардович Струве, а впоследствии Семенов.
От "Освобождения" до "Возрождения" расстояние большое.
Во всяком случае куда большее, чем от Штутгарта до Парижа.
Но великие люди расстоянием не стесняются, а эволюция государственных идей совершается хотя и медленно, но верно.
Ничего окончательного в этом мире нет, – окончание в следующем номере -употребляется только для красоты слога.
Нечего и говорить, что между "Возрождением" и "Последними новостями" сразу установились дружеские и добрососедские отношения, а между Струве и Милюковым немедленно началась интимная "Переписка из двух углов".
На переписку Вячеслава Иванова с Гершензоном походил этот ежедневный обмен любезностями весьма мало, но литературные традиции были соблюдены.
Так или иначе, а вся эта пища богов заключала в себе немало живительных калорий, благодарящему духовные интересы эмиграции были обеспечены на многие годы.
Появилась даже своя собственная зарубежная азбука, которая, по имени нового императора Кирилла Владимировича, получила название Кириллицы.
Весь этот русский Ампир подавлял изобретательностью, роскошью, игрой воображения, оригинальностью, новизной, пробуждал умы, и веселил души.
Ничего подобного история Европы до сих пор не видела.
Никакой параллели между французской эмиграцией, бежавшей в Россию, и русской эмиграцией, наводнившей Францию, конечно, не было.
Французы шли в гувернёры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае в губернаторы, как Арман де-Ришелье или Ланжерон и де-Рибас.
А русские скопом уходили в политику, и философию, а главным образом, в литературу.
Были страны, которые чрезвычайно это поощряли и не только выдавали ренты и субсидии, но особых идеалистов награждали еще медалями и орденами.
Так, например, король сербский Александр пригласил к себе во дворец Зинаиду Николаевну Гиппиус и Димитрия Сергеевича Мережковского и, под стройные звуки балалаечного оркестра, собственноручно приколол им орден Св. Саввы первой степени, с мечами и бантом.
И, действительно, было за что.
У Мережковского было не только большое литературное имя, но еще и особенная, недюжинная, почти патологическая страсть к раболепству и преклонению.
Великие мира сего: короли, халифы, военачальники и диктаторы ослепляли его, околдовывали, превращали в лепёшку.
В конце концов, какое имеет значение, за что именно удостоен был Мережковский королевской милости, за литературу, за пресмыкательство, за "Трилогию" или патологию?
Триумфальное возвращение из Белграда, ленты, ренты, сплетни, стихи, "шопот, робкое дыханье, трели соловья"...
А в Городке не умолкает газетный шум, кипит словесная война.
Все пишут, все печатают, все издают.
Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, – валяй, кто хочешь на Сенькин широкий двор.
Толчея, головокружение, полная свобода печати.
"Наш путь". "Наша правда". "Наш значок". "Стяг". "Флаг". "Знамя". "Знаменосец".
"Вестник хуторян". "Вестник союза русских дворян". "Нация". "Держава". "Русский сокол". "Русский витязь".
"Имперская мысль". "Эриванская летопись". Орган калмыцкой группы Хальмак "Ковыль".
А о количестве "Огоньков" и говорить не приходится.
И так, без перебоя, двадцать пять лет подряд, до "Советского патриота" включительно.
И всё больше младороссы, младороссы, младороссы.
То есть, попросту говоря, молодые люди, не доросшие до России.
А наряду с этим роман генерала Краснова "От двуглавого орла к красному знамени".
Роман Брешко-Брешковского "На белом коне".
Роман Анны Кашиной "Жажду зачатия".
И роман госпожи Бакуниной "Твоё тело принадлежит мне..."
Отдых на крапиве продолжается. Музыка играет, штандарт скачет.
***
"Иллюстрированная Россия", еженедельник Миронова, дает ежегодный бал с танцами до утра.
Ни пройти, ни протесниться. Толпы несметные.
Туалеты не от Ляминой, а от самих себя, но всё же умопомрачительные.
В программе всё, что полагается:
Песня индийского гостя из оперы "Садко". Половецкие пляски.
Плевицкая в кокошнике, поет, закрыв глаза:
"Замело тебя снегом, Россия!.."
Зал неистовствует.
Лакей в ливрее несет букет белых роз, перевязанных атласной лентой.
Не хватает только кареты, чтоб выпрячь лошадей и везти любимицу собственными силами.
Через несколько лет за женой генерала Скоблина приедет карета из тюрьмы Сэн-Лазар, кокошник будет снят, и удалую жизнь свою любимица, простоволосая и в арестантском халате, кончит в одиночной камере.
Похищение генерала Миллера, председателя Воинского союза, останется государственной тайной, предателей, на случай внезапного раскаяния, расстреляют, мавр сделал свое дело, мавра – к стенке.
В неведении будущего бал продолжается.
В центре программы – конкурс красавиц, выборы королевы русской колонии.
Вспышки магния, радость родителей, и светлая вера в то, что наступит же некогда день и погибнет высокая Троя, и возрожденная Россия соединится с Иллюстрированной, и танцы будут длиться всю ночь, до самой зари, до утра.
При особом мнении остаются основатели другого еженедельника, где никаких иллюстраций, никаких обывателей, никаких мещан, одни скифы:
– Карсавин, Трубецкой, Святополк-Мирский, Вернадский, одержимый В. Н. Ильин и человек с актерской фамилией Малевский-Малевич.
В подзаголовке никаких точек с запятыми, никаких многоточий, ничего недоговоренного.
"Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии.
Она, шестая часть света, Евразия – узел и начало новой мировой культуры.
Возврата к прошлому нет.
И то, что совершено революцией – неизгладимо и неустранимо".
Вдохновленные строки Блока обрамляют евразийскую прозу, после чего никаких надежд на продолжительный отдых не остается.
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...
Тираж, однако, небольшой. Жития еженедельнику несколько месяцев. Надгробных речей никаких.
Если не считать непочтительных стихов, посвященным парижским скифам.
Уже у стен священного Геджаса
Гудит тимпан.
И всё желтее делается раса
У египтян.
Паломники, бредущие из Мекки.
Упали ниц.
Верхом садятся тёмные узбеки
На кобылиц.
Плен пирамид покинувшие мумьи
Глядят с тоской.
И скачет в мыле, в пене, и в безумьи
Князь Трубецкой.
И вот уже, развенчан, но державен,
К своей звезде
Стремится Лев Платонович Карсавин
Весь в бороде...
На следующий день Карсавин звонил в "Последние новости", восхищался, хвалил, благодарил, но упрекнул в поэтической вольности:
– Вы мне прицепили бороду, а я бреюсь безопасной бритвой, и совершенно начисто...
– Хотите опровержение? Тем же шрифтом и на том же месте?..
– Нет, ради Бога, не надо!..
На этом отношения с Евразией благополучно окончились.
Остальное – дело Истории.
Которая, как всегда, вынесет свой беспристрастный приговор.
***
Не всё, однако, в смысле печатного слова, измерялось и ограничивалось "Вестником хуторян" и "Эриванской летописью".
Были неоднократные попытки издания почтенных толстых журналов и альманахов,– в Париже "Новый град", "Числа", "Окно", "Вёрсты" под редакцией Сувчинского и Льва Шестова, в Праге "Воля России".
Был непременный "Русский инвалид", и отличное издание, посвящённое библиографии, графике, истории словесности и русским книгохранилищам "Временник русской книги", который издавал и редактировал Я. Б. Полонский.
Во "Временнике" печатались статьи Милюкова, Лозинского, А. Н. Бенуа, Осоргина, Унгебауна, Кизеветтера, Кульмана, А. М. Ремизова, и целого ряда других знатоков, библиофилов, и просто усердных любителей и собирателей русских литературных ценностей.
Исследование Милюкова о первопечатнике Иване Федорове; статья переводчика А. Монго о рукописях Пушкина, найденных в Авиньоне; этюд Кизеветтера о московских букинистах; письма Пушкина об авторском праве; и, исполненные высокого интереса и упорного труда, замечательные исследования Я. Б. Полонского, посвященные архивам кн. Волконской в Риме, В. С. Гагарина и книгохранилищам русских иезуитов и Европе, – всё это сослужило и еще сослужит службу будущим историкам, языковедам, и тем немногим и избранным, кто, как М. А. Алданов, дышит полной грудью только в спёртом воздухе библиотек, среди пыльных фолиантов и монографий.
Не всем же выбирать королев русской колонии, менять вехи на вехи, играть в бирюльки на зарубежных съездах или просто пить горькую от тоски по родине и плакать пьяными слезами под маринованный рыжик и цыганский романс.
Но, конечно, первую и бесспорную роль в зарубежной литературе играли "Современные записки".
Почти двадцать лет существования, шестьдесят томов подлинного толстого журнала, огромное количество отдельных изданий, – всё это представляло не только героический, невообразимый в эмигрантских условиях труд, но, выражаясь языком банальных аксиом, являлось и настоящим, драгоценнейшим вкладом в историю русской культуры.
Теперь это уже не вклад, а памятник, своего рода Луксорский обелиск, в священных иероглифах которого окончательно разберутся не пристрастные и, как всегда близорукие, современники, а охлаждённые чередой грядущих десятилетий, беспристрастные и равнодушные потомки.
В деле издания "Современных записок" героями труда были четверо могикан, четверо последних римлян:
– Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков, М. В. Вишняк, В. В. Руднев.
Воображаемые их портреты должны были бы написать художники различных школ.
Николая Дмитриевича Авксентьева – Васнецов.
Илью Бунакова – Рерих.
Вадима Викторовича Руднева – Врубель.
А что касается единственного оставшегося в живых Вишняка, то ему вместо портрета, я всегда предлагал нашумевшего во времена оны – Винниченко.
И не столько самого писателя, сколько название его романа:
"Честность с собой".
Ибо никакая иная формула не могла бы со столь поразительной краткостью выразить Вишняковскую сущность.
– Честность с собой – честность с другими. Все четыре редактора вышли из одной и той же школы старого русского идеализма, все принадлежали к одному и тому же Ордену Интеллигенции, но характеры и темпераменты у них были разные, и соединявшая их крепкая и до гробовой доски ненарушимая дружба основана была не на взаимной гармонии мыслей и согласованности идей, а на вечных спорах, схватках и противоречиях...
Крайности сходятся, даже тогда, когда их не две, а четыре.
Авксентьев был благосклонен, благожелателен и добродушен.
Любил открывать заседания, давать слово, председательствовать на банкетах и приятным баритоном произносить речи и спичи.
Несмотря на официальное эсэрство, тянуло его вправо, и скорее к Маклакову, чем к Милюкову.
Бунаков был бурнопламенный, горел, пылал, перегорал, испепелялся.
В качестве комиссара Временного Правительства один боролся со всем Черноморским флотом, требовавшим углубления революции.
В полном изнеможении вернулся в Петроград, и, подобно многим, только в самую последнюю минуту покинул советский застенок, посвятив все годы своего невольного изгнания беззаветному и страстному служению родине.
На первом месте были для него "Пути России" – ряд продуманных, выстраданных и не на лёгком ходу написанных им статей и очерков, посвященных русскому прошлому и настоящему.
Но превыше всех путей был для него путь религиозного устремления, путь поздно обретённой веры, тяжкое и мучительное восхождение на гору Фаворскую, вершины которой открылись ему уже в концентрационном лагере Компьенна и в предсмертом бреду, в немецкой газовой камере.
Бывший городской голова Москвы, земский врач и тоже правый эсэр, В. В. Руднев, сжигал себя по-иному, и хованщина его была больше сектантской, раскольничьей, чужому глазу невидимой и недоступной.
Двигатель внутреннего сгорания работал бесшумно, но безостановочно.
Религиозный уклон требовал жертвы и отказа, а языческая сущность влекла к утехам, радостям, к короткому земному счастью.
Обвиняющий слышался голос,
И звучали в ответ оправданья.
И бессильная воля боролась
С возрастающей бурей желанья.
Бурю сломила смерть. В сорок первом году, в Марселе, незадолго до устроенного друзьями отъезда за океан, в Соединенные Штаты Америки.
Остался один душеприказчик, последний спорщик, последний иконокласт, несогласный, непримиримый, никаким уклонам неподверженный, всегда при особом мнении, всегда в меньшинстве, недовольный собой, недовольный другими, правдивый забияка, прямой и самовзрывчатый, из последних римлян самый последний, Марк Вениаминович Вишняк.
Трудно писать о живых недругах, еще труднее – о живых друзьях.
В семьдесят лет он еще юноша, доживём до восьмидесятилетия, тогда и поговорим.
В "Современных записках" было собрано всё, что было выдающегося в современной русской литературе.
– Бунин, Куприн, Алексей Толстой, Алданов, Борис Зайцев, Ремизов, Ходасевич, Гиппиус, Мережковский, Павел Муратов и Осоргин.
Долго печатался сибирский роман Георгия Гребенщикова "Чураевы".
Нечаянной радостью прозвучала "Нена" В. М. Зензинова.
Страстные споры вызвало появление молодого писателя Вл. Сирина.
Культурные дамы запоем читали его "Приглашение на казнь" и клялись со слезами на глазах, что всё поняли и всё постигли.
А не верить слезам и клятвам – великий грех.
Печатались в журнале стихи Бальмонта, Марины Цветаевой, Крандиевской, "Римские сонеты" Вячеслава Иванова, и целой плеяды начинающих поэтов из "Зеленой лампы", из "Перекрестка", из "Цеха поэтов".
А что касается многоуважаемых отделов, посвящённых искусству, философии, науке, политике и экономическим и социальным вопросам, то и в этой высокой и отвлечённой стратосфере сияли созвездия первой величины: проф. Ростовцев, Лосский, Чупров, Шестов, Маклаков, Милюков, Бердяев, Гершензон, Федотов, Ф. А. Степун, Мельгунов, Керенский, Вл. Жаботинский, Вейдле, Нольде и музыкальный критик Б. Ф. Шлецер, который во французских изданиях называл себя просто де-Шлецер.
Особое место занимали "Воспоминания" Александры Львовны Толстой, и, исполненные блеска, горячности и непоследовательности, боевые и всегда вызывавшие нескончаемый спор незаурядные статьи Екатерины Дмитриевны Кусковой, которую в шутливом послании ко дню ее восьмидесятилетия я назвал Марфой-Посадницей.
Последняя книжка "Современных записок" вышла в 1937 году, и уже пятнадцать лет спустя полные комплекты журнала стали редкостью.
***
Из далёкой Советчины доносились придушенные голоса Серапионовых братьев; дошел и читался нарасхват роман Федина "Города и годы"; привлек внимание молодой Леонов; внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали "Тихий Дон" Шолохова.
Восторгался стихами Есенина упорствовавший Осоргин, и где только мог, повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку "Отговорила роща золотая"...
Близким и понятным показался Валентин Катаев.
Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом, задевала за живое "Конармия" Бабеля.
И только когда много лет спустя, появился на парижской эстраде так называемый хор красной армии, и, отбивая такт удаляющейся кавалерии с такой изумительной, ни на одно мгновение не обманывавшей напряжённый слух, правдивой и музыкальной точностью, что, казалось, топот лошадиных копыт замирал уже совсем близко, где-то здесь, рядом, за неподвижными колоннами концертного зала, а высокий тенор пронзительно и чисто выводил этот щемивший душу рефрэн "Полюшко, поле"... – тут даже сумасшедший Бабель стал ближе и на какой-то короткий миг всё чуждое и нарочитое показалось, рассудку вопреки, родным и милым.








