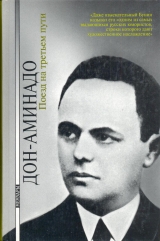
Текст книги "Поезд на третьем пути"
Автор книги: Дон-Аминадо
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Вспомнили и знаменитый единственный эмигрантский фильм, показанный на писательском балу, в "Лютеции".
– А помните, как вы меня загримировали Фритиофом Нансеном?
– Как же не помнить! А помните вы, Павел Николаевич, как мы вас усадили за шахматной доской с Петром Струве, а Алёхин изображал арбитра, и с какой поразительной самоотверженностью вы отдавали себя на полное растерзание художникам, техникам, поставщикам, и в особенности главному режиссёру Н. Н. Евреинову?
– Да, всё это было чрезвычайно удачно задумано и сделано, а главное, все были моложе, моложе...
Какая-то спокойная грусть опять прозвучала в его голосе.
Надо было что-то придумать, как-нибудь отвлечь, развлечь старика.
– А известен ли вам такой случай, Павел Николаевич, из нашей редакционной жизни?
– Про что именно?
– А про то, как пришёл в редакцию какой-то почтенный, но сурового вида господин и заявил, что желает видеть Милюкова.
– А как доложить? – спрашивает Шарапов.
А он этаким страшным басом и на самой низкой октаве и отвечает:
– Скажите, что я муж Георгия Пескова!
П. Н. до того развеселился, разразился таким милым, почти юношеским смехом, что у него даже очки запотели от невольно набежавших слез.
Пояснений никаких не требовалось, старый редактор сразу вспомнил, что Георгий Песков был псевдонимом одной из многоуважаемых дам, обогащавших газету длинными рассказами с продолжением в следующем номере.
Разговор явно затянулся, вид у П. Н. был утомлённый, я стал прощаться, а он всё благодарил и благодарил, долго тряс руку, и, с трудом встав с кресла, уж у самых дверей вспомнил и даже наизусть процитировал несколько запомнившихся ему строк из моего юбилейного посвящения на приснопамятном банкете у Феликса Потэна.
Вышел я от Милюкова с огорчённым сердцем, но от какой-то большой тяжести освобожденным.
– Сказал – и облегчил душу.
А восьмидесятилетнего старика было по-настоящему жаль.
Не так уж много Милюковых на белом свете.
Много за его долгую жизнь копошилось вокруг него всякой человеческой скверности и мрази, завистливой и убогой посредственности, тупости, глупости и безответственного бахвальства, а наипаче всего пошлости.
А в этот страшный сорок второй год, когда сделки с совестью совершались не ежедневно, а ежеминутно, и все эти бесчисленные Рощины, Любимовы, Лоллии Львовы, Жеребковы, графини Чернышёвы и Солоневичи бесстыдно лизали немецкие ботфорты и ездили в полонённые русские города издавать газеты и просвещать "освобожденный" народ, а Дмитрий Сергеевич Мережковский истошным голосом вопил и кликушествовал во все микрофоны германского штаба,– одно сознание, что Милюков жив, было отдохновением, успокоением для души, одной из немногих надежд, одной из немногих точек опоры.
Не про него ли это была сказано, не к нему ли была воистину приложима, исполненная высокой грусти, вдохновенная, проникновенная строка?
– Белеет парус одинокий...
***
– Мишка, крути назад!
1-е марта 1931 года.
Никакой заслуги в том, что дата эта приводится со столь разительной точностью, нет.
Ибо, несмотря на бурную деятельность немецких гауляйтеров, очищавших и, по приказу повешенного впоследствии Розенберга, вывозивших в Германию всё, что имело хоть какое-нибудь отношение к политической или бытовой истории русской эмиграции, – в архиве автора, нетронутом предшественниками канцлера Аденауэра, случайно уцелело и ниже приводимое посвящение П. Н. Милюкову по случаю десятилетия его редакторской деятельности в "Последних новостях".
Чествование, или банкет, скорее семейный праздник, в слегка расширенном по такому случаю кругу сотрудников и ближайших единомышленников П. Н., происходил в ресторане Felix Potin'a, помещавшемся на первом этаже (обычно ресторан предназначался только для деловых завтраков и вечером был закрыт), как раз над гастрономическим магазином того же, славившегося своим бакалейным товаром парижского epicier.
Поэтому, все участники этого эмигрантского торжества и приглашённые, а было их около ста человек, собравшись к 8 часам вечера, после закрытия магазина, должны были, чтобы попасть на банкет, пройти чрез длинные анфилады внушительных холодильников, прилавков, стоек, полок, столов, уставленных розовой ветчиной, страсбургскими паштетами, миланскими колбасами, всякими остро пахнущими добротными сырами, копченьями, соленьями, бочками маслин, сельдей, и прочей грешной и аппетитной снеди, вызывавшей, как у Павловских собак, немедленные условные рефлексы.
Все это было настолько неожиданно и... оригинально, что покойный Г. М. Арнольди, "председатель русско-демократического объединения", обладавший вкусом и злым языком, не выдержал и так и буркнул одному из главных растяп и устроителей:
– Чехова хоронить привезли в вагоне от устриц, и чествовать Милюкова будут в бакалейной лавке...
Несмотря впрочем на эту действительно неосмотрительную нелепость, распорядителем был один из бывших министров временного правительства,– сам юбиляр, как и следовало ожидать, не обратил на холодильники ни малейшего внимания, и с обычной своей несколько смущённой, столь знакомой всем улыбкой, торжественно проследовал меж рокфоров и лимбургских сыров, прямой и слегка розовый, ведя под руку незабываемую Анну Сергеевну, седую, вечную курсистку, а на склоне лет председательницу общества университетских женщин.
Местничества и табели о рангах в этом своеобразном мире почти и не существовало, – но всё же само собой, а вышло как-то так, что главный штаб фатально очутился по близости к своему редактору, а остальные уселись, как попало.
Сразу стало шумно, непонятно, уютно и весело.
Заговорили все сразу, прямо через столы и по диагонали, сбоку и наискосок, так что обносившие блюда французские лакеи только растерянно улыбались и смущённо переглядывались с непроницаемыми мэтр-д-отелями.
Речи начались рано и кончились поздно.
Вспоминали прошлое, пили за будущее, "подымали свой бокал", кто-то, конечно, расчувствовался и так и сказал, что слезы мешают ему говорить, после каждой речи следовали бурные аплодисменты и троекратные лобызания юбиляра, который, как и всё в жизни, и это перенес стоически.
Во всём этом было много теплоты, не мало искренности, но не мало и умолчаний, и опасных уклончиков от генеральной милюковской линии, как ядовито пояснял Мих. Андр. Осоргин.
– Ну, а теперь, после ужина горчица, и, стало быть, очередь за вами,ласково, но не без редакторской повелительности, обратился к автору настоящих воспоминаний ставший под конец совсем пунцовым Павел Николаевич.
Приветствие было в стихах, и, конечно, не только заранее написано, но по просьбе А. И. Коновалова отпечатано на правах рукописи, в количестве 60 экземпляров, под нейтральным заглавием "Всем сестрам по серьгам" и с пометкой даты: 1 марта 1921 – 1 марта 1931.
На расстоянии лет, десятилетий даже, всё так переменилось, поблекло, безвозвратно ушло, навсегда умолкли когда-то бодрые, молодые голоса, а от многочисленных и шумных участников банкета, – или, как говорил все тот же Арнольди, "Пир" Платона у Потэна, – осталась в живых только малая горсть, и то рассеянная по всему лицу не русской земли.
Но, если рассказывая о том, что было, не следует увлекаться ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод, то, может быть, тем более неуместно поддаваться гамлетовским сомнениям и задавать самому себе все равно нерешённый и неразрешимый вопрос – стоит ли ворошить прошлое?..
После предисловий и реверансов, и, разумеется, с некоторыми неизбежными пропусками и сокращениями, – ведь у каждой эпохи есть своя акустика,– вот это покрытое земской давностью юбилейное посвящение, последние экземпляры которого исчезли, как и весь Пражский Архив, в котором они находились.
Горит восток зарёю новой...
Уже на Пляс Палэ-Бурбон
Седой, решительный, пунцовый,
Свои стопы направил он.
Вокруг – сотрудников шпалеры.
Ползет молва из-за кулис.
В кустах рассыпались эсэры.
Гудят грузины. Брызжет Рысс.
Сквозь огнь окопов прёт Изгоев.
На левом фланге – сам Чернов.
На правом, в качестве героев,
Застыли Марков и Краснов.
Отрядов пестрых Мельгунова
"Нависли хладные штыки".
Вдали мелькают вехи Львова.
Заходят в тыл меньшевики.
Тогда, не свыше вдохновенный,
На то он слишком атеист,
А точный, ясный, неизменный,
И как всегда позитивист,
Одной и той же предан думе,
И не витая в небесах,
Всё в том же сереньком костюме,
Давно протертом на локтях,
"Идет, Ему коня подводят..."
Но таково его нутро
Он лошадь роскошью находит,
И опускается в метро.
И, путь вторым проделав классом,
Слегка смущенный, весь в пыли,
К верхам, к низам, к эрдекам, к массам,
Выходит вновь из-под земли.
В его руках – передовая.
На пальцах кляксы от пера.
"И се, равнину оглашая,
Далече грянуло ура.
И он промчался пред полками",
Простой, решительный, седой,
Сверкая круглыми очками...
"За ним вослед неслись толпой"
Гнезда папаши Милюкова
Достопочтенные птенцы,
Его редакторского слова,
Как выражается Кускова,
Издревле верные жрецы:
Демидов, ласковый и смуглый,
И Волков, твердый как булат.
И Коновалов, с виду круглый,
А по характеру квадрат.
Маститый Неманов-Женевский,
Борисов, папин мамелюк,
Научный двигатель Делевский,
И просто двигатель – Зелюк.
И все проделавший этапы
Столь многочисленных карьер,
И посвящённый буллой папы
В чин кардинала Кулишер.
И хмурый Марков, вождь казацкий,
Дитя землячеств и станиц.
И, наконец, профессор Шацкий,
"Одно из славных русских лиц"...
И, с анархического фланга,
Немного буйный Осоргин.
И, капитан второго ранга,
Отшвартовавшийся Лукин.
Князья – Барятинский, Волконский,
Князь Оболенский, Павел Гронский,
И Зуров, Бунинский тиун.
Последний римлянин Лозинский,
Всегда обиженный Ладинский,
И Сумский, он же и Каплун.
И Адамович ядовитый,
Чей яд опаснее боа,
И сей, действительно маститый
И знаменитый Бенуа.
И рядом маленький Унковский,
И Дионео, он же Шкловский,
Полу-Эйнштейн, полу-Бергсон.
И Шальнев, харьковский иль тульский,
И проницательный Мочульский,
И тьма министров и персон.
И, с виду дож венецианский,
Не граф, но всё-таки Сперанский,
И Мад, и вдумчивый Цетлин,
И Абациев, горный сын,
Наш Богом данный осетин.
И Оцуп, выдумавший "Числа".
И Мейснер, спирт и скипидар.
И на строку глядевший кисло
Братоубийственный Вакар.
И, по обычаю Прокруста,
Рукой Абрамыча-отца
Усекновенная Августа
Без предисловья и конца.
И он, осолнечен, олунен,
Пред ликом чьим лишь ниц падёшь,
О ком сказал директор: – Бунин
Уж очень дорог, но хорош!
И дважды крупный Калишевич,
Как таковой, и как Словцов.
И Мирский, он же и Гецевич,
Из оперившихся птенцов.
И Кузнецова – дочь курганов,
И сам блистательный Алданов,
И Вера Муромцева, и
Усердный Зноско, чьи статьи
Почище всяческих романов.
И Азов, старый сибарит.
И Поляков из объявлений.
И наш Ступницкий, наш Арсений,
Папашин новый фаворит.
И указательный, как палец,
Мякотин, местный иерей.
И Жаботинский, друг-скиталец,
И друг "Последних Новостей".
И Бенедиктов благородный,
И Метцлей выводок дородный,
Зажатый Волковым в кулак.
И счастья баловень безродный,
Андрей Мойсеевич Цвибак.
И он, чей череп пребывает
В жестоковыйном дэкольте,
Кто культам всем предпочитает
Российский культ maternite.
Кто сам и ось, и винт, и смазчик,
Кто рвет, и мечет, и клянёт,
И прячет рукописи в ящик,
И в тот же ящик и плюет.
Чьей нрав крутой и бесшабашный
Приемлет даже Милюков,
Кто Поляков, но самый страшный,
И самый главный Поляков...
... И с ними в бешеном галопе,
Под чёрной сотни стон и крик,
Промчался бурей по Европе
Сей поразительный старик.
Вокруг чернил бурлили реки,
Был пусть и мрачен горизонт.
Но плотным строем шли эрдеки
И вширь выравнивали фронт.
Ротационные машины
Гудели грозно... И во мрак
Уходит Струве сквозь теснины,
Сдаётся пламенный Вишняк.
По швам, по золоту лампасов,
Трещит светлейший Горчаков.
Ногою дрыгает Гукасов,
Рукою машет Маклаков.
Слюну в засохшие чернила
Семёнов в судорогах льёт.
Взбесясь, киргизская кобыла
В обрыв Карсавина несёт.
И Мережковский Атлантиду
И рвет и мечет по частям,
И посылает Зинаиду...
На мировую к "Новостям".
... Но годы мчатся. Наступает
Тот день, когда средь мирных стен
"Как пахарь битва отдыхает",
И смелых чествует Potin.
– И от работы ежедневной
Освободясь на миг один,
С женою, с Анною Сергевной,
Сверкая холодом седин,
Слегка взволнованный, смущённый,
Друзей вниманием польщённый
Старик пирует...
***
Лобызания. Аплодисменты. Весь ритуал. Всё, как полагается. Холодильники остались на месте. Банкет кончился.
***
А через несколько дней пришла открытка из Грасса, высочайший рескрипт за подписью Бунина:
– Придворный льстец,
Но молодец!
XXI
Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
Как бы нам с тобой дознаться,
Как бы нам с тобой издаться?
Отвечает им Зелюк
Всем – писаки, вам каюк!
Отвечает им Гукасов
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает Имка – Мы
Издаем одни псалмы!
Шутливая пародия эта, написанная не присяжным юмористом, а самим Ив. Ал. Буниным, метко отражала положение книжного дела в эмиграции.
Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, типографы печатали календари.
И вдруг – среди бела дня – сцена заклинания духов.
Словно из-под земли вырастает дух Корнфельда, который в Петербурге издавал первый "Сатирикон".
Дух тщательно выбрит, тонзура как у католического прелата, глаза играют, галстук бабочкой, одышки никакой.
Время – деньги, разговор вплотную, ни вздохов, ни придаточных предложений.
– Решил возобновить "Сатирикон", хотите быть редактором?
– Идея гениальная, а редактором будете вы сами.
– Почему же не вы?
– Потому что дорожу отношениями и не хочу их портить.
Корнфельд опешил.
– Помилуйте, какой же я редактор? В издательском деле, в книжном, в художественной части, в обрамлении, я, можно сказать, собаку съел. Но взять на себя редактирование, нет, не чувствую себя в силах...
– Скромность подобна плющу, который опутывает ветки молодости... А так как вы уже не молоды, то скромность ваша ни к селу, ни к городу. Кроме того, вспомните, что сказал наш общий друг Ленин: "И любая кухарка может управлять государством".
А редактировать журнал тем более!
– Спасибо за кухарку! – обиженно протянул в нос прелат с бабочкой, но, после третьей рюмки Мартелля – три звездочки, modus vivendi, или как переводили бурсаки из Квитко-Основьяненко, мода на жизнь, была установлена: редактором-издателем будет Корнфельд, то есть портить отношения с братьями-писателями и художниками его дело, а внутренняя работа будет лежать на мне.
Состав сотрудников блистал всеми цветами радуги.
Чтоб не портить отношений, были привлечены академики, лауреаты, переводчики, беллетристы, поэты, и даже земские статистики, и приват-доценты, которые заграницей сами произвели себя в профессора.
Из старых сатириконцев оказались на лицо всего трое – Влад. Азов, Валентин Горянский и Саша Чёрный.
Остальные тоже сами произвели себя в юмористы.
Художники и рисовальщики откликнулись с величайшем живостью.
А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, Добужинский, Стеллецкий,
Шухаев, Ал. Яковлев, Терешкович, Пикельный, Серебряков, и главный застрельщик, талантливый блестящий Икс, который свои литературные произведения подписывал именем Тимирязева, а под рисунками и карикатурами ставил другой псевдоним.
– Шарый.
Настоящая фамилия его была куда звучнее, и слава была прочной, а наличие псевдонимов объяснялось иными соображениями...
Была весна. Апрель. На больших бульварах одуряющий запах золотых мимоз, привезенных из Ниццы, парижских фиалок, розовых гвоздик.
Первая страница первого номера посвящена безвременно ушедшим Петру Потёмкину и Аркадию Аверченко.
Разве мог он знать и чаять,
Что за молодостью дерзкой
Грянет странная гроза
Годы тёмного разгула,
Годы горького скитанья,
И что всё засыплет пепел
И улыбку, и глаза.
Стихи были посвящены покойному Аверченко. Написал их Саша Чёрный. А через короткое время хоронили его самого.
***
На долю Сатирикона, третьего по счёту, выпал большой и заслуженный успех.
Так выражались не только рецензенты, но и вся именитая и знаменитая литературная табель о рангах, и просто обыкновенные смертные, платившие три франка золотом за отпечатанный на отличной бумаге номер.
Рисунки Бенуа, Шухаева, Добужинского, старый Петербург, стихи Агнивцева "Подайте Троицкому мосту, подайте Зимнему Дворцу..." – русская ностальгия неизбежно врывалась в весёлый, не совсем, впрочем, беззаветный смех.
Графическая сатира таинственного Шарого была и просто замечательна.
Его портреты вождей, матроса Дыбенко, Троянский конь, Яблочко, школа дипломатии, эмигрантский вариант Дяди Вани, Чарли Чаплин у подножья Сфинкса, с пояснением – "Великие Немые" – всё это конечно войдет в маленькую историю, в большую хрестоматию подлинного, не смеха, а юмора.
Много остроты и верного чутья было в неожиданных по теме и трактовке рисунках Гросса и Пикельного.
Много прозы, как всегда занятной, но уже дышавшей раздражением и усталостью, аккуратно поставлял из своего итальянского убежища А. В. Амфитеатров.
Отлично писал в манере Гофмана Валентин Горянский.
Как всегда, мудрил и мудрствовал А. М. Ремизов.
И упорно подражал самому себе Вл. Азов.
Стихов была бездна, все они были, вероятно, совершенно гениальны, так как на следующий день их уже никто не помнил.
Пытался грешить пером Никита Балиев.
Так называемые юморески, весьма, впрочем, милые, давал Н. Н. Евреинов.
Грешил стихами и прозой и я сам, подписывая прозу, неизвестно почему К. Страшноватенко.
Очевидно удачны, потому запомнились, были анонимные пояснения под некоторыми карикатурами и рисунками.
Под анонимом следует разуметь плод коллективного творчества. Помню чудесный фотомонтаж Шарого, изображавший С. В. Рахманинова в ореоле славы, и подпись к нему:
Руками громы извлекаю
Ногой педали нажимаю,
Я – Рах! Я – Ма! Я – Ни! Я – Нов!
На другом рисунке похоронная процессия, за гробом идут две равнодушные фигуры, и одна другую спрашивает:
– Как вы думаете, попадёт он в царствие небесное?
– Не думаю... для этого он слишком застенчив.
Или вот еще замечательная карикатура того же Шарого:
"К уразумению смысла русской эмиграции". Сидит в кресле Илья Ильич Обломов. На коленях у него уцелевший экземпляр "Столицы и усадьбы, а в руках похожая на свастику большая буква Ять.
По лицу текут слезы. А пояснение такое:
О славном прошлом воздыхает,
И Ять слезами обливает...
Или еще. Рисунок Шварца, – современная Клеопатра.
Голая, жирная, розовая, глаза прищурены, в ателье пусто и неуютно. Под рисунком подпись:
– Какая тоска... Ни Цезаря, ни Антония, – одни художники!
Все, конечно, не вспомнить, а и вспомнишь – не перескажешь.
Но бился в этом третьем "Сатириконе" живой пульс, и отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и жить, а вот что-то около года просуществовал, и потом взял и помер.
Друзья говорили – денег не хватило, враги говорили – юмор был, а юмористов как кот наплакал.
Плакал он очевидно недолго, и сдается мне, что на этот раз враги были правы.
***
А тут подошел май-месяц, но уже другого – 1932-го года.
Холодный был май и неуютный.
Только и было радости и пищи для души, что все, как помешанные, запоем читали "Любовники лэди Чаттэрлей" и потом рассказывали друг другу своими словами.
6-го мая, в третьем, четвёртом часу дня экстренные выпуски газет, аршинные заголовки, обычный призыв к населению соблюдать спокойствие и самообладание, и краткое официальное сообщение о покушении на убийство президента республики Поль Думера.
Состояние раненого тяжёлое, почти безнадежное.
Убийца арестован. Русский. По фамилии Горгулов.
Эмигрантский Городок в панике. Спешно закрывают двери, ставни. Шепчутся, сообщают из самых достоверных источников, что убийцу расстреляют, а всех остальных повесят.
Ночью президент Республики, не приходя в сознание, умирает.
Горгулов в тюрьме. Его допрашивают.
Ответы его нелепые, бессмысленные, несуразные.
...Бездушная машина задавила фиалку... Отмщение машине. Мир должен быть освобожден. Добро победит Зло. Правда восторжествует. Президент не при чём. Он есть символ. Символ уничтожен. Очередь за сущностью. Зелёная программа будет выполнена до конца...
Сумасшедший? Одержимый? Симулянт? Советский агент? Провокатор?
Французские газеты теряются в догадках.
Знает истину только одно "Возрождение".
"Большевик чистой воды. Подослан Дзержинским, подослан Менжинским".
Дзержинского уже давно нет в живых. Никакого значения, всё равно подослан.
С какой целью? И вы еще спрашиваете? Взорвать эмиграцию, Францию, Европу, Континент, Америку, все пять частей света, всю географию, глобус, весь земной шар!
"Последние новости" держатся выжидательно.
Вакар гонит строку. Андрей Седых интвервьюирует министров, депутатов.
Президенту – национальные похороны. Республиканская гвардия. Военный оркестр. Марш Шопена. Марш Бетховена. Несметные толпы народу.
Спектакли пражской группы, в знак траура, тоже отменены...
Проходит несколько недель. Суд. Три защитника по назначению. Психиатрическая экспертиза. Речи. Приговор. Машина доктора Гильотэна. Голова Горгулова падает в корзину. Пьеса кончена.
Эмиграцию не расстреляли, не повесили, никуда не выслали.
Из достоверных источников, однако, сообщают, что, случись это все у немцев, от русской эмиграции осталось бы мокрое пятно, а, может быть, даже и пятна не осталось бы.
Всё, стало быть, к лучшему в этом лучшем из миров. Надо, однако, признать, что сумбур в умах преступление Горгулова породило огромный.
Глупостей и нелепостей по этому поводу было высказано столько, что хватило бы их не на одно, а на два, на три поколения.
Единственным светлым моментом на этом безнадёжном фоне была умная, тонкая, беспощадная статья Ходасевича.
По иронии судьбы напечатана она была всё в том же "Возрождении" и трактовалось в ней не о самом Горгулове, а о горгуловщине вообще.
Выдержки из нее объясняли и еще объяснят многое и многим.
Даже и по сей день не потеряла эта замечательная статья своей остроты и актуальности.
"Среди бредовых брошюр, стихов и романов, собрания диких нелепых книжек, изданных в эмиграции, среди коллекции всех видов литературной бессмыслицы, тощая брошюрка Горгулова ничем особым от тысячи других ей подобных не отличается.
Называется она "Тайна жизни скифов", могла бы называться и иначе, как угодно.
К несчастью, творцы этой сумасшедшей литературы суть люди психически здоровые.
Как и в Горгулове, в них поражена не психическая, а, если можно так выразиться, идейная организация.
Нормальные психически, они болеют, так сказать, расстройством идейной системы.
И хуже всего и прискорбнее, что это отнюдь не их индивидуальное несчастье,
Точнее, что в этом несчастье с особой силой сказался некий недуг нашей культуры.
Уже с середины прошлого века, всколыхнувшего новые слои русского общества, слои в культурном отношении средние и низкие, так называемые "главные вопросы" – церковь, власть, народ, интеллигенция,– проникло в самую толщу и подверглись бурному обсуждению, редко основанному на действительном понимании обсуждаемого".
И дальше:
"Две войны и две революции сделали самого тёмного, самого малограмотного человека прямым участником величайших событий.
Почувствовал себя мелким, но необходимым винтиком в огромной исторической мясорубке, кромсавшей его самого, пожелал он и лично во всём разобраться, – и в результате, сложнейшие проблемы религии, философии, истории стали обсуждаться на площадях, на митингах...
Идейная голь занялась переоценкой идейных ценностей.
С митингов и из трактиров повальное философствование перекинулось в "Литературу".
На проклятые вопросы в изобилии посыпались проклятые ответы.
И вот и вышло, что Горгуловщина родилась раньше Горгулова.
От литературы она унаследовала лишь одно, но зато самое опасное:
– О предметах первейшей важности судить по прозрению, по наитию...
Кретин и хам получили право публичного кликушествования.
За Хлебниковым, Маяковским и им подобными страшными горланами шли другие помельче.
Очутились они и в эмиграции.
Для этих людей их собственное невежество является' как бы гарантией против шествования "избитыми путями".
И еще дальше:
"В какой-то степени, в каком-то отдалённом, непережёвыванном плане горгуловская идея вышла из Блоковских "Скифов".
И если бы Блок дожил до Горгулова, он, может быть, заболел бы от стыда и горя...
А между тем, Горгуловых вокруг и всюду – тьма.
Об одном маленьком Горгулове некий прославленный писатель с восторгом воскликнул:
– У него в голове священная каша!
С этой мечтой о каше надо покончить раз и навсегда.
Оболваненных и самовлюблённых скифов надо толкать не в новый мистический град Китеж, а научить их вести себя по-человечески в старом граде, к примеру сказать, в Париже".
Мережковский, прочитав эту статью, пришёл в бешенство.
Ведь он-то и был тот самый прославленный писатель, который с высоты своей башни с цветными стёклами уронил столь заумное и вещее слово насчёт священной каши.
Так или иначе, а горгуловщине нанесен был меткий и, может быть, роковой удар.
Правдивое слово было сказано чётко, без всяких обиняков.
***
Преувеличивать, однако, не следует.
Не каждый же день творились безумства и совершались преступления.
Были в эмиграции и монотонные будни, обыкновенные, серые, тянувшиеся изо дня в день, как во всяком благоустроенном человеческом обществе.
Конечно, не без того, чтоб укокошили гетмана Петлюру, которого некоторые особенно бойкие французские газеты именовали сыном Скоропадского, племянником полковника Бискупского, и вообще говоря прямым потомком Рюриковичей.
Но всё это больше для красоты слова, и особого влияния на умы не имело.
Зато, к примеру сказать, атамана Махно и пальцем никто не трогал.
И жил от тихо и мирно, писал мемуары, ходил на лекции Степуна, никогда ни на каких тачанках не ездил куда бы то ни было.
Он брал такси, и даже добивался свидания с Алдановым, чтоб получить от него предисловие к увеличивающимся в объеме мемуарам.
Но Алданов, хотя никому ни в чём отказать не мог, от предисловия всё же уклонился.
Кроме того, большим утешением в жизни было так называемое чистое искусство.
Музыка, живопись, литература, не говоря уже о балете, о Лифаре, "о подвигах, о доблести, о славе", как писал Александр Блок.
Приезжал Рахманинов, блистал Стравинский, играл на двух роялях Прокофьев.
Ходил Городок на выставки своих собственных художников, умилялся, хотя ничего не понимал, пред картинами Гончаровой; еще больше умилялся, хотя совсем ничего не понимал, глядя на этюды Ларионова; притворялся, что ценит Анненкова; искренно восхищался Яковлевым и предсказывал большое будущее Шагалу, у которого, впрочем, уже было большое прошлое.
О литературе и говорить нечего.
Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречён на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель,– кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали,– несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.
"Жизнь Арсеньева", "Митину любовь", "Последнее свиданье" и "Солнечный удар", не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве, и не в Елецком уезде Орловской губернии.
Куприн написал своих "Юнкеров", "Елань", книгу "Храбрые беглецы", рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в отдельном купэ на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.
Все вещи Алданова, начина от "Св. Елены" и "Девятого Термидора" и кончая "Ключом", "Бегством", "Истоками", – блестящий перечень их в несколько строк не уложишь, – задуманы и созданы в эмиграции, заграницей, за рубежом.
Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева – "Анна", "Дом в Пасси", его "Тургенев", "Жуковский", – всё это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.
Свою замечательную книгу "После России" Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.
Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.
То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.
А об историках, философах, и учёных и говорить не приходится.
Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун, – вся эта Большая, а не Малая медведица, расточала свой звездный блеск тоже не на русские, и на иностранные горизонты.
И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у черта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарёва, не убоявшихся легкокрылого афоризма, что мол на подошвах сапог нельзя унести с собой родину...
Оказалось, что можно, и что история эта, конечно, повторяется.
И что даже их советские превосходительства, полпреды и торгпреды, прятавшиеся в глубине лож, чтоб тайком взглянуть и услышать живого Шаляпина на сцене Парижской Оперы, и те не могли сдержать контрреволюционных восторгов, и роняли невзначай неосторожное слово:
– Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...
Да и как могло быть иначе, когда шаляпинская легенда творилась на глазах публики, на глазах всего мира, и голос его звучал в сердцах и увековечивался на дисках, а аплодировал ему и старый свет, и новый свет.
А он, как одержимый, носился по всему земному шару, с материка на материк, с континента на континент, пересекал моря и океаны, из Сан-Франциско в Токио, из Шанхая в Массачузетс, и, утомлённый, упоённый, счастливый, возвращался "домой", в Париж в собственный многоэтажный дом на Avenue dEylau, где ждали его многочисленные дети и неотложные дела – знаменитые завтраки с друзьями...
***
В горнице Бориса Годунова, прямо против входных дверей, сразу бросалась в глаза "Широкая масленица" Кустодиева, та самая, с Шаляпиным в шубе, в бобровой шапке, над Москвой, над метелицей, над качелями и каруселями.
А в открытое окно – как на ладони, Эйфелева башня, вся в тонких стропилах, перехватах, антеннах и кружевах.
Первым делом – портвейн, чёрный-чёрный, густой и, как говорит сам Федор Иванович, неслыханного аромата.








