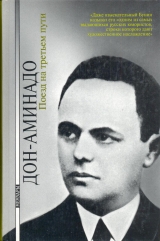
Текст книги "Поезд на третьем пути"
Автор книги: Дон-Аминадо
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
В утреннем номере газеты, в отделе городской хроники, оскорбительно мелким шрифтом было напечатано:
"Вчера ночью пожарная команда Бульварного участка была вызвана в Биоскоп Сирочкина. Тревога оказалась ложной".
***
Искусство Хейфеца, как редактора, проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования.
Теперь это уже почти забыто, но быть может справка не лишена интереса.
В "Одесских новостях" начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в лёгких, в совершенно новой манере подданных фельетонах, за подписью Altalena.
Старую гвардию, своего рода совет старейшин вокруг склонного к диктатуре редактора, представляли тишайший О. А. Инбер, полиглот и начётчик, С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немыслимый в настоящее время псевдоним – Лоэнгрин, и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма.
Но какой это был прелестный, душевный, всегда растерянный, часто неприкаянный, и так сильно напоминавший чеховского Гаева человек!
Близорукий, изящный, какой-то особой повадкой походивший на уездного предводителя дворянства из обрусевших поляков, всегда в безукоризненно накрахмаленных воротничках, с густыми мягкими, мопасановскими усами, Герцо-Виноградский пользовался большой популярностью и любовью.
Изумительная память и патологическая страсть к цитатам создали ему репутацию настоящего энциклопедиста, знавшего наизусть, как говорил Бунин, где какие люди живут и за какие идеалы страдают...
Это был один из тех старых литераторов и последних могикан, которых щедро расплодил Михайловский и снисходительно осуждал Владимир Соловьев.
Это ему, добрейшему и безотказному Петру Титычу, и ему подобным, патетически писали курсистки высших женских курсов:
– Научите, как жить...
А он и сам не знал и не ведал, и в дружеской беседе, в полнолунной зачарованной тишине новороссийской ночи, слегка размякнув от красного вина, каким-то дрожащим, взволнованно-ослабевшим голосом не то декламировал, не то нараспев читал любимые стихи Тютчева:
"Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
...Взрывая, возмутишь ручьи.
Питайся ими, и молчи".
И замолкал. И виноватыми, добрыми, и уже влажными глазами глядел на собутыльников и, словно ища оправдания минутной слабости, обращался к застрявшему в Одессе Н. Н. Ходотову, и не просил, а почти умолял:
– Николай Николаич, будь другом, прочитай нам что-нибудь... этакое... особенное, сногсшибательное...
И Ходотов, избалованный, прославленный, гремевший на всю Россию своей знаменитой актёрской октавой, отяжелев от лавров, лет и салатов Оливье, всегда одним и тем же театральным жестом откидывал прядь седеющих волос, отходил к раскрытому в ночь окну, и начинал:
Развернулось предо мною
Бесконечной пеленою
Старый друг мой, море.
Сколько силы необъятной,
Сколько власти непоятной
В царственном просторе!..
Читал он так, как читали в те баснословные года все любимцы публики на всех вечерах и вечеринках, с многозначительными ударениями, подчёркиваниями, размашистыми жестами и полными таинственного смысла паузами, стараясь, надрываясь, угождая и подлаживаясь к толпе, к студенческой молодёжи, к сознательным элементам, требовавшим прозрачных намёков, хорового начала, и учредительного собрания.
Всё это, конечно, было совсем не то... Но каждому овощу свое время, понятия и вкусы меняются с невероятной медленностью, и в те трогательные, нелепые, глубоко-провинциальные времена эта ходульная декламация пользовалась огромным и неизменным успехом.
Умный, одарённый, прозорливый Пётр Пильский, который говорил, что от всякой фальши его корчит и сводит как от судороги в ноге, и тот, однако, как одержимый, кидался к упоённому всеобщим восторгом актёру и припадочно шипел:
– Спасибо, Ходотов! Спасибо за всё!
Как надо было понимать это всё – не мог объяснить никто.
Лоэнгрин, Барон Икс, Железная Маска, Незнакомец, Старый Театрал, Седой, Некто в сером, Иван Непомнящий, Иван Колючий, Саша Чёрный, Лоло, О. Л. д'Ор, Турист, Иванов-Классик, Буква-Василевский, Василевский-Небуква, Ленский, Линский, Ядов, список этот можно было бы продолжить без конца, – всё это тоже было данью времени, эпохе, условным требованиям литературной моды и тогдашним российским нравам.
И не только в периодической печати, и не только в провинции, но и в так называемой всамделишной изящной словесности, дух времени оказался сильнее чутья и вкуса.
И все тот же упрямый свидетель истории мог бы с полным основанием напомнить, что и великие мира сего не гнушались ядовито и тяжеловесно намекнуть на то, что они не Пешковы, не Бугаевы, не Гиппиусы, а – Максим Горький, Андрей Белый, Антон Крайний, и прочая, и прочая, и прочая.
Ал. А. Поляков, K. В. Мочульский, Д-р Ценовский, Леонид Гросман, Ал. Биск, Горелик, равно как и управляющий контрой и "выдачей авансов" С. В. Можаровский, сотрудники равноценные по значительности, темпераменту, и характеру работы, составляли небольшую группу, не имевшую псевдонимов.
О некоторых из них речь впереди.
***
О ком еще стоит вспомнить и хотя бы вскользь упомянуть, порой с примесью запоздалой признательности и сожаления, – "их было много, их больше нет", порою с чувством, с отзвуком угасшего негодования?
Ведь, помимо героев и воображаемых портретов во вкусе Уолтэра Патера, помимо итальянских теноров, дерибасовских красавцев, велосипедистов, спортсменов и героев Семена Юшкевича, были в этом городе преходящих вкусов не одни только мотыльки и бабочки, любимцы публики на день, на час, которых поспешно венчала и столь же поспешно развенчивала впечатлительная, неблагодарная, неверная южная толпа.
Были талантливые актеры русской драмы, – вдохновенный, бледный, испепелённый М. М. Горелов, игравший неврастеников и первых любовников, незабываемый в "Призраках" Генрика Ибсена; был недюжинный по дарованию горбун, С. М. Ратов; молодой Виктор Петипа, сверкавший всею лёгкой радугой своей французской крови; и неразлучный друг его и приятель, Южный, которого бесцеремонно называли Яша Южный, – в будущем, в годы эмиграции, директор имевшего большой успех русского театра миниатюр "Синей Птицы"; был рыхлый, вкрадчивый, торжественный и театральный А. И. Долинов, впоследствии режиссер Александринского театра, говоривший о Савиной, полузакрывая глаза и приподымаясь со стула; был еще популярный на юге М. Ф. Багров, несменяемый антрепренёр городского театра.
И как же забыть завсегдатая генеральных репетиций, первых представлений и первых рядов, рисовальщика и карикатуриста, остроумного, весёлого, или притворявшегося весёлым, всей повадкой своей напоминавшего парижского бульвардье, в шляпе набекрень, в выхоленной бородке с моложавой проседью, милейшего, беспокойнейшего Мих. Сем. Линского, предварительно переменившего немало газетных рубрик и немало псевдонимов, которому на каком-то интимном чествовании, – в Одессе обожали юбилеи и чествования, – кажется. Корней Чуковский преподнёс это сохранившееся в памяти посвящение:
Ты прежде принцем был де-Линь,
Потом ты просто стал де-Линь,
Ну что ж, линяй, брать, дальше...
Спустя несколько быстро промчавшихся десятилетий, во время оккупации Парижа, бывший балетный фигурант и немецкий наймит, по фамилии Жеребков, с удивительной прозорливостью докопался и открыл, что бывший принц де-Линь был всего-навсего уроженец города Николаева, Шлезингер, на основании чего, и по приказу генерала фон-Штульпнагеля, в одно прекрасное последнее утро, за крепостными валами Монружа, уже не с легкой проседью в подстриженной бородке, а белый как лунь, и белый как полотно, Мих. Сем. Линский был расстрелян, и зарыт в братской могиле, в числе первых ста заложников.
Большое, окаймлённое чёрной рамкой объявление о расстреле ста было расклеено по всей Франции. Мы его прочитали в Aix-les-Bains, сойдя с поезда. В двух шагах от вокзала, в нарядном курортном парке, оркестр играл марш из "Нормы". Была вещая правда в стихах Анны Ахматовой:
Звучала музыка в саду
Таким невыразимым горем...
***
Еще одно имя, прежде чем покинуть Одессу: Герман Фадеич Блюменфельд.
Официальный титул – присяжный поверенный Округа Одесской судебной палаты, знаменитый цивилист, автор почти единственных на всю Россию трудов по бессарабскому праву.
В быту, в домашней жизни, в общении с людьми – обаятельный человек, доброты и нежности плохо скрываемой за какой-то сочинённой и выдуманной маской брюзги, буки, ворчуна и недотроги.
А между тем, стоило недотроге сесть за свой огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями, чтобы попытаться, в который раз, закончить важную кассационную жалобу в Правительствующий Сенат, как, – вот вы сами видите, – признавался он в минуты отчаяния, – какой скэтинг-ринг устраивают на моей лысине кошки, дети, и все друзья и подруги этих миленьких детей, которые тоже приводят кошек, и еще спрашивают, негодяи: – Мы вам не помешали?!
Недаром, когда праздновался 25-летний юбилей его адвокатской деятельности и старший председатель Судебной Палаты, обратившись к нему с сердечным прочувствованным приветствием, выразил надежду, что он, юбиляр, еще в течение долгих и долгих лет будет являть пример всё того же высокого и неизменного служения праву, и чувствовать себя в Суде, как дома, – бедный Герман Фадеич не выдержал и со свойственной ему быстротой реплики немедленно возразил:
– Пожелайте мне лучше, Ваше Превосходительство, чувствовать себя дома, как в Суде...
Дом Блюменфельда был в полном смысле слова открыт для всех.
Клиенты, просители, товарищи по сословию, а в особенности молодые помощники присяжных поверенных, и "наш брат студент", приходили почем зря и когда угодно, спорили, курили, без конца пили чай, безжалостно уничтожали пирожные от Фанкони, рылись в замечательной блюменфельдовской библиотеке, а потом наперебой задавали Буке бесконечные вопросы по гражданскому праву, по уголовному праву, требовали рассмотрения каких-то невероятных сложных казусов, бесцеремонно настаивали на немедленной дискуссии, одним словом, как говорил сам Г. Ф., устраивали параллельное отделение юридического факультета, и извлекали из-под скэтинг-ринга, – это непочтительное наименование сократовой лысины будущего сенатор" укоренилось быстро и окончательно, – не мало настоящих знаний, а порой и откровений, которыми восполнялись неимоверные пробелы незадачливой официальной науки.
Воспоминания о Блюменфельде не есть нечто своё, неотъемлемое и личное.
В будущей свободной России, когда все станет на место и возврат к истокам и извлечённым из праха и забвения ценностям окажется неизбежным, и о забытом Г. Ф. будет написана поучительная книга, может быть целая антология его юридических построений, теорий, толкований и разъяснений.
В антологию эту непременно войдут и его щедро рассыпанные, оброненные на ходу, брошенные на ветер, в пространство, – афоризмы, определения, меткие острые слова, исполненные беспощадной иронии, но и доброты и снисходительности, мнения и характеристики, и, может быть, в конце книги грядущие и, как всегда, равнодушные поколения прочтут все же не с полным безучастием короткий эпилог, несколько покрытых давностью строк из частного письма, дошедшего в Европу в грубом сером конверте из обёрточной бумаги, с почтовой маркой с портретом Ленина: голодной смертью, от цинги, умер Герман Фадеич Блюменфельд.
***
Новороссийский антракт кончался. Чехов где-то писал, что каждому надо побывать в небывалой сказочной стране, закатиться, скажем в Индию, хотя бы для того, чтобы, когда придет старость, было, что вспомнить, сидя у камина... небо пронзительной синевы, священные воды Ганга, стены Бенареса.
Мы знали наперёд, что университетские годы воспомнить будет нечем. Хвала Аллаху, молодость от университета не зависит.
Она сама по себе, а здание факультета на Преображенской улице, и все что было в нём, сами по себе.
Носили фуражку с синим околышем, всё реже и реже ходили не лекции, сдавали зачёты, с ужасом и страхом думали о государственных экзаменах, ибо было досконально известно, что опять есть приказ по линии: половину экзаменующихся резать.
Сам А. Ф. Шпаков давал нам на этот счет неутешительные объяснения.
– Хотят вас старые грымзы измором взять, научить, говорят, уму-разуму, а на самом-то деле отбить охоту ко всяким этим гуманитарным наукам и, елико возможно, сократить таким образом непомерное количество будущих правоведов с неизбежной революционной прослойкой...
Всполошился, засуетился восьмой семестр, послали ходока на разведки в Киев, дали строгий наказ разузнать всё до точки, и правда ли, как был слух, что председателем государственной комиссии намечен Удинцев, декан и шляпа, а профессор Митюков, – римское право, – гениальный человек, но алкоголик, хотя считает всех неучами, но резать не режет.
Ходок привёз вести самые утешительные; всё оказалось сущей правдой, будущее, как и должно было быть, рисовалось в свете самом лучезарном, стало быть, думать нечего, валяй, братцы, на Сенькин широкий двор!
Ни выводов, ни итогов.
Заключительные строки, в которых они отразились, пришли позже:
Блажен, кто во время постиг,
В круговорот вещей вникая,
А не из прописей и книг,
Что жизнь не храм, а мастерская.
Блажен, кто в этой мастерской,
Без суеты и без заботы.
Себя не спрашивал с тоской
О смысле жизни и работы...
Итак прощайте. Лиманы, Фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл,
Одесса Толмачёва
Резина Глобачева,
А молодость ничья!
Прощайте, милый Шпаков, единственный утешитель, и розовый и седой, талантливый, пронзительный Орженцкий, виновный в том, что поляк, а потому навсегда доцент, и только в далёком будущем первый ректор Варшавского университета.
Застучали колеса пролётки по вычищенным мостовым. Что ж еще?.. Закурить папироску фабрики Месаксуди, обернуться назад, на сразу ставшее милым прошлое, крепко удержать в памяти, на всю жизнь запомнить ослепительную южную красоту, в пышном цвету акации на Николаевском бульваре, бегущие вниз ступени – к золотому берегу, к самому пропитанному солью нестерпимо-синему простору, еще в счастливом неведении грядущих бед, не предугадывая, не предчувствуя чеканных строк Осипа Мандельштама, которым суждено будет стать пророческим эпиграфом целой жизни:
Здесь обрывается Россия
Над морем чёрным и глухим.
XIII
Киевский эпилог окрылил молодые сердца, никакой горечи несбыточных надежд не оказалось; на скамейках, в Купеческом саду, валялись всё те же конспекты и подстрочники, увесистый том Митюкова, тощие тетради Рененкампфа, никакой трехуголки, ни растрёпанного томика Парни, и только иногда, для отдохновения и паузы, прочитанный с торопливой оглядкой номер "Освобождения" Струве, чудом пришедший из города Штуттгарта.
На облупившихся, розовых колоннах университета Св. Владимира висели пожелтевшие от времени объявления, циркуляры, предписания и правила.
По длинным, нескончаемым коридорам взад и вперёд двигалась всё та же шумная, бестолковая, всегда и всем недовольная и негодующая, и всегда от всего, от любых даже пустяков, по-настоящему счастливая толпа, все эти молодые, и непременно бородатые, со страшными шевелюрами, – стрижка считалась изменой общему делу, – в традиционных косоворотках под форменными тужурками, не то гоголевские бурсаки, не то пришедшие из древних времён печенеги, какими описал их еще Мамин-Сибиряк в "Чертах из жизни Пепко", и исправил и дополнил в своих пользовавшихся длительным успехом "Студентах" Михайловский-Гарин.
В июле месяце, в жаркий, невыносимо жаркий полдень, после восьми, казавшихся вечностью, недель зубрёжки, горячки, уныний и упований, – история повторяется, – чудом или, как сказал будущий Козьма Прутков, терпение и труд хоть кого перетрут,– все было кончено, сдано, написано и отвечено, включая "Устав о наказаниях, налагаемых Мировыми судьями и Земскими начальниками", который для декламации не подходил.
И еще раз, и еще раз, отрясти прах от ног своих и, как выражались беллетристы прошлого столетия, "броситься в самую гущу жизни", всему научившись и ничего не зная, но с вожделенным дипломом в руках и с пресным, бесцветным и обезличивающим званием – окончившего юридический факультет такого-то императорского университета с дипломом первой (или второй) степени.
Даже лекарь и повивальная бабка второго разряда звучали для оскорблённого уха более звонко и ударно, чем это убогое, осторожное в своей казённой точности наименование, вышедшее из недр боголеповских канцелярий.
Но все это было мелочью и чепухой, по сравнению с главным:
– Жизнь начинается завтра!
Так назывался роман Матильды Серао, так называлась и глава нашего собственного романа.
Снова вокзал. Снова звонок. И заочно провозглашает бородатый швейцар, весёлый архангел:
– Поезд на первом пути!..
XIV
Проехав Харьков, Курск, Тулу, Орёл, подъезжая к Серпухову, почти у самых ворот Москвы, приличествует вспомнить боярина Кучку, шапку Мономаха, Стрелецкий бунт, порфироносную вдову и закончить неизбежным восклицанием:
– Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...
Но очевидно ассоциации и цитаты приходят какими-то иными путями.
Сознаемся честно, без ужимок и оправданий, – стихи, пришедшие на память, еще не обременённую воспоминаниями, но уже встревоженную предчувствиями, были старомодные стихи Апухтина.
Курьерским поездом, летя Бог весть куда,
Промчалась жизнь без смысла и без цели...
Из песни слова не выкинешь. Ведь настоящая жизнь только начиналась. И если сообщение о болезни Толстого, только что прочитанное в утренних газетах, и нарушило на мгновение душевное равновесие, всё же открывавшийся молодому воображению мир был воистину прекрасен, полон волнующих обольщений, восторгов и надежд.
Цель будет достигнута, смысл придет потом, а бедного Апухтина сдадут в архив.
Но покуда законодатель мод и новый временщик литературных нравов произнесёт загадочно и нараспев – "О, закрой свои бледные ноги!.." – упрямый провинциал успеет контрабандой протащить, но на этот раз уже совсем кстати, еще две строчки из того же обречённого на забвение автора:
"Кондуктор отобрал с достоинством билеты.
Вот фабрики пошли. Теперь уж не заснуть"...
Паровоз тяжело вздохнул. Замедлил ход, поезд дрогнул, и остановился. Курский вокзал. Москва.
***
"Не поймет, и не оценит гордый взор иноплеменный"...
Ни взор, ни слух в особенности.
А музыки московских сочетаний на западный бемоль не переложишь.
– "Не уложить в размеры партитур пленительный и варварский сумбур".
Санкт-Петербург пошел от Невского Проспекта, от циркуля, от шахматной доски.
Москва возникла на холмах: не строилась по плану, а лепилась.
Питер – в длину, а она – в ширину.
Росла, упрямилась, квадратов знать не знала, ведать не ведала.
Посад к посаду, то вкривь, то вкось, и всё в развалку, медленно, степенно.
От заставы до другой, причудою, зигзагом, кривизной, из переулка в переулок, с заходом в тупички, которых ни в сказке сказать, ни пером описать.
Но всё начистоту, на совесть, без всякой примеси, без смеси французского с нижегородским, а так, как Бог на душу положил.
Только вслушайся – на век запомнишь!
– Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка.
– Молчановка. Маросейка. Сухаревка. Лубянка.
– Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка.
И еще на всё: Вшивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово поле.
– Арбат. Миуссы. Бутырская застава.
– Дорогомилово... Одно слово чего стоит!
– Охотный ряд. Тверская. Бронная. Моховая.
– Кузнецкий Мост. Неглинный проезд.
– Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие Пруды. Кудринская, Страстная, Красная площадь.
– Не география, а симфония!
А на московских вывесках так и сказано, так на вечные времена и начертано:
– Меховая торговля Рогаткина-Ежикова. Булочная Филиппова. Кондитерская Абрикосова. Чайная развесочная Кузнецова и Губкина. Хлебное заведение Титова и Чуева. Молочная Чичкина. Трактир Палкина. Трактир Соловьёва. Астраханская икра братьев Елисеевых.
– Грибы и сельди Рыжикова и Белова. Огурчики нежинские фабрики Коркунова. Виноторговля Молоткова. Ресторан Тестова. "Прага" Тарарыкина.
– Красный товар купцов Бахрушиных. Прохоровская мануфактура. Купца первой гильдии Саввы Морозова главный склад.
И уже не для грешной плоти, а именно для души:
– Книжная торговля Карбасникова. Печатное дело Кушнерёва. Книготорговля братьев Салаевых.
А там, за городом, за городскими заставами, будками, палисадами, минуя Петровский парк, – Яр, Стрельна, Самарканд.
Живая рыба в садках, в аквариумах, цыганский табор прямо из "Живого трупа".
У подъездов ковровые сани, розвальни, бубенцы, от рысаков под попонами пар идёт, вокруг костров всякий служилый народ греется, на снегу с ноги на ногу переминается.
Небо высокое, звёздное; за зеркальными стеклами, разодетыми инеем, морозным узором, звенит музыка, поет Варя Панина, Настя Полякова, Надя Плевицкая.
Разъезд будет на рассвете. Зарозовеют в тумане многоцветные купола Василия Блаженного; помолодеет на короткий миг покрытый мохом Никола на Курьих ножках; заиграет солнце на вышках кремлевских башен.
И зелено-бронзовые кони барона Клодта над фронтоном Большого Театра обретут свой чёткий, утренний рельеф.
А на другом конце города, – велика, широка Москва, всё вместит, всё объемлет, – за другими оградами, рогатками и заставами, от хмельного тяжёлого, бредового сна и проснётся на жёстких нарах по-иному жуткий, темный и преступный мир, тот самый Хитров рынок, который никем не воспет, хотя и весьма прославлен.
И вот, поди, разберись!.. Москву, как Россию, не расскажешь, не объяснишь.
А только одно наверняка знаешь и внутренним чутьём чувствуешь:
– Петербург – Гоголю, Петербург – Достоевскому.
Болотные туманы, страшные сны, вещее пророчество:
– Быть Петербургу пусту.
А грешной, сдобной, утробной Москве, с часовнями ее и с трактирами, с ямами и теремами, с нелепием и великолепием, тёмной и неуёмной, с Яузой, и Москвой-рекой, и с Замоскворечьем купно – всё отпустится, всё простится.
– За простоту, за широту, за размах великий, за улыбку ясную и человеческую.
За московскую речь, за говор, за выговор.
За белую стаю московских голубей над червлёным золотом царских теремов, часовенок, башенок, куполов.
А пуще всего за здравый смысл, а также за добродушие.
В Петербурге – съёжишься, в Москве – размякнешь.
И открыл её не Гоголь, не Достоевский, а стремительный, осиянный, озарённый Пушкин.
"Моё! сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг"...
Шарахнулись в сторону, попятились назад и мёртвые души, и Бесы.
***
Прошумело столетие. И снова, в сотый раз, была зима и выпал снег.
Пред полотном Кустодиева замерла восхищенная толпа. Во все глаза глядела на "Широкую масленицу". Мела метелица, и в снежном вихре взлетали к небу зелёные, красные, жёлтые, синие, одноцветные, разноцветные, сумасшедшей пестроты шары, надувные морские жители, бенгальские огни, рассыпавшиеся звездным дождём ракеты и фейерверки; заливаясь смехом, с весёлой удалью качались на качелях ядрёные, белотелые, краснощекие, крупитчатые, рассыпчатые молодицы и молодухи, в развевавшихся на ветру сарафанах, платках, шалях.
Захватывая дух, стремглав летели с русских гор игрушечные санки, расписанные суриком, травленые сусальным серебром, а в них в обнимку, друг к дружке прижавшись, уносились вниз счастливые на миг, на век, пары; теснилась, толпилась, притоптывала, плясала, во всю гуляла масленичная толпа, в гуд гудели машины в трактирах, заливалась гармонь, надрывалась шарманка:
Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой.
Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть.
И над всем этим кружением, верчением и мельканием, над качелями и каруселями, ларями, шатрами, прилавками и палатками, над толпой, над Москвой, над веселой гульбой, над снежной метелицей, в разрыве, в просвете синего неба церковной синевы, – в меховой высокой шапке, в бобровой шубе, огромный, стройный, ладный, живой, во весь рост стоял в молодой своей славе, российский кумир, языческий бог – Федор Иваныч Шаляпин...
Такой он и был этот северный пролог, написанный Кустодиевым, таким он и остался в памяти.
***
Потонувший колокол, завязший в тине? Счастливые годы, счастливые дни? Олеография? Выдумка? Чистая правда?
Всё равно, всё – позади. Сначала пролог. А потом продолжение.
Оставалось следовать за продолжением.
Записаться в сословие, заказать фрак с атласными отворотами, а также медную дощечку с выгравированным стереотипом:
"Помощник Присяжного Поверенного такой-то, часы приёма от 5-ти до 6-ти"; и пусть так толпой и прут, авось и полного генерала в очереди задавят.
Главное сделано, остальное пустяки: набить газетами новый, приятно пахнущий кожей портфель, и чрез любые ворота – Ильинские, Спасские, Иверские, с деловым видом пройти через Кремлевский двор, мимо Оружейной Палаты, к белому, величавому зданию московских судебных установлений; проглотить слюну и войти.
Швейцаров тьма тьмущая. Улыбаются, но презирают. Груди в медалях, взоры непроницаемые.
Подымаешься по мраморной лестнице, прежде всего – заглянуть в святая святых:
– Митрофаньевский зал.
Здесь по делу игуменьи Митрофании гремел и блистал сам Федор Никифорович Плевако.
Те, кому довелось его слышать, только загадочно пожимали плечами, как бы давая понять, что объяснить всё равно невозможно, и, только после большой паузы, многозначительно роняли:
– Талант, нутро, стихия! С присяжными заседателями делал, что хотел.
Крестьян, мещан, купцов из Замоскворечья, любой серый люд, закоренелый и заскорузлый, мог в бараний рог согнуть, и из камня искры высечь.
Молодые помощники только рты открывали, и шли в буфет.
Съедали ватрушку, и вновь ходили из конца в конец, по длинным коридорам, с портфелем подмышкой, делая вид, что пришли за справкой, по страшно важному делу, которое всё откладывается и откладывается, так как главный свидетель всё время переезжает с места на место, и нет никакой возможности вручить ему повестку.
Это был старый приём и весьма убогий.
Никто этому, конечно, не верил, но в порядке сословной вежливости было принято сочувственно улыбаться и делать вид, что так оно и есть, и что если бы проклятый свидетель не переезжал с места на место, то "дорогой коллега" давно бы уже гремел и блистал в Митрофаньевском и во всех других залах.
Тем более, что коллег было две тысячи с лишним, и все они были криминалисты и, как шекспировский Яго, жаждали крови, убийства на почве ревности, или, в крайнем случае, с целью грабежа.
А патрон, к которому они были приписаны, посылал их к мировым судьям по делу о взыскании 45 рублей по исполнительному листу, да еще просроченному.
О политических защитах и говорить не приходилось. На министров хотя и покушались, но тоже не каждый день.
За стрельбой по губернаторам ревниво следили великие мира сего. Матерые, знаменитые, уже давно отстрадавшие свой худосочный стаж, настоящие, великолепные, выхоленные присяжные поверенные, сиявшие крахмальными сорочками в вырезах безукоризненного фрака, с лёгкой сединой и львиной осанкой, с тяжёлым чеканного серебра сословным значком с левой стороны, а не с университетской фитюлькой голубой эмали, которой безвкусно злоупотребляли безработные помощники.
От давно устаревшей Лейкинской сатиры, посвящённой Балалайкину, до беспощадных толстовских портретов на процессе Катюши Масловой, да еще с незабываемыми рисунками Пастернака, пробежали не одни только десятилетия.
Перед войной четырнадцатого года одной из неоспоримых российских ценностей был не только глубоко вкоренившийся в жизнь и нравы и стоявший на особой высоте суд, но и поистине высокая, недюжинная, создавшая традицию и в ней окрепшая русская адвокатура.
И когда на лестнице или в коридоре, или в зале заседаний, можно было чуть ли не ежедневно встретить живого Муромцева, Ледницкого, Муравьёва, Н. П. Шубинского, Кистяковского, Измайлова, Малянтовича, Маклакова, Кобякова, князя А. И. Урусова, утомленного деньгами и славой Гольдовского, и сверкающего золотыми очками и золотистой бородкой Н. В. Тесленко, не говоря уже о младших богах Олимпа, то, что грех таить, в душах неоперившихся птенцов, слетевшихся из дальних захолустий, бурлили не только чувства гордости и любви к отечеству, но и особые чувства хвастливого удовлетворения и самоутешения, подкрепленного стихами Тютчева:
"Его призвали всеблагие,
Как соучастника на пир"...
Попутно надо признаться ещё в одном.
Подражание великим образцам стало своего рода манией.
Говорят, что в расцвете байронизма неумеренные поклонники лорда Байрона подражали ему не столько в поэзии, сколько в манерах и привычках.
Хорошим тоном считалось хмуриться, высокомерно откидывать назад роскошные кудри, презирать толпу, если даже она состояла из одной собственной, оставшейся не у дел старой няньки; а главное хромать, припадая на правую ногу.
Даже в наши гимназические времена, когда монографии Андрэ Моруа и в помине еще не было, весь четвёртый класс, влюблённый в пышную генеральшу Самсонову, едва завидев предмет любви и обожания, как по команде подымал воротники шинелей, и, с выражением решительных самоубийц на розовых мордах, начинал хромать, припадая направо.
Каждому овощу свое время.
Теперь дело шло о будущем, а кто его знает, и удачное подражание могло быть этапом на пути к карьере, своего рода трамплином для счастливого прыжка.
Следует сказать, что все это не носило характера заразы или эпидемии.
Были и такие индивидуалисты, или анархисты, или отщепенцы, которых никакими великими образцами не вдохновишь и не соблазнишь.
Но те, кто подражали, работали во всю.
Так, например, поклонение Анатолию Федоровичу Кони выражалось в том, что молодые усы тщательно выбривались, и бородку опускали от виска до виска во всю ширину.
Получалось нечто вроде персонажей Ибсена, Бьернстэрнэ-Бьернсона, Набоба Баста, Гамсунова лейтенанта Глана в плохом переводе, но во всяком случае не высокочтимого сенатора Кони.
Потом отпускали небольшие бачки, или фавориты, в честь Карабчевского.
Подражать Тесленке было немыслимо и сложно.
Зато небрежная, овальная, не очень тщательная щетинка Маклакова и опущенные вниз усы имели большой успех и немалый тираж.








