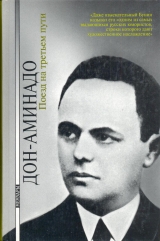
Текст книги "Поезд на третьем пути"
Автор книги: Дон-Аминадо
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Надо сказать, что при всём том, писателей и литераторов, профессиональных газетчиков и журналистов еще покуда не трогали.
И не столько из соображений такта, или особого к ним уважения, или какого-то мистического целомудрия, а больше по тем же легендарным причинам, кои, как принято считать, всегда предшествуют образованию Космоса.
Ибо советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного, безмордого месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга, и удвоенные пайки для Серапионовых братьев, – всё это появилось не сразу.
Ничего поэтому удивительного не было и в том, что так называемые труженики пера, попавшие в категорию первых беспризорных, оказались по полицейскому недосмотру в некоем неестественно-привилегированном положении и, разумеется, не преминули этой кратковременной привилегией воспользоваться.
Газеты рождались явочным порядком и, как однодневные мотыльки, бесследно исчезали по безапелляционному, с претензией на церемонную законность, постановлению Комиссариата по" делам печати.
Одним из неугомонных пионеров "газеты во что бы то ни стало" был В. Е. Турок, сотрудник закрывшегося навсегда "Русского слова", талантливый журналист, писавший под псевдонимом Вилли.
Нарочитая несерьезность этой подписи, как и множества, если не большинства других псевдонимов того времени, была, надо думать, "созвучна эпохе", только что отзвучавшей.
Отношение к цензуре, к цензурным комитетатам, Главным Управлениям, Особым присутствиям, и прочим достижениям шефа жандармов Бенкендорфа и великого инквизитора Победоносцева, было по преимуществу сугубо-ироническим, не без намеренного верхоглядства – ты меня за бока, а я тебя свысока!..
И во всех этих кличках, прозвищах, псевдонимах была, конечно, какая-то непочтительная, инстинктивная ужимка, поза, гримаса.
Гримаса "человека, который смеется", и смехом этим защищается.
Даже нововременский Сыромятников назывался Сигма, и сам Буренин был Алексис Жасминов.
А о так называемой либеральной печати и говорить не приходится.
Все эти Альфы и Омеги, Пессимисты и Незнакомцы, Санхо-Пансо и Дон-Кихоты, провинциальные Трубадуры, Лоэнгрины, Железные Маски, Офени, Иваны Колючие, Незнамовы, Бурсаки, Безродные, Непомнящие, Ивановы-Классики, Тарелкины, Чертопхановы, Страшноватенки, и столичные Глоб-Троттэры, Пэнгсы и Домби, а имя им – легион, все они, кто умно, кто убого, кто с блеском и талантом, кто с потугами и тщетой, хуже, лучше, с искрой, без искры, с огоньком, без огонька, но каждый по-своему, и все купно, часто в бровь, но нередко и в самый глаз, как могли, как умели, кому как Бог на душу положил, и всё же по большей части честно и неподкупно боролись, протестовали, намекали, доказывали, казнили презрением, многозначительно замалчивали, и как, не щадя живота, злоупотребляли цитатами, кавычками, восклицательными знаками, а пуще всего многоточием!..
Так вот этот самый Вилли, один из легиона, торжествующий и возбуждённый, влетает однажды в столовую еще не закрытого, но бездействующего Союза Журналистов в Столешниковом переулке и, как бомба, взрывается у нашего стола, уставленного чайными стаканами с морковным чаем и одним кружочком вялого лимона на всю братию.
– Владимир Евсеич, что с вами? Откуда? От следователя? От комиссара? Вызывали? Допрашивали? На вас лица нет!..
– Как это так лица нет?! – поднял голос Петр Потемкин, по уши влюбленный в заведующую буфетом Любовь Дмитриевну, и поэтому находившийся всегда за стойкой и всегда в приподнятом состоянии духа,– да, посмотрите на него, – и П. П. стал преувеличенно театральным голосом декламировать:
– Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза!..
Надо думать, что Потемкин был прав, ибо все немедленно согласились, что, действительно, лик его ужасен, и что случилось нечто гораздо более важное и необыкновенное, чем вызов к комиссару или следователю.
Вилли продолжал раздувать ноздри, тяжело дышал, сопел, отхлебнул принесенного Потемкинской Музой какого-то подозрительного квасу, и, отдышавшись, торжественно объявил:
– Нашел издателя, только что выпущен из тюрьмы. Отличный мужик, имени сказать не имею права, – лицо, пожелавшее остаться неизвестным! Ездил с ним в типографию Мамонтова. Все согласны. Бумага есть. Газета на восемь страниц. Будет называться "Час". Выходит завтра!.. В крайнем случае, послезавтра!
Впечатление было ошеломляющее.
Кто-то неуместно спросил:
– А кто будет редактор?
Вилли уничтожающе посмотрел на вопрошающего, и процедил сквозь зубы:
– Дураки уехали в Бразилию, так что вопрос исчерпан. Никакого редактора не будет, а будет редакционная коллегия.
И не без язвительности добавил:
– Желающие могут становиться в очередь...
– Эх ты, Епиходов! – опять крикнул из-за стойки не унимавшийся Потемкин по адресу злополучного и красного, как рак, специалиста по молниеносным интервью.
Ртуть в термометре быстро поднималась. Все заговорили наперебой и сразу.
Выяснилось, что авансы будут выданы сегодня же, но после захода солнца; что новая газета будет типа вечерней, то есть, в 12 часов пополудни и никаких испанцев; и что называться она будет "Час" главным образом потому, что технически это гораздо удобнее, чем если бы она называлась "Век"...
– А впрочем, – закончил Вилли, – сами увидите, и поймете. Ибо, как говорил Александр Федорович Керенский, управлять – это значит предвидеть...
Через сорок восемь часов после морковного чаепития, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в Российской Советской Социалистической Республике, в городе Москве, на Москве-Реке, и не забыть, что было это весною 18-го года, отпечатанный у Мамонтова, на Таганке, вышел в свет, свежий как бутон, хотя и пахнущий типографской краской, первый номер вечерней газеты "Час".
Направление газеты было неопределенное, но, как неприятно выразился впоследствии всё тот же В. М. Фриче, весьма нахальное.
Вместо передовой, была крайне несвоевременная историческая справка Виссариона Павлова на тему о восстании рабов под предводительством Спартака, и особенно о том, как это восстание было подавлено: со всеми подробностями, уточнениями, и чуть ли не указаниями практического свойства.
Фельетон Вилли тоже носил характер вполне исторический, а именно: свобода печати в период великой французской революции.
Выводов в фельетоне не было никаких, но, как принято было в те времена говорить, выводы напрашивались сами собой.
А. А. Епифанский дал захватывающего интереса очерк о Хитровом рынке, который после "тяжких десятилетий вопиющей нищеты и притеснений царской полиции", расцвел, наконец, махровым цветом, и нашел свое настоящее призвание: торговлю стариной и роскошью, конфискованной во время обысков у проклятой буржуазии.
Молодая и жеманная поэтесса, в настоящее время Кавалер ордена Красного Знамени, напечатала совершенно непозволительные стишки, вроде того, что
Шакал, надевший шкуру Льва,
Всегда останется шакалом...
Дальнейшие фиоритуры этого забытого произведения были настолько прозрачны, что создатель Красной Армии, так и не дождавшийся маршальского жезла, был не на шутку уязвлен.
Были еще статьи Ю. М. Бочарова, Григория Ландау, стихи Потемкина, Валентина Горянского, Дон-Аминадо, а главное, была первая глава коллективного романа "Черная молния".
Идея романа была взята у самого В. И. Ленина, и касалась электрофикации облаков, ни более и ни менее.
Подана была эта идея не просто, а как идефикс!..
Но зато с большим пафосом и с очень наглой претензией на научность.
В конце первой главы, как и полагалось, было напечатано курсивом и в скобках:
– Продолжение следует.
Никакого продолжения, впрочем, не последовало, ибо газета "Час" была в первый же день выхода закрыта со всем соответствующим церемониалом постановлений, конфискаций и вызовов куда следует.
"Управлять – это значит предвидеть!"
Неугомонный Вилли всё предвидел.
Начиная дело, через несколько подставных лиц, своевременно сделавших нужные заявки, он обеспечил "ход событий".
На следующий день после закрытия "Часа" вышел "Третий час", с пояснением в подзаголовке:
"Выходит ежедневно, в 3 часа дня по московскому времени".
На этот раз приказ по линии был определенный:
– На первой странице декреты и распоряжения правительства, и никаких комментарий.
На второй и третьей – литературная критика, библиография, война с футуристами, стихи о любви, новости медицины, биологии, чорт в ступе.
Четвертая страница, и последняя – шахматный отдел и конкурсы для читателей.
Два номера вышли благополучно.
Два дня мы были в перестрелке,
Что толку в этакой безделке!..
Мы ждали третий день!
И не даром ждали.
На третьем номере газета была закрыта.
Вилли, однако, не унимался, и после нескольких изнурительных дней хлопот, просьб, хождений и унижений, мировая печать обогатилась новым ежедневным (!) изданием – "Четвёртый час".
Состав сотрудников был тот же, а передовая статья кончалась многозначительным восклицанием, неосмотрительно взятым напрокат из современного народного эпоса:
– Сенька, подержи мои семечки, я ему морду набью!..
Правительство сразу догадалось – кому, и хотя в редакции царило непринужденное веселье, в своем роде пир во время чумы, – новая газета скоропалительно прожившая свой однодневный век, была не только закрыта, но и сам Вилли, и анонимный издатель, были посажены в Бутырскую тюрьму, из которой только что, после трехмесячного заключения, выпустили на свет Божий старика Сытина и П. И. Крашенинникова.
Члены знаменитой редакционной коллегии быстро смотали удочки и благоразумно переменили место жительства.
Ночевали в Томилине, в Малаховке, на станции Удельной, где Бог пошлет, и жили изо дня в день, с опаскою, с оглядкою, милостью дворников и нескольких покладистых милицейских, высоко ценивших самодельный денатурат, который уже назывался не просто ханжой, а Рыковкой.
И хотя в распоряжении очаровательной и всегда печальной Елены Митрофановны, жены В. Е. Турока, еще имелась очередная заявка на новую газету с весьма неожиданным, хотя по-своему вполне последовательным названием "Полночь", но шалый энтузиазм уже прошел и период импровизаций и партизанских набегов кончился.
Окончательно выяснилось, что солдат Муралов шуток не понимает.
Но в одиночной камере контакт с миром был, очевидно, потерян.
Из Бутырок от упорного редактора пришла почти вдохновенная записка с планами, советами и указаниями сделать всё возможное, чтобы "Полночь" не только вышла, но еще и с тютчевским эпиграфом в подзаголовке:
"Я поздно встал, и на дороге
Застигнут ночью Рима был"...
Увы, тюремное вдохновение уже не нашло резонанса. Каждый пошел в свою сторону. Пульс страны бился на Лубянке. Латыши ханжи не пили. Двустволки заговорили ясным языком. Стрельба в цель стала бытовым явлением.
Благодаря вмешательству красавицы Рейзен, бездарной актрисы Малого театра, перешедшей со вторых ролей на сцене на первые роли в жизни, – она уже в это время стала открыто появляться с одним из самых видных сановников нового режима, – удалось с большим трудом устроить освобождение Вилли.
Жизнь его не пощадила.
Худой, замученный долгим тюремным заключением, с нездоровым, лихорадочным блеском в глазах, без кровинки в лице, он уже щедро и быстро платил свою дань "одной из самых счастливых эпох человечества".
Но уготованный судьбой напиток еще не был испит до конца.
Несколько месяцев спустя, бывший прапорщик запаса, снова надевший серую шинель, непримиримый Вилли, "золотопогонник" Добровольческой Армии, отбиваясь от окруживших город большевиков, на одной из главных улиц Ростова, был зарублен шашками красных казаков.
И вновь, и в который раз обретали свой пророческий смысл бессмертные стихи Тютчева:
Я поздно встал, и на дороге
Застигнут ночью Рима был...
Елена Митрофановна ушла в монастырь, похоронив мужа в братской могиле.
Русская биография была выдержана до конца.
***
По распоряжению властей изменен был не только календарь, но и самое время.
Календарь ушел на тринадцать дней вперед, время – на четыре часа назад.
На городских циферблатах, спорить с которыми было бессмысленно, стрелки ясно показывали 3 часа дня, а по проклятому Гринвичу было 7 часов вечера.
Над Москвой-рекой стлались зеленые, синие, золотые сумерки.
В садах, на Большой Полянке, за Каменным мостом, поздним цветением цвела сирень, чирикали воробьи, играла шарманка.
Уездную русскую весну одним из первых открыл Левитан, московскую весну написал Нестеров.
Была в ней великая смутность, истома, неясность, и какой-то целомудренный холодок отказа, смирения, и покорности.
Если в тихий весенний вечер медленно идти от Никитских ворот до Малой Кисловки, и по Малой Кисловке дойти до двухэтажного дома, где жила Китти Щербацкая, то многое может человеческому сердцу открыться и стать простым и ясным.
Даже многоречивый и расточительный Бальмонт, преодолев изыски, вывихи и изломы, написал незабываемые по необыкновенной, щемящей простоте строки, посвященные северной весне.
И когда человек оглядывается назад, на прошлое, на давно прошедшее, и вспоминает этот неповторимый апрельский холод страшного 18-го года, то должен ли он оправдываться, объяснять, и просить прощения у жестоковыйной смены за этот запечатленный в сердце образ Китти, за пришедшие на память стихи?
Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная тишь, безглагольность покоя.
Безвыходность горя. Безгласность. Безбрежность.
Во всем утомление. Глухое. Немое.
...Взойди на рассвете на склон косогора.
Над зябкой рекою дымится прохлада.
Чернеет громада заснувшего бора.
И сердцу так больно, и сердце не радо.
Как будто душа о желанном просила,
А сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило. Но сердце застыло.
И плачет, и плачет, и плачет невольно.
Но мир так устроен, что не "всем, всем, всем" от Господа Бога наказано бродить по Никитскому бульвару, глядеть на распускающиеся почки, и в бледно-зеленых сумерках, написанных Нестеровым, растерянно умиляясь, неслышно повторять про себя всю русскую хрестоматию.
Выпущенный на волю, маг и чародей, Петр Иванович Крашенинников прищурил левый глаз, взял лихача у Страстного Монастыря, и поехал к Сытину.
– Свидание монархов в шхерах... – отшучивался П. И. в ответ на вопросы любопытных.
Так или иначе, а в результате этого исторического свидания, в угловом кабинете "Праги", у Тарарыкина, состоялся деловой завтрак.
Состав приглашённых был поистине неожиданный.
Времена, что и говорить, были сумасшедшие, но фантазия Петра Иваныча была тоже незаурядной.
По правую руку Сытина сидел приятный, голубоглазый, в золотом ореоле редеющей профессорской шевелюры, тщательно выбритый и выхоленный, в черном шелковом галстуке, повязанном a la Lavaliere, официально приват-доцент Московского университета, а неофициально эстетический анархист, Алексей Алексеевич Боровой.
Слева – сосредоточенный, смущенно-улыбающийся, и, несмотря на пятнадцать лет сибирской каторги, из которой он только год тому назад вернулся, моложавый, бодрый, и ни по возрасту, ни по проделанному в жизни стажу, неправдоподобно доверчивый и почти наивный, никакой там не эстетический, а настоящий, всамделишный, чистейшей девяносто шестой пробы, анархист Яков Новомирский.
Остальные были молодежь и техники, про которых Петр Иваныч так и говорил:
– Народ безмолвствует и... ест.
А еда, невзирая на последние дни Помпеи, была первый сорт.
И семга, и икра, и холодная осетрина, и расстегаи с вязигой, и поданная во льду казенная очищенная с белой головкой, не говоря уж о рябиновой, смородиновой и перцовке, и обязательном коньяке завода Шустова.
Прислуживали половые в белоснежных, – снег остался от старого режима, рубахах, подпоясанные малиновым шнуром; а распоряжался всем сам Тарарыкин, напомаженный, прилизанный, и на миг воспрявший духом.
Пили много, в особенности техники.
Сытин водки не уважал, ел чинно и мало, и, вообще говоря, вид у него был задумчивый и озабоченный.
Зато во всю старался Крашенинников, воодушевлял, шутил, одобрял, сглаживал углы, обходил, скользил, соединял несоединимое, и вообще творил легенды.
– Allegro! Presto! Furioso!
А легенда, впрочем, была приготовлена заранее, на каком-то очень тайном совещании, без участия пьющих техников и подававшей надежды молодежи.
И заключалась она в том, что: страна жаждет настоящей газеты; что газета будет, само собой разумеется, оппозиционной; но в том смысле, как это принято в Англии, ни более ни менее, то есть оппозиция будет оппозицией его величества; а, в применении к нынешним условиям, вполне анархической.
Коротко и ясно.
В этом было что-то заумное, потустороннее, бредовое, но, как своевременно, в минуту невольного замешательства, авторитетной ссылкой на Ницше пояснил Боровой,– и в бреду есть своя, роковая, логика!..
Сытин виновато улыбался, Крашенинников торжествовал, Тарарыкин суетился, на смену Шустову пришел Редерер, газета под редакцией Якова Новомирского будет называться "Жизнь", а негласным покровителем ее намечен некто Каржанский, про которого говорили, что он писатель, и хотя и не большевик, но старый друг Ильича, жил с ним в одной квартире у Женевского сапожника, и вообще в любое время дня и ночи вхож в Кремль.
После чего решено было обсудить вопрос о формате, количестве страниц и другие технические вопросы.
Но техники были настолько навеселе, что обсуждение пришлось отложить на завтра.
Тем более, что деловой завтрак грозил превратиться в поздний ужин.
По выходе из Праги, А. А. Боровой, с которым мы были давно знакомы, еще по быстро прошумевшей в годы войны "Нови" А. А. Суворина (Алексея Порошина), спросил меня, какое будет мое амплуа в новой газете.
– Опять "Соринки дня"? Или альбом пародий? Или фельетон в стихах? Эпиграммы? Вообще, кинжалы в спину революции?!
И сам развеселился, довольный собственной шуткой.
Услышав однако, что бывший фельетонист ни стихами, ни эпиграммами, и никакими иными сомнительными экспериментами подрывать оппозицию его величества не собирается, и что намеченная ему роль сведется всего-навсего к заведыванию судебной хроникой, Ал. Ал. выразил сначала недоумение, потом сожаление, но в конце концов дружески согласился, что в решении этом есть известная мудрость.
– Плетью обуха не перешибешь, и пожалуй вы правы; церемонии кончились; и в случае чего, по головке вас не погладят...
Боровой задумался, и покуда мы молча шагали, свернув с Арбата на Поварскую, что-то про себя соображал и прикидывал.
Вероятно и его, тонкого и душевного человека, и влюбленного парижанина, со всем его отвлеченным эстетическим анархизмом, насыщенным стихами Максимилиана Волошина и дворянской фрондой седобородого князя Кропоткина, вероятно, и его вся эта задуманная в "Праге" авантюра не слишком соблазняла и притягивала.
Становилось поздно, кое-где постреливали, и в быстро наступавшей темноте то и дело раздавались пронзительные свистки милицейских, да с грохотом проезжал за очередными жертвами тяжелый военный грузовик.
– География определяет историю, мне еще до самого Смоленского рынка шагать придется, – всё с той же милой улыбкой, обнажившей белые, редкой красоты зубы, сказал, прерывая молчание. Боровой, – а жалко... Хотелось бы о многом поговорить.
И вдруг, что-то очевидно вспомнил и уже прощаясь, добавил:
– Кстати, о судебной хронике. Вы конечно знаете, что на днях начинается в Кремле большой процесс, дело левых эсэров.
– Еще бы не знать! Новомирский на этот процесс очень рассчитывает, собирается раздуть большое кадило. Но вещь эта, конечно, деликатная, и надо ее подать вкусно и тонко, так чтобы комар носа не подточил.
– Так вот, – продолжал Боровой, – именно по этому поводу я и хотел вам рекомендовать одного из моих слушателей, исключительно талантливого, умного, можно даже сказать блестящего человека. Фамилия его Рындзюн, Владимир Рындзюн.
– Все понимает, много знает, и за внешней робостью и сдержанностью таит большую внутреннюю разнузданность и то, что принято называть греческим огнем.
– Я ему часто говорю: сердца, Рындзюн, у вас нет, вместо сердца у вас какая-то субстанция холода, но холодом этим вы обжигаете. И, откровенно говоря, есть в нем что-то интеллектуально-преступное, какой-то душевный вывих, провал, цинизм, доходящий до грации.
Боровой посмотрел на часы, – было уже поздно, – и заторопился:
– Я вас задержал, простите, дружеская беседа затянулась далеко за полночь...
– Однако разрешите закончить, я хочу сказать, что, по моему искреннему убеждению, с этим кремлевским процессом протеже мой справится на ять!
Расстались мы на том, что Рындзюн завтра же придет в типографию, где отрезвевшие техники должны были собраться на совещание.
***
В типографии было тесно, неуютно и накурено. Кроме выпускающего, метранпажа и старших наборщиков, появились еще какие-то черногривые и огнедышащие молодые люди кавказского типа, как выяснилось потом, грузинские анархисты из окружения Новомирского.
Вид у них был восторженный, речь громкая, повадка боевая, а суетились они так, что протолкаться было немыслимо.
Носитель греческого огня пришел точно, минута в минуту.
Застенчивый, не слишком разговорчивый, усики щетинкой, светлые зелено-водянистые глаза – слегка на выкате, и из широко распахнутых отворотов белой сорочки для тенниса – безжизненно алебастровая, байроновская шея.
Впечатление от первой встречи неясно.
Впрочем, что и кому было вполне ясно в эти жуткие времена?
Чья визитная карточка? Чья фишка?
Текст был один для всех:
Мы дети страшных лет России...
Разговор о левых эсэрах длился недолго.
Говорили больше о том, как добыть для него особый пропуск, билет для прессы.
Рындзюн уронил одну фразу, которая запомнилась, показалась правдивой.
– Большевики идут на все, и до конца. Поэтому и преуспевают. А левые эсэры жеманятся и сами не знают, чего хотят, ложиться спать или вставать. Все это нюансы и тонкости для галерки. Ставка неудачников, заранее обреченных.
Советовать будущему судебному референту – быть кротким, как голубь, и мудрым, как змий, – казалось лишним.
За светлоокого циника ручался Боровой, а там видно будет.
***
Через несколько дней "Жизнь" вышла в свет.
Анархисты напоминали о своих заслугах пред революцией, заявляли о своей лояльности, трижды подчеркивали свою независимость, производили осторожные вылазки и разведки, слегка критиковали и явно намекали на то, что место под солнцем принадлежит всем...
Крашенинников прочитал номер от строки до строки и облегченно вздохнул:
– Ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно... Если не сорвутся, дело пойдет на лад.
Писатель Каржанский секретно сообщил, что пока что всё обстоит благополучно.
Во втором номере появился первый отчет о знаменитом процессе.
Отчет, по существу, намеренно – бесцветный, но с некоторыми не лишёнными остроты подробностями, касательно великолепия убранства зала, а также внешней характеристики подсудимых.
Правда, пассаж о шевелюре Камкова был сделан с такой проницательной беспощадностью, что за самую голову его даже защита уже не дорого дала бы.
Но в общем никакой запальчивости и раздражения, всё на месте, придраться не к чему.
В последующих двух-трёх номерах была довольно смелая статья Борового о роли личности в истории, нечто вроде вежливой, но открытой полемики с ортодоксальным марксизмом.
От Каржанского пришло первое предостережение:
– Осторожней на поворотах!
Крашенинников заволновался, кинулся к Новомирскому.
Но старый каторжанин, показавшийся уже не столь наивным, был непреклонен.
– Вы губите газету!.. – умоляюще бубнил Петр Иваныч.
– Программа важнее газеты! – не уступал Новомирский.
– Какая программа?! – искренно удивился бывший присяжный поверенный, считавший, что завтраком у Тарарыкина все вопросы о программе были до конца определены и исчерпаны.
– А вот завтра увидите! – угрожающе стоял на своем прямолинейный и задетый за живое редактор.
Ночью, когда набирался номер, Крашенинникова в типографию не пустили.
На следующее утро газета вышла с напечатанным жирным шрифтом и на первой странице "Манифестом партии анархистов".
Всего содержания манифеста за давностью лет, конечно, не упомнить, но кончался он безделушкой:
– Высшая форма насилия есть власть!
– Долой насилие! Долой власть!
– Да здравствует голый человек на голой земле!
– Да здравствует анархия!!!
Через два часа после выхода газеты Каржанский срочно телефонировал:
– Скажите Сытину, чтобы сейчас же ехал в деревню. Остальные, как знают. Типография реквизирована. Газете – каюк. Больше звонить не буду. Прощайте, может быть, навсегда!..
Говорят, что Сытин, когда ему обо всём этом сообщили, только беспомощно развел руками и с неподдельной грустью сказал:
– Торговали – веселились, подсчитали – прослезились.
И, перекрестясь, уехал в деревню.
Остальные смылись с горизонта, и больше о них слышать уже не довелось.
***
Июль на исходе.
Жизнь бьет ключом, но больше по голове.
Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.
В промежутках спектакли для народа в Каретном ряду, в Эрмитаже.
И в бывшем Камерном, на Тверском.
В Эрмитаже поет Шаляпин. В Камерном идет "Леда" Анатолия Каменского.
На Леде золотые туфельки и никаких предрассудков.
– Раскрепощение женщины, свободная любовь.
***
Швейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес.
– Приходили, спрашивали, интересовались.
Человек он толковый, и на ветер слов не кидает.
Выбора нет.
Путь один – Ваганьковский переулок, к комиссару по иностранным делам, Фриче.
У Фриче бородка под Ленина, ориентация крайняя, чувствительность средняя.
– Пришел я, Владимир Максимилианович, насчет паспорта...
– И ты, Брут?!
– И я, Брут.
Диалог короткий, процедура длинная. Бумажки, справки, подчистки, документики. От оспопрививания начиная, и до отношения к советской власти включительно.
Фриче поморщился, презрел, министерским почерком подмахнул, и печать поставил:
– Серп и молот, канун да ладан.
Вышел на улицу, оглянулся по сторонам, читаю паспорт, глазам не верю:
"Гражданин такой-то отправляется за границу..."
***
Чрез много лет пронзительные строки Осипа Мандельштама озарятся новым и безнадежным смыслом:
Кто может знать при слове – расставанье.
Какая нам разлука предстоит...
Опыта не было, было предчувствие.
Отрыв. Отказ. Пути и перекрестки.
Направо пойдешь, налево пойдешь. Сердца не переделаешь.
"Что пройдет, то станет мило. А что мило, то пройдет".
Так было, так будет.
Только возврата не будет. Всё останется позади.
Словами не скажешь. Но только то, что не сказано, и запомнится навсегда.
У каждого свое, и каждый по-своему.
А там видно будет.
***
Поезд уходил с Брестского вокзала. До станции Орши, где начинается Европа:
– Немецкая вотчина. Украинское гетманство.
Вдоль вагонов шныряют какие-то наймиты, синие очки, наспех наклеенные бороды.
До совершенства еще не дошли. Дойдут.
В салон-вагоне турецкий посланник со свитой; обер-лейтенант с красной лакированной сумкой через плечо,– дипломатический курьер германского посольства в Денежном переулке; и весело настроенные румынские музыканты, отпиликавшие свой репертуар в закрывшихся ресторанах.
Вокруг – необычайная, сдержанная, придавленная страхом суета.
Третий звонок.
Милые глаза, затуманенные слезой.
Опять Отрыв. И снова Отказ. От самих себя. И друг от друга.
И под стук колес, в душе, в уме – певучие, не спетые, несказанные слова:
Шаль с узорною каймою
На груди узлом стяни...
Игорь Кистяковский, московская знаменитость, а теперь гетманский министр внутренних дел, еженедельно вызывает Василевского для объяснений и внушений.
Василевский нисколько не смущается и говорит: – Вы, Игорь Александрович, дошли до министерства, мы до "Чортовой перечницы". Разница только в том, что у нас успех, а у вас никакого...
Кистяковский куксится, но всё это не надолго.
Скоро придет Петлюра.
"Время изменится, всё переменится".
Скоропадского увезут в Берлин, министры сами разъедутся, немцы после отречения Вильгельма вернутся восвояси, а столичные печенеги и половцы кинутся на станцию Бирзулу.
По одну сторону станции будут стоять петлюровцы, по другую французские зуавы и греческие гоплиты в гетрах.
Из Москвы придет телеграмма о покушении на Ленина.
Советский террор достигнет пароксизма.
Дору Каплан повесят и забудут.
Забудут не только в Кремле и на Лубянке, но и в зарубежных "Асториях" и "Мажестиках".
Дело не в подвиге, а дело в консонансах...
Шарлотта Кордэ – это музыкально. Дора Каплан – убого и прозаично.
Свидетели истории избалованы. Элите нужен блеск и звук.
На жертву, на подвиг, на тяжелый кольт в худенькой руке – ей наплевать.
... Перед киевским разъездом будет недолгое интермеццо.
Хома Брут покажется ангелом во плоти.
Архангелы Петлюры стесняться не будут.
Ни Бабефа, ни Прудона. Грабеж среди бела дня, в самостийном порядке.
Убивать на месте, но убивая орать – хай живе!..
Остальное – дело Истории, "Которая вынесет свой властный приговор".
Вместо Кистяковского – Саликовский.
Тот самый. Александр Фомич. Старый журналист, редактор "Приазовского Края".
Из Ростова-на-Дону в первопрестольный Киев, из радикального либерализма в зоологическую гущу.
Пришли к нему целой депутацией, ходатайствовали, убеждали:
– Как же так, Александр Фомич? У вас свобода печати, а вы закрываете, штрафуете, грозите казнями египетскими...
Ответ краткий:
– По-российску не баю. По-москальску не розумию...
Опять сматывать удочки. В Бирзулу, так в Бирзулу. К чорту на рога, куда угодно.
Перед отъездом, в одной из обреченных газет – последний привет, последнее четверостишие:
Не негодуя, не кляня,
Одно лишь слово! Но простое!
– Пусть будет чуден без меня
И Днепр, и многое другое...
***
– Мишка, крути назад!
Опять фильм в обратном порядке.
Из Москвы – в Киев, из Киева – в Одессу.
На рейде – "Эрнест Ренан".
В прошлом философ, в настоящем броненосец.
Международный десант ведет жизнь веселую и сухопутную.
Марокканские стрелки, сенегальские негры, французские зуавы на рыжих кобылах, оливковые греки, итальянские моряки – проси, чего душа хочет!
Каждый развлекается, как может.
Большевики в ста верстах от города.
Блаженно-верующим и того довольно.
А что думает генерал Деникин, никто не знает.
Столичные печенеги прибывают пачками.
Обходят барьеры, рогатки, волчьи ямы, проволочные заграждения, берут препятствия, лезут напролом, идут, прут, валом валят.
Музыка играет, штандарт скачет, всё как было, всё на месте. Фонтаны, Лиманы, тенора, грузчики, ночные грабежи, "Свободные мысли" Василевского.
Вместо ненавистного Бупа – Буп это бюро украинской печати, добровольческий Осваг.








