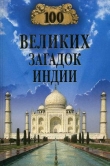Текст книги "Чужое небо (СИ)"
Автор книги: Astrum
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
– Может, ему еще конфетку под язык дать, чтоб он эпилептика изобразил? Тогда вообще никакого спроса не будет.
– Придурок ты, Чиж! – громким шепотом взъелся Смирнов, явно не ожидающий появления напарника, но, перекипев, снова вернул внимание Барнсу. – Бывай, приятель. Если что и было, а оно было, то не держи зла. Я должен был убедиться, что ты… ну, знаешь…
– Не двинутый? – подсказал Баки.
Он заведомо знал, каким-то шестым чувством, что этим вечером видит командира и Чижова в последний раз. Он не задал им ни одного лишнего вопроса. Он знал, что стены слушают и видят. А еще он знал, что таков его рок: все, кто проявлял к нему доброту, в рекордно короткие сроки исчезали из его жизни.
Осознавать это было больно.
Снова и снова убеждаться в этом было страшно.
– Спасибо, – он успел шепнуть ровно за секунду перед тем, как дверь захлопнулась.
========== Часть 6 ==========
28 октября 1945 год
Баки наполовину стоял, наполовину сидел, прислонившись спиной к чему-то очень похожему на высокую столешницу. Хотя чем оно на самом деле было, его не беспокоило совершенно, потому что перед собой в каких-то считанных метрах он видел… кресло, на фоне которого остальное резко теряло значимость.
Его безудержно колотило, у него гремело в ушах, а перед глазами все расплывалось цветными кругами.
И это злило его. Подобная реакция с его стороны была совершенно неоправданна, потому что это было всего лишь кресло. Да, похожее, да, с фиксаторами, но без каких-либо намеков на подведенное электричество. Кроме того, никто не предлагал ему в него садиться, не настаивал и не применял силу. Рядом не было ученых, а у охраны, насколько он успел понять, вообще не имелось доступа в лабораторию. Поэтому он злился на себя за то, что был не в силах контролировать свое же тело, унять этот чертов рефлекс, который моментально отключил в нем все рациональное, превратив в трясущийся комок нервов.
Он злился на свою очевидную слабость, на неспособность разборчиво что-либо сказать, хотя сказать он готовился многое, на овладевшее им, не поддающееся контролю слепое желание убежать, не оглядываясь или упасть на колени и униженно пресмыкаться, умоляя не делать… не делать этого снова.
– Баки, – его позвали, и он честно попытался отвлечься, ответить, но… – Джеймс, – окликнули уже настойчивее, а затем… прикоснулись, лишь слегка потянули за руку. Но этого хватило, чтобы внезапно пробудить в нем до этого беспробудно спавший инстинкт защиты. Мгновение спустя она снова оказалась в его смертельной хватке.
Что случилось дальше, он не запомнил, все смешалось, а очнулся он от согнувшего пополам удара в живот и пронзающих тело электрических разрядов, выдирающих хрипы боли и ярости из его глотки.
– Стойте! Не трогайте его! Он ничего не сделал! Прекратите немедленно!
В четыре руки скрученного, со всех сторон ограниченного близким треском электрических дуг в активных шокерах, дулом винтовки, дышащим в затылок его втолкнули-швырнули в душевую, рявкнув в спину: «Освежись!»
Охрану полностью сменили, и это сказывалось. Это сказалось слишком очевидно уже по прошествии неполных суток.
«Освежись!» значило, что вода текла только из холодного крана.
Чужое присутствие, чужие прожигающие насквозь взгляды он чувствовал на себе сквозь закрытую дверь. Сквозь шум льющейся под напором воды он слышал, как они дышали, представлял, как дрожали их пальцы на спусковых крючках, как поигрывали в их руках шокеры.
В первый раз с момента… В первый раз он оказал сопротивление, в первый раз его желание дать отпор оказалось сильнее страха наказания. Вот только он не ощутил триумфа от своего поступка и не видел в нем никакого смысла.
Он не хотел ей навредить, только не снова! Он не собирался провоцировать охрану и уж точно не думал, что охрана спровоцирует его. Он повел себя агрессивно без весомой на то причины, и вмешательство охранников, все их действия были оправданы. Он должен был подчиниться и позволить им выполнять свою работу, а не бить в ответ.
Он всего лишь хотел извиниться перед ней. Сделать что-то правильное, что-то, что, наверняка, посчитал бы своим долгом сделать Барнс, тот, который не знал ужасов войны, плена и пыток. Он всего лишь хотел… попытаться снова стать собой?
И вот, что из этого вышло.
Ледяная вода обжигала, сбегала ручьями по обнаженной коже, закручивалась равнодушно спиралью и утекала куда-то в никуда. Она сковала мышцы, держа все тело в защитном напряжении и не позволяя расслабиться. Сержант стоял, низко опустив голову, смотрел на свою-чужую руку, и ненависть зажигала в нем вечное пламя.
Они его сломали. Вместе с памятью у него забрали всё, что делало его собой: его личность, его характер, его привычки, его убеждения. Даже честь у него отобрали. А взамен дали только эту… это… железо, которое несло лишь боль, опасность и смерть. С такой рукой он всегда будет сильнее обычного человека, его всегда будут бояться, всегда будут видеть в нем угрозу. У него отняли самое дорогое, самое сокровенное, что могло быть у человека – право называться человеком. Они выдрали из него человечность вместе с сохранившейся после падения частью живой руки, врезав на ее место… это! Этим они клеймили его, сделали своим.
Его правая рука сама нашла границу, где металл внахлест заходил на плоть, вгрызаясь в него с холодным равнодушием. Пальцы сами нашли шрамы – холодные, покрасневшие, уязвимые рубцы на истонченной коже. Он помнил, как они полыхали свежими ранами, помнил упрямо разодранные швы, помнил кровь под ногтями правой руки…
Он безжалостно драл собственную плоть тогда. Драл ее и сейчас с ничуть не ослабшим остервенением, мечтая лишь об одном – убрать их клеймо, отцепить его, выкорчевать прежде, чем оно пустит корни и врастет в него безраздельно.
У него не было никаких острых предметов, ничего, что можно было бы использовать, кроме грубой силы, жгучей ненависти и бьющего все рекорды высот болевого порога. Он выжил, когда потерял руку – свою родную – в первый раз, он выжил, когда в его плечо, зловеще зудя, вгрызалась циркулярка. Он хотел бы все это вернуть, мечтал вернуть ту уродливую кровавую культю, ту агонию, ужас и беспомощность, им овладевшие, все, что он чувствовал тогда, кем тогда был…
Потому что тогда он еще был человеком.
Когда в дверь постучали, он даже не вздрогнул, продолжая невидящим взглядом смотреть себе под ноги, где на белом кафеле, переплетаясь друг с другом, причудливо завивались в спирали ручейки из разных оттенков кровавой палитры. Постучали еще раз, и еще… а затем перестали. Часть его замерла в ожидании, когда его распластают по полу, в то время как другой его части было абсолютно все равно, поэтому он апатично продолжил делать то, что делал.
– Я принесла полотенце, – сообщил спокойный и совершенно не злой голос, но он все равно вздрогнул, – и сухие вещи.
– Уходи! – угрожающе зарычал Барнс спустя несколько мгновений (или минут – он не считал) напряженной тишины, интуитивно стремясь уберечь ее, обезопасить, избавить от своего присутствия – меньшее, что он мог – раз уж сама она была не в состоянии адекватно оценить угрозу. – Держись от меня подальше!
Снова тишина. Солдат не был против, он привык молчать, привык и к тому, что с ним не разговаривали.
– Не могу, – она медленно обошла его справа, выключила льющуюся воду. Затем обернулась и попыталась поймать его взгляд, но он упрямо смотрел в пол, на то, как розовая от крови вода оседала отдельными каплями на ее бежевых туфлях, как стекали по глянцевой поверхности тонкие розовые ручейки. – Хватит, – у нее мягкий голос, просящий, почти умоляющий, и у солдата от него бегут мурашки вдоль позвоночника. – Хватит, Баки, остановись, – она не кричит, не приказывает, просто делает шаг ближе, подходит совсем близко, на расстояние прикосновения и медленно, в конце концов, так и не встретив сопротивления, отводит его правую руку в сторону, осторожно прижав полотенце к его разодранному, кровоточащему плечу.
Он не вздрогнул от прикосновения ткани, но поджал губы и выдохнул чуть резче, так и не подняв головы.
Она не настаивала, лишь выждала немного, прежде чем вернуть его правую ладонь на прежнее место, на левое плечо, поверх своей руки и скомканного полотенца под ней.
– Я сейчас уберу руку, ладно? – она осторожно спросила, пытаясь этим сосредоточить его внимание и убедиться, что он ее понимает. – А ты прижми полотенце и не отпускай. На счет три. Раз… – вдох. – Два… – выдох.
– Я не хотел! – взвыл Баки, резко вскинув голову, чтобы встретиться с ней глазами. И замер, забыв вдохнуть на счет «три», потому что увидел то, что увидеть боялся – дело рук своих, в буквальном смысле.
Кожа с ее правой скулы была стесана, малиново-красный кровоподтек еще саднило сукровицей, и синяк продолжал угрожающе расплывался по направлению к правому глазу.
Один удар. Единственный скользящий замах, в который он даже полсилы не вложил. Ни один человек на такое не способен. Это если умышленно забыть, что ни один подающий надежды зваться человеком не ударил бы женщину.
Он застонал от отвращения, рефлекторно дернулся, пытаясь освободиться и снова вцепиться пальцами правой руки в кожу на левом плече. На деле получилось: в ее ладонь, которая была точно под его рукой и, словно щит, закрывала рану.
– Этого бы не случилось, не будь у меня… ее! – вскричал Барнс и тут же ощутил жгучую необходимость закрыть себе рот и оттолкнуть ее от себя подальше, потому что его грозило стошнить. От самого себя, от собственных жалких, унизительных, ни цента ни стоящих оправданий. – Я никогда… Барнс никогда не ударил бы… Я не хотел!
– Я знаю. Ты ни в чем не виноват, – ее голос по-прежнему звучал незаслуженно мягко. – Просто прижми это, – ловко высвободив руку, она сильнее надавила на его ладонь с комком махровой ткани, – и идем со мной.
Дальше она, не задумавшись ни на секунду, повернулась к нему спиной, идя на каких-то пару шагов впереди, безбоязненно, опрометчиво, легкомысленно. Он был пленником здесь, она была… она работала на тех, кто его пленил, она была врагом, и все его естество сейчас вопило о том, чтобы бороться: использовать шанс на сопротивление, на свободу, на… побег?
– Охранников не ищи, они заняты – перечитывают должностную инструкцию, – объяснила она в пустоту коридоров, словно он действительно что-то спрашивал, – и будут заняты этим еще довольно долго, так что у нас есть время, – они прошли уже знакомый солдату путь до лабораторий сквозь несколько бронированных дверей с кодовыми замками, и везде, где они задерживались на одном месте дольше одной секунды, солдат был уверен, что оставлял за собой след в виде лужи воды, натекающей из его мокрых насквозь штанов, которые он не потрудился ни снять во время душа, ни сменить после. А еще он был босой, а значит, оставил за собой целую дорожку следов, красноречиво сообщающих все его движения.
Свет в помещении с креслом на этот раз был погашен, скрывая от зорких глаз Барнса далеко не все, но хотя бы часть нежелательных подробностей.
– Будь здесь, я сейчас, – и она просто ушла, оставив двери открытыми, оборудование – доступным, а весь исследуемый материал – незащищенным.
Так не поступают враги, ведь им всегда есть, что скрывать.
«Я такая же Диана, как ты – Солдат».
Баки окончательно запутался в понятиях «хороший» и «плохой». Безнадежно потерялся в понимании того, кто друг, а кто враг. Ему нужны были ответы. Ему отчаянно был нужен тот, с кем он мог поговорить.
– Вот, – она появилась в проеме двери, возвращая солдата в настоящее, ее руки были нагружены охапкой вещей, и первым инстинктом Барнса было кинуться помочь, но, вспомнив кое-что, он передумал. А она словно бы и не заметила его короткого, быстро подавленного рывка навстречу, молча сгрузила ношу на свободный стол, после чего выудила из бесформенной кучи сухое полотенце и быстрым движением набросила ему на обнаженные плечи.
Затем она снова ушла, не сказав ни слова, а вернулась уже в белом халате с хорошо знакомым Баки набором предметов, разве что куда более похожим на врачебный, чем на инквизиторский средневековых времен. Ее руки были в перчатках, но белых, а не черных, как в его воспоминаниях, которые он старательно подавлял, запрещая себе искать ассоциации, еще совсем недавно столь желанные и ценные.
– Нет, – он отрицательно покачал головой, и голос его, хоть и был от редкого пользования хриплый, звучал уверенно. – Не трогай.
– Надо обработать.
– Нет, – повторил Барнс и сделал то, на что прежде не осмеливался еще ни разу – отодвинулся в сторону, сознательно увеличивая расстояние.
Она поняла, она не напирала, лишь поймав его взгляд, тихо спросила:
– Почему?
– Само заживет.
Те, кто нашел его сразу после падения, кто врезал в него этот кусок смертоносного металла, скорее издевки ради, чем по реальной необходимости, говорили ему, бредящему в агонии, шептали что-то про обостренную чувствительность, про нервные импульсы, про увеличенную скорость рефлекторного ответа.
Тогда он ни слова не понял, не выучил теорию, поэтому сегодняшняя практика оказалась плачевной. И он совершенно точно не собирался повторять горький опыт.
– Баки, клянусь тебе, я только обрабо…
– Ты прикоснулась к плечу, как раз на границе – и реакция последовала мгновенно, – он принялся сбивчиво объяснять, сильно сомневаясь, что в нужной последовательности и что его надолго хватит, с его-то коммуникативными навыками, но во избежание очередного инцидента он должен был хотя бы попытаться. – Там чувствительность… намного сильнее, любое касание воспринимается как… как, – Баки очень не нравилось крутящееся на языке слово, но все подходящие смысловые синонимы внезапно вылетели из головы, и ему пришлось озвучить единственное, что осталось, – боль. Металлическая рука реагирует быстрее и… Я не хотел тебя ударить!
Она не принуждала. Но была настойчива в своем намерении, а Барнсу и так пришлось слишком много раз за слишком короткий срок перебороть себя, чтобы у него остались силы на еще один волевой поединок.
– Оно не для тебя, – объясняла она, пока Баки по собственной, как он тщетно пытался себя убедить, воле садился в злосчастное кресло, всеми силами гася в себе волну бесконтрольной дрожи. – Точнее, рассчитывалось оно для тебя, чтобы фиксировать твою руку во время медосмотров, но это планировалось прежде, чем я получила возможность узнать, какие ассоциации оно у тебя вызывает. Я бы никогда… – слух обрезал лязг фиксаторов о металлическую руку, и тотчас все его мышцы спазмически сжались в ожидании чего-то ужасного, к горлу подступила тошнота. – Я не хочу это делать, – не сводя с него тревожного взгляда, она остановилась, на миг задержала раскрытую ладонь над его перекошенным от страха лицом, словно желая утешить прикосновением, но в последний момент передумала. – Ты не должен, обойдемся без…
Но он вдруг распахнул до этого крепко зажмуренные глаза и посмотрел прямо на нее, ей в лицо, и глаза у него стали страшные, почти черные от расширившихся в ужасе зрачков, и в то же время безнадежно потерянные в безысходности, умоляющие громче любых слов.
– Я не хочу тебе навредить, – сказал он подрагивающим, но уверенным голосом и живой рукой внезапно ухватил ее за запястье, словно ища телесного контакта. – Пожалуйста, ты только… не молчи. Говори со мной. Просто… просто, чтобы я слышал.
Массивные замки сработали почти одновременно, надежно сковав железную конечность сразу в двух местах. Лоб Баки покрылся испариной.
– Ты выполнил домашнее задание, – завладев его полным паники взглядом, она улыбнулась светло и искренне, и так тепло, что на одну бесконечно долгую секунду Барнс и думать забыл, где находится и что с ним происходит.
– Какое еще задание? – запоздало переспросил он, всеми силами отвлекаясь от ощущения осторожных прикосновений, отнимающих полотенце от его плеча, прикосновений, от которых импульсы уже бежали в его мозг, посылая руке ответные сигналы – пластины шелестели и двигались по направлению от плеча, от точки контакта, к запястью, заставляя пальцы сжаться в кулак. Будь он посмелее, он бы улыбнулся ей в ответ. Будь ему самую малость проще говорить, он бы сказал ей, что Джеймс Бьюкенен Барнс уже давно закончил школу, но… Но. И оно все меняло. Способность легко и непринужденно поддержать беседу у него забрали, как забрали и некогда отточенное до совершенства умение флиртовать и завлекать девушек, которые неизменно проявляли симпатию к молоденькому сержанту.
– Ну… официально это было задание Смирнову и его орлам, но… В общем, как я и надеялась, вы отлично поладили. Мне нравится твоя стрижка.
Баки как раз собирался с духом, чтобы поговорить на тему охраны, и вот так удачно подвернулся готовый шанс, спрашивай – не хочу, но… она упомянула стрижку, она заметила стрижку – и все его скрупулезно выстроенные в логичную последовательность мысли снова перетасовались, точно карточная колода в умелых руках.
Может, это вконец неправильно – думать так в его положении, может, его за это накажут, а может и вовсе заберут воспоминания об этом – он ни в чем не мог быть уверен, но что-то новое занялось в нем после ее слов, или, быть может, всего лишь хорошо забытое старое? Баки польстило даже не одобрительное «нравится», а, скорее, сам факт, что кто-то посторонний заметил перемены в нем, что кому-то постороннему не все равно, что впервые за бесконечно долгое время это было не то внимание, что обычно уделялось ему во время пыток или на операционном столе, сопровождаемое словами: «Следите, чтобы не умер».
– Это ты сказала им, чтобы они меня…
Перестали считать обезличенным объектом? Не бросили в одиночестве?
– …Подстригли? – закончил вопрос Барнс, когда нашел кратчайшую и наиболее безопасную формулировку для одолевающих его разрозненных мыслей.
Вглядываясь в ее лицо с любопытством маленького ребенка, он ожидал любой реакции, но определенно не той, с которой обречен был столкнуться.
Она покраснела – это острый глаз Барнса заметил даже на фоне пестрой цветовой гаммы побоев, и это повергло его в ступор. Он забыл, что сидит в кресле с обездвиженной рукой. Забыл даже о том, поднимающем разом все волосы дыбом чувстве опасности, которое диктовало ему вырваться и уничтожить источник дискомфорта во что бы то ни стало.
– Я… я подумала, что ты, возможно, хотел бы… постричься. Но не была уверена, что вправе тебе это предложить. Вы, мужчины, и особенно военные, больше склонны доверять мнению и навыкам друг друга.
Она покраснела. Не от злости за то, что ее не удовлетворили его слова или действия. Она покраснела, потому что… что? Постеснялась? Смутилась?
Барнс мыслил всегда по-разному: иногда на русском, иногда (в последнее время чаще за неактуальностью прежних запретов) – на английском, иногда – на странной трудновоспроизводимой смеси русского с английским, как, например, сейчас, когда он, сколько ни пытался, не смог подобрать подходящее эмоции слово ни в одном из языков.
Резкая боль швырнула его в реальность на головокружительном аттракционе из эмоций и физических ощущений – он дернул плечом, всецело положившись на сдерживающую силу оков, но движение вышло неожиданно слишком свободным, моментально вздернув его со спинки кресла в положение сидя.
– Хэй, тише… – голос зазвучал успокаивающе, но, опять же, не испуганно, а руки она держала на расстоянии открытыми ладонями вверх. Между пальцами у нее была зажата белоснежная скрутка марли, конец которой, как Баки только что рассмотрел, уже был на несколько широких витков обернут вокруг его левого плеча. – Уже все. Почти закончила. Осталась только повязка, – словно предвидя его недовольство, хотя он даже не планировал его как-то выражать, продолжила: – чтобы ее наложить, мне пришлось тебя освободить. Все хорошо.
Все и правда было хорошо. Умом Барнс это понимал, но вот с искусственными нервами (или что там у бионической конечности отвечало за чувствительность) сладить было куда сложнее. И если совсем недавно это его пугало, то теперь, скорее, злило и раздражало.
– Зачем сменили охрану? – решился на вопрос Баки, чтобы хоть как-то отвлечься от ощущения скованности бинтами.
– Приказ начальства, – она сказала, точно отрезала, и ему не нужно было продолжения, чтобы понять, что тема запретна. Но она внезапно сама захотела продолжить: – Они не хотят, чтобы ты привыкал к окружению. А еще ты окреп физически, и они…
– Вооружились шокерами? – не удержался Баки, о чем моментально и очень сильно пожалел.
Закончив бинтовать, она стала собирать использованный материал и инструменты, застыв над подносом. Потратив немного времени на раздумья и внутреннюю борьбу, Барнс решил ни за что не упускать шанс, даже если сразу после его ожидало безвылазное одиночество в четырех стенах.
– Нет, я не имел в виду. Я не против, я только за, потому что…
Она вскинула на него удивленный взгляд. По обыкновению, от опаски за нарушение правил, Баки запнулся о собственные зубы, но быстро сглотнул ком и продолжил, пока мысль была свежа.
– …Потому что я знаю, я сильнее их. Эта рука, – Баки попытался поднять бионическую конечность до уровня глаз, но вспомнил о повязке и из уважения к чужим стараниям пытаться перестал, – делает меня сильнее. И я не… – признавать собственную слабость в чем-то очевидном для Баки Барнса до войны означало наступить самому себе на горло. Для Баки нынешнего это означало что-то вроде: «Я слаб, я слаб – да, бейте, пытайте, но ради всего святого… Не забирайте память». – Я не…
«…не контролирую ее», – сказал бы Баки, если бы смог выдавить из себя еще хоть звук, признающий его некомпетентность в обращении с собственным телом, насильно измененным в той ужасающей степени, которую он даже представлять боялся.
Он все еще сидел в кресле, вольный встать и уйти, но прежде разнести здесь все до основания, возможно даже, перебить охрану. Но он сидел и не двигался, а она стояла над ним, на расстоянии прикосновения, безоружная, беззащитная – и белый цвет ее халата, словно провоцирующая красная тряпка для быка – напоминал ему о некогда отчаянной и несбыточной клятве однажды вырваться и убить их всех до единого, обречь каждого на те же пытки, что достались ему за грехи, которые он даже не имел возможности помнить.
Здесь и сейчас он был тем же самым пленником, она была тем же самым врачом и, вероятно, ученой, которых он до зубного скрежета, до трясущихся поджилок ненавидел. Роли не изменились.
Но его руки были свободны, и ему хватило бы одного движения. Которого он до сих пор еще не сделал и вряд ли уже сделает. Это изменилось.
– Я знаю, тебе она не нравится, – ее голос звучал совсем не как у докторов, которых он осыпал проклятиями, мечтая сжечь заживо. Он не выражал удовлетворение процессом пытки или ее результатом, не ставил условие в обмен на обезболивающее, не угрожал и не приказывал. Он был таким… вот совершенно таким, какой ему порой хотелось услышать так болезненно сильно, что унизительные слезы безудержно текли по разбитому в кровь лицу – голосом живого человека, который понимает, который… сочувствует. – Я не инженер, но чисто с медицинской точки зрения скажу, что мне она тоже очень не нравится. И я сейчас не о том, насколько сильным она тебя делает. Я о том, насколько в принципе она несовместима с живой тканью. Эй, – она вдруг позвала его, очень тихо и ласково, осторожно коснувшись ладонью металлических пальцев, – посмотри на меня. Пожалуйста, Джеймс, посмотри на меня.
– Это клеймо! – не без внутреннего содрогания, с отвращением к виду разбитой половины ее лица, вскричал Барнс. – Это принадлежит им! И оно способно сделать из меня того, кого они хотят видеть, но кем я быть не хочу!
– Ты и не обязан. Ты мог убить меня дважды. Ты можешь сделать это прямо сейчас, – она выдержала паузу, все также не убирая руки с его пальцев и не отводя взгляд. – Это часть тебя. Она стала частью тебя ровно в тот миг, когда мясники ГИДРы интегрировали искусственные нервы в твои собственные. Знаю, в твоем отношении это мало что изменит, оно и не должно, но… подобная процедура беспрецедентна и надолго опережает время сразу в нескольких научных областях. Аналогов подобной разработки нет ни в одной технической лаборатории мира. А даже если бы была, ни один пациент не пережил бы процедуру вживления. Твоя рука… Слышишь, Джеймс, твоя рука – твоя, не ГИДРы, не Золы, никого другого, уже хотя бы потому, что крепится она к твоему телу, твой мозг ею управляет, ты приспосабливаешься к ней, – ее раскрытая ладонь, теперь уже без перчатки, замерла всего в сантиметре от повязки, скрывающей под своими слоями рваную линию перехода плоти в металл. Живой частью, той самой, что слишком чувствительна, он ощущал ее тепло. Сквозь толщу бинта. И это тепло, даже не прикосновение, не болевые импульсы – бесконтактное тепло – запустило рефлекс, волну металлического движения по всей руке от раздражителя до самых кончиков бионических пальцев. – Она совершенна, Джеймс. И таковой ее сделали не инженеры, таковой ее делаешь… ты.
Из всего, что можно было бы сказать, что оспорить и за что зацепиться вниманием, Барнс совершенно иррационально и необъяснимо для самого себя выбрал:
– Баки. Я Баки, не Джеймс, – он покачал головой и сдвинул руку с подлокотника, разрывая тактильный контакт.
Он не понимал самого себя. Потому что ему одновременно сильно хотелось и сбежать отсюда без оглядки, чтобы только не наговорить чего-нибудь лишнего, и сказать это самое лишнее. Говорить, говорить, говорить – без умолку, о том, что он понимает больше, чем кажется со стороны, что он чувствует и помнит больше, чем стремиться показать; о том, как ему страшно оставаться в одиночестве и как болит «совершенная» рука (вернее сказать, как от нее болит все тело); о том как… как…
– Баки, – ей пришлось чуть наклониться, чтобы заглянуть ему в лицо, которое он старательно скрывал, низко опустив голову. – Баки, я здесь. Я рядом.
Последний шаткий барьер рухнул, размытую, подтекающую с каждым днем все сильнее дамбу прорвало – тонны и тонны боли хлынули наружу, как попало перемешанные с вырванной из разных источников, по кусочкам скрупулезно собранной информацией.
– Они сломали меня. Они изменили меня! Дело не в руке. Не только в ней! Это случилось задолго до, еще в Азанно. Зола сделал что-то со мной. А потом я упал, и… и я выжил! А потом… я помню: «Сержант Барнс. Процедура уже началась. Заморозьте его!» И еще что-то про «кулак ГИДРы». Мне промыли мозги – да! Мне промывали не только мозги! Но… мне все еще знаком предел человеческих возможностей. И я… я уже давно этот предел преодолел. Они изменили меня настолько, что я человеком быть перестал! Я чудовище! Монстр нацистского Франкенштейна!
Я Джеймс Бьюкенен Барнс. Я родился 10-го марта 1917 года в Бруклине, США. Сейчас мне 28 лет и я… вопрос… вопрос… вопрос.
Так Баки жирно написал карандашом на большом листе белой бумаги, каллиграфически выделив заглавные буквы имени, подчеркнув и обведя в кружок все цифры.
– Я привезла тебе кое-что.
Простая картонная папка и надпись русскими буквами «Дело №17». Маленькая, прикрепленная на скрепку фотография.
«Я был сержантом и служил в 107-м пехотном…»
Баки сжимал папку с личным делом мертвой хваткой, готовый за нее умереть. Или убить.
«У меня был друг…»
Прежде чем открыть папку и с головой уйти в чтение, Баки дал себе слово сперва записать все-все, что он вспомнил о себе сам, чтобы потом свериться с досье, собранным на него ГИДРой и, быть может, разочароваться количеством ошибок и неверных попаданий.
«Его звали Стив».
«Он был со мной до конца».
========== Часть 7 ==========
Я помню всё, и всё забыл.
Кого искал, кого любил.
Я проходил сквозь эти стены…
11 ноября 1945 год
Баки беспокойно вертелся с бока на бок на измятой постели, каждый раз подтаскивая за головой подушку и раздраженно подбивая ее живой рукой. Сон в принципе не был его любимым занятием, а на голодный, требовательно урчащий желудок и подавно. В конце концов, оставив бесполезные попытки, он сел и потянулся к выключателю. И почти сразу же – к лежащему на тумбочке блокноту с карандашом вместо закладки.
Открыв нужную страницу, Барнс пробежал глазами по уже написанному, перечел вслух, жадно вслушиваясь в каждый произнесенный звук, чтобы задействовать одновременно несколько видов памяти. Неосознанно покручивая в пальцах карандаш, Баки некоторое время задумчиво смотрел на собственную фотографию, с педантичной аккуратностью прикрепленную в правый верхний угол, после чего сделал несколько нарочито медленных, чтобы запомнить выводимые буквы, пометок и, перечитав их несколько раз, закрыл блокнот.
Не прошло минуты, как снова открыл.
Он знал, что фотографию совсем скоро предстоит вернуть назад в папку с досье, а досье отдать, поэтому он записывал и по несколько раз переписывал все ее содержимое, надеясь врезать себе в мозг как можно больше деталей. Он тренировал пальцы запомнить написанное также намертво, как помнили они, даже после обнуления, форму курка у винтовки и как на него нажимать. Он даже пытался нарисовать собственный портрет, срисовать с фотографии, но художественные способности никогда не были его сильной стороной, а ГИДРа в подобных навыках заинтересована явно не была, чтобы нажимать на их тренировку, поэтому Баки быстро оставил тщетные попытки, а на месте, где изначально задумывался рисунок, написал: «Стив бы нарисовал. Он умел вещи посложнее, чем портрет с фотографии».
Но Стива рядом не было. Если верить информации, которую ему предоставили (а он так и не смог найти достойные причины в нее не верить), Стива вообще нигде больше не было. И это лишало любые, даже самые потаенные его надежды всякого смысла, исключало заведомо несбыточные мечты.
Грифель проткнул бумагу и расчертил ее длинной рваной полосой, хрупкое дерево треснуло в судорожно сжатых пальцах, превратив в щепки очередной по счету карандаш. Баки громко выдохнул и прикрыл на мгновение глаза. Затем бережно разгладил помятую страницу, осторожно закрыл блокнот и не менее осторожно отложил его в сторону.
Ему не спалось, ему не лежалось и не сиделось. Скопившаяся энергия, которой он просто не имел возможности дать выход, кипела в нем, даже несмотря на настойчивое чувство голода. Одним резким движением через правый бок Баки скатился с кровати, роняя себя на пол и, чтобы не упасть слишком грузно, в последний момент подставил левую руку, легко амортизировав удар. В плечо и лопатку привычно отдало, но Барнс давно решил для себя, что это только лишь от не пользования и отсутствия тренировок. Он с удовольствием подкачал бы спину, чтобы уравнять, насколько это возможно, железо и мышечный каркас; он сознательно променял бы пару-тройку завтраков на возможность побегать, заведомо согласный на все условия, вплоть до того, что с ним рядом по обе стороны бегал бы экипированный взвод. Мечты об этом растягивали губы Баки в мстительной полуулыбке, потому что, прислушиваясь к ощущениям собственного тела, требующего нагрузок, он был уверен, что очень быстро загонял бы их всех до седьмого пота и, в конце концов, все равно бегал бы один. Но, глядя в глаза правде, которая всякий раз отвешивала ему пощечины почище гидровских смотрителей, Баки вымучено признавал, что торговаться ему нечем, а понятие «отдал бы всё» не имеет для него ровно никакого смысла, потому что у него ничего нет. Он хотел бы выбраться отсюда даже не ради побега (бежать ему было некуда и не к кому – он знал), но банально ради глотка свежего воздуха, ради того, чтобы снова увидеть небо: ясное, хмурое, светлое, темное – хоть какое-нибудь. Он хотел бы выбраться отсюда просто для того, чтобы снова ощутить, хотя бы ненадолго, как ветер обдувает кожу, как от дождя намокают волосы, как… снег, медленно кружась, касается ладони.