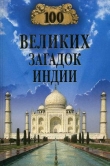Текст книги "Чужое небо (СИ)"
Автор книги: Astrum
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
========== Часть 1 ==========
<Не идеальный солдат, но хороший человек>
Д-р Авраам Эрскин.
14 апреля 1945 год
В небольшом, изначально предназначенном вовсе не для этого, но теперь по всем правилам оборудованном под медицинские нужды помещении, на одинокой койке у стены заходился в приступе кашля мужчина. Чтобы облегчить муки, он бы, наверное, свернулся в защитную позу или перевернулся бы на бок… Если бы не был жестко фиксирован за руки и ноги в положении «на спине». Его правую руку в запястье сковывал обычный кожаный ограничитель, левая же рука от кончиков пальцев до самого плеча, переходящего в грудную клетку, была металлической, и ее в техническом плане фиксировали намного более сложно.
Мужчина был молод, насколько позволяло судить его изможденное, явно запущенное состояние, и все еще крепко сложен. На его груди под лихорадочно поблескивающей от пота кожей играли сведенные напряжением мускулы. Обезвоживание подчеркивало их, делая еще более заметными. Его длинные неухоженные волосы черными змеями липли к лицу, перемежевывались с отросшей щетиной и частично скрывали следы жестоких побоев. В перерывах между приступами он тяжело и хрипло дышал, не дергался, не пытался освободиться и не открывал глаз, словно желая подольше прятаться в лихорадочном бреду, в котором его хотя бы ненадолго могли оставить в покое. Пусть сомнительном, пусть относительном, пусть при каждом вдохе ему казалось, будто он вот-вот выплюнет легкие, чем, разумеется, только спровоцирует их, но в покое. Потому что у него больше не было сил. Потому что он устал, потому что…
К его лицу прикоснулись, он почувствовал. Сначала затем, чтобы убрать волосы, а затем точечно – к ранам, от чего те моментально вспыхнули, но эта боль была настолько слабая, что мужчина даже не отреагировал. Или ему просто очень хотелось в это верить, инстинктивно, потому что осознанно он уже давно не помнил, каково это – верить, каково – хотеть.
– Тшш… – раздалось где-то совсем рядом, чуть справа и сверху, и он рефлекторно вздрогнул, сжимаясь и понимая, что покоя не будет, что они знают о его состоянии и теперь сделают все возможное и невозможное, чтобы вернуть его в сознание. – Тише… Тише, все хорошо. Лекарства подействуют быстро, скоро дышать станет легче.
Он не открывал глаз, но сквозь закрытые веки отчетливо видел тени, продолжающие мелькать у него над лицом, чуял раздражающе сильный запах спирта, продолжающего жечь его раны при каждом новом прикосновении. Сказанные слова, настигшие слух, лишь подхлестнули его страх и неконтролируемую инстинктивную панику. Его руки… рука, которая была живой, напряглась сама собой, натягивая ограничитель. Он не успел перебороть рефлекс. Это наказуемо. Всегда было. Он поглубже вдохнул истерзанными легкими проспиртованный воздух и приготовился к наказанию.
Но его не последовало. Лишь что-то холодное коснулось лба и осталось на нем лежать, неся… облегчение?
Он такого слова не знал.
Зато они знали все о его состоянии. Знали всегда. Как и он знал, выучил до уровня безусловного рефлекса, что произойдет, если он не отреагирует. С ним заговорили. Ответ обязателен.
Медленно, опасливо он попытался открыть глаза, стараясь быть готовым к пучку ослепляющего света, пощечинам, ледяной воде.
– Доброе утро, – его поприветствовал тот же женский голос, теперь подкрепленный становящимся все более четким силуэтом чуть левее точки, на которой он фокусировал взгляд. Его неосознанно затрясло. Если это такая проверка, то он совершенно не понимал, какой реакции от него ждут. А непонимание недопустимо. Непонимание наказуемо. Понимание тоже. И отсутствие ответа, когда к нему обращаются.
– Нет, – слово вырвалось невнятным хрипом, и горло моментально сковал спазм, предшествующий очередному приступу кашля, который он изо всех сил пытался сдержать. – Английский не понимать, – он не знал, чего именно от него хотели, и к чему вообще вся эта провокация, поэтому ответил, как учили, – английский нельзя. Только русский.
– Хорошо, – ответ прозвучал как похвала, на том языке, который был правильным, и мужчина позволил себе надеяться, чисто инстинктивно, что с тестом справился. – Хорошо, я поняла, – женщина в белом халате одобрительно улыбнулась, на что он лишь сильнее сжал челюсти, чтобы не закашлять. – Как твое имя, солдат?
Мужчина снова дернулся, словно реагируя на пощечину, и со свистом выплюнул воздух, который скрежетал в его горле. Понимая тщетность любых попыток, все, что он смог сделать – отвернул лицо в сторону, после чего зашелся безудержным кашлем.
Слабости не прощают, слабость наказуема. Отворачиваться, когда задали прямой вопрос, запрещено. Но кашлять тоже… Противоречия раздирали его хуже, чем страх перед поставленным вопросом.
Как твое имя…
Имя.
Имя?
Твое имя?
Как твое имя?
Все встало на свои места. Теперь солдат точно знал, что это тест. Он не помнил, чтобы такие проводили с ним прежде, но точно знал, дрожью во всем теле чувствовал, как надо отвечать. Четко на поставленный вопрос. Пусть даже он и был провокационным, но ведь это же тест. На запоминание. На усвоение материала.
– Мое имя Солдат.
Выражение лица в его боковом зрении изменилось. Неодобрение? Ответ неверен? Он ошибся?
– Агент? – мужчина отчаянно пытался избежать наказания за ошибку, надеясь, что если он подумает и ответит правильно…
Но лицо, на которое запрещено было смотреть прямо, больше не менялось. Его не хвалили. Значит, ответ все еще был неправильный…
– Как твое настоящее имя? – вопрос переформулировали в более конкретный, и в затуманенном сознании солдата зажглась искра понимания. Это все тот же тест. Проверка. Но ведь он точно знает, какой ответ правильный, он не ошибется и, возможно, в конце концов, его даже не побьют.
– Меня зовут Солдат.
Ответ неудовлетворительный, солдат понял это по глазам и мимике, и снова сжался, ожидая неминуемого, по его мнению, наказания. Назойливый кашель все не отступал. Он закрыл глаза, давясь и думая, что за адским жжением в груди, возможно, даже не почувствует побоев. Или все просто сольется воедино.
Он все еще хрипел, пытаясь выровнять колкое дыхание, когда по закрытым глазам снова мазнула тень близкого присутствия, вернулся едкий запах спирта и жжение прикосновений: на этот раз к правой руке, к живым и по ощущениям содранным в кровь костяшкам.
– Приятно познакомиться, Солдат, – заговорили с едва уловимым акцентом, но все же на русском, и это казалось сомнительным, но все-таки поощрением. Мужчина снова открыл глаза, старательно избегая запрещенного зрительного контакта. – Меня зовут Диана, – она склонилась над его лицом еще ниже, что было верным сигналом к опасности, но он как мог давил в себе инстинкты.
Одна рука в белой перчатке нырнула ему под затылок, вызвав неконтролируемую неуемную дрожь прикосновения, осторожно приподняла, в то время как другая рука удерживала стакан у самых его губ.
– Выпей, – прозвучало не резко, но тренированный слух все равно воспринял приказом, поэтому, не мешкая, солдат обнял губами холодное стекло, с непривычки и неудобной позы давясь и проливая, но большей частью все же глотая. Ему не разрешали хотеть, хотеть было наказуемо, и он об этом прекрасно знал, но пить хотелось. И лишь теперь, внезапно получив желаемое, он понял, насколько сильно. – Вот так… – голос продолжил, когда стакан опустел, а солдат приготовился слушать условие, которое полагалось за воду. – Еще?
Солдат задумался, путаясь в ощущениях, которые туманили сознание, и продиктованной рефлексами выучке.
Еще один стакан – еще одно условие, хотя он и первого еще не знал. Поэтому он единожды, как того требовали, отрицательно качнул головой. Смотреть прямо было нельзя, поэтому подтверждение правомерности своих действий он считывал боковым зрением наискось.
В обзоре при этом оказалась стойка с капельным раствором, от которой тянулась трубка к его живой руке. Рассмотреть саму руку было сложнее, да и делать этого никто не позволял, поэтому он полагался только на ощущения. Ограничитель сдавливал запястье. Похож на кожаный ремень, но мягче.
– Я освобожу тебе руку, солдат, – мягко произнес голос, и акцент, который почти отсутствовал на односложных фразах, снова вернулся. Не идеальный, но все же тот самый русский. – Если ты пообещаешь не драться и беречь капельницу. У тебя вены в дефиците.
Он ничего не ответил. Во-первых, потому что его учили отвечать конкретно на конкретные вопросы. Вышесказанное конкретным не являлось. Во-вторых, потому, что частично не понял, а это уже было опасно. За непонимание языка наказывали, понимание – вбивали.
Он не ответил, но его за это не ударили и пару минут спустя даже освободили руку, для четкости поставленной задачи повторив: «Не драться» и «капельница». Это солдат отчётливо уловил, связав в контексте, додумал и остальной смысл, тайно надеясь, что его промах с непониманием не заметили.
Однако, заново прокрутив в голове последние услышанное, солдат замер. «Do not fight», «IV» – это не было на русском. Это был английский. Он понял, воспринял, слова отозвались где-то внутри и странным образом успокоили. Ровно на время до момента, пока он не осознал свою грубейшую ошибку.
Английский плохо, английский – язык врагов. Но он его понял, он его помнит, и память эта болезненно зудела в неуспевающих зажить уязвимых местах побоев, в покалывающих следах ожогов на висках, куда крепили, били, связывали, чем-то обкалывали, снова били и насильно крепили… что-то.
Он вспомнил боль в изломанном теле и непроходящую слабость, вспомнил жажду и голод, вспомнил сырость и холод, пронзающий униженно обнаженное тело. Он помнил, как били, заставляя повторять на русском, и выбивали признания, помнит, как пытали и вынуждали, помнит, как обещали прекратить… А потом резали, жгли и сжигали. В огне? Или в холоде? Этого он не помнил… Помнил только, как тело в прямом смысле слова разрывало на части, а в голове все плавилось и… и исчезало, огненно жидкое, утекало, как вода, которой ему не давали. Он помнит, как пахло горелым.
Он помнит:
– Повтори!
Он помнит:
– Ответ не верен!
Он помнит:
– Не сопротивляйся!
Он помнит холод и… и непреодолимую тяжесть железной руки, которая немилосердно тянула к земле, ассиметрией перекашивая избитое ослабленное тело.
Солдат дернулся раньше, чем вспомнил приказ «Do not fight» и успел задуматься над неизбежно плачевными последствиями своих действий. Первым же движением он вырвал капельницу, разбрызгивая собственную кровь, остальные сомнительные усилия потратил на то, чтобы попытаться освободить вторую… железную руку. Он безрезультатно дергнулся несколько раз в массивных фиксаторах и даже успел обмануться ложным ощущением, будто те поддались, прежде чем услышал приказ: «Остановись!» – на русском, после чего руку знакомо пронзило разрядом, и мир вокруг опасливо качнулся, грозя сбросить его за край, в холод, боль и забвение.
Доступных, не исколотых вен больше не было, новую капельницу пришлось ставить под ключицу на правую сторону.
– Вам следует ответственнее отнестись к личной безопасности, доктор.
– Что о нем известно? Если о нем сохранились какие-то данные, генерал, мне нужны все. Всё, что возможно найти.
– Проявите терпение, мои люди работают над этим. Вы получите всё и даже чуть больше, доктор.
– Как его звали?
Как твое имя?
Имя?
Ответ неверен.
Солдат.
– Это он?.. Тот самый?
– Не смотрите на меня так, доктор. Не мы решили – судьба решила. А пока имейте в виду вот что: я даю вам полный карт-бланш. Делайте все, что хотите, изображайте, кого хотите, не скупитесь на методы и средства. Но помните: меня интересуют только результаты.
– Ученые ГИДРы. Зола достиг значительных успехов. Они не отдадут его просто так.
– Это не ваша забота. Я гарантирую вам и вашему испытуемому полную безопасность. Работайте.
– Человек, генерал. Не испытуемый. У него есть имя.
– Это все этика, доктор. Работайте. И помните, что работаете вы на результат.
========== Часть 2 ==========
20 апреля – 20 августа 1945 год
Двусторонняя запущенная пневмония, с которой его нашли на отсыревшем бетонном полу лаборатории, была лишь началом. Усиленный иммунитет быстро поборол болезнь. Но затем наступило худшее, то, с чем даже искусственно улучшенная иммунная система справляться была не обязана.
В небольшом помещении в сравнении с количеством людей было до неприличия тихо. Охранники в полной амуниции с заряженным оружием держали на прицеле человека, согнувшегося пополам и уткнувшегося лицом в большое эмалированное ведро. Время от времени напряженная тишина разбавлялась звуками мучительной рвоты.
– Подойди, – фигура в белом халате, держащаяся к человеку ближе остальных, сделала призывающий жест рукой и шагнула еще ближе, нарушая условно безопасную границу. – Помоги мне.
– Доктор, назад! – ее окликнули одновременно несколько охранников, неодобрительно ткнув автоматами в сторону цели, так, словно та, уткнувшись в злосчастное ведро, и вправду могла видеть что-то помимо него. Дальше продолжил лишь один: – Нам приказано обеспечить вашу…
– Вот и обеспечивайте, солдат, – игнорируя предупреждения, фигура в белом склонилась над пленником, осторожно коснувшись ладонью его лихорадочно влажной спины. Подошедший с другой стороны охранник напрягся в ожидании ответной реакции. – Помогите мне отвести его в уборную.
– Приказано не выпускать объект… – но наткнувшись на убийственный взгляд, каким обладали лишь женщины с немалым влиянием и едва ли ограниченной властью, молодой солдат чертыхнулся в мыслях, напряженно сжал одной рукой автомат, а вторую опасливо подставил под играющее мышцами плечо, живое, в то время как вторая рука объекта… – Чижов, помоги! – приказал он строго и сделал соответствующий жест в сторону подчиненного, но оба мужчины были остановлены все тем же убийственным взглядом.
– Отставить, солдат! Я сама справлюсь, – сноровисто подсунув правое плечо под тяжелую бионическую конечность, под шалелые взгляды солдат она только кивнула командиру, чтобы тот усмирил своих псов.
Когда охрана послушно расступилась, освобождая выход, дрожащий и едва стоящий на ногах не без сторонней помощи объект поволокли по затемненным, зловеще пустым коридорам в уборную.
– Принесите ему сменную одежду и ждите за дверью.
– Доктор…
– За дверью, солдат!
Он слышал все обрывками, достигающими его мозга словно сквозь толстенный слой ваты. Его не волновало, сколько вокруг было охраны, была ли она вообще и собиралась ли его пытать. Потому что не могло быть пытки хуже, чем его нынешнее состояние. Его тело выворачивало наизнанку изнутри, раз от раза принуждая выхаркать к чертям желудок, лишь бы полегчало. В его череп, сквозь кости напрямую в мозг раз от раза методично ввинчивался докрасна раскаленный гвоздь, и невыносимо хотелось пробить себе грудь металлической рукой, отогнуть металлизированные ребра и выдрать сердце, лишь бы набат бешенного пульса прекратил долбиться о виски. У него болело буквально все, каждый квадратный сантиметр тела, вплоть до облепивших лицо мокрых волос, все кости и мышцы выкручивало спазмами.
Его ломало, чередуя приступы рвоты и судорог с приступами озноба и горячечного жара. Его держали на агрессивных препаратах, смертельных для обычного человека, слишком долго. Без них ничуть не стало легче, без них он превратился в конченого наркомана, лишенного дозы.
Душ не принес облегчения, обнаженной кожей он остро ощущал каждую отдельную раскаленную каплю, обрушивающуюся на кафельный пол со звуком рушащегося здания. Ему хотелось кричать, молить об избавлении на всех знакомых языках, умолять о смерти, пусть он и знал наверняка, что это не имеет смысла. С трудом поддерживая вес слабого тела в неумолимо вращающемся пространстве, он сгорбился над раковиной и чистил зубы, каждый раз словно проходясь по чувствительным деснам бритвой и сплевывая кроваво-красным в водослив. Опираясь смертельно тяжелой металлической рукой на стену, он боялся опереться на раковину, что могло быть удобнее, зная точно, что сломает. А портить имущество запрещено. Чревато наказанием.
Едва он нетвердой живой рукой и далеко не с первого раза вернул орудие пытки – зубную щетку – в стакан (таким образом, они, наверняка, в очередной раз проверяли его меткость и умение обращаться с хрупкими предметами), как совершенно внезапно его накрыл очередной приступ рвоты, и он метнулся в сторону и рухнул на колени, почти окунув голову в унитаз. Он давно ничего не ел, поэтому тошнило его кровью и обильно желчью.
– Таким образом твой организм выводит накопившиеся токсины, – врач (он и забыл о постороннем присутствии) склонилась рядом с ним и заботливо придержала волосы. – Скоро станет легче.
«Зачем?!» – хотелось ему истерически завопить, но сил между спазмами хватало разве что на рваные вдохи. Конечно, у него все еще был небольшой шанс захлебнуться собственной желчью, но едва ли это его убьет, если до сих пор не убила ломка.
На смену рвоте очень быстро пришел озноб. Он даже не успел оторвать руку от края унитаза и отдышаться, как его затрясло крупной дрожью, а зубы стало невозможно сомкнуть от того, как безудержно колотились друг о друга челюсти.
Его одели (и этому процессу он неосознанно больше мешал, чем помогал), после чего отволокли назад в помещение с кроватью, где сгрузили его на матрас и первым же делом принялись фиксировать.
– Оставьте свободными ноги, – приказал женский голос. – И правую руку тоже.
– Доктор, вы рискуете.
– Я не хочу, чтобы, будучи скованным и не имея возможности перевернуться, он захлебнулся собственной рвотой! Спасибо за беспокойство, Смирнов. На сегодня вы и ваша команда свободны.
За последним из бойцов охраны закрылась дверь, болезненно резанув по слишком чувствительному слуху солдата. Он дернул головой на резкий звук, ерзая головой по подушке. Его все еще колотило, и будь у него силы и свободные обе руки, он бы зарылся в одеяло с головой и сжался бы под ним в комок, даже зная, что ровно через минуту после этого или даже раньше его насильно достанут из импровизированного укрытия.
Ему насильно споили еще один стакан воды, очередной, и какой-то части его сознания стало откровенно дурно при мысли, сколько всего ему придется сделать: сказать, убить – за количество уже выпитых стаканов. И намного больше за все остальное: постель, лекарства, душ и одеяло. И за свободную руку.
– Ты обезвожен, – прозвучало на русском, когда он слабо попытался отвернуться. – Нужно пить.
И солдат пил, сквозь горечь чувствуя вкус, странный, какого у воды не бывает, приторно сладкий, но неожиданно приятный. Потом к его живой руке снова подключили капельницу. А еще чуть позже умотали одеялом вместе с фиксированной металлической рукой по самую трясущуюся челюсть.
Медленно согреваясь и проваливаясь куда-то в никуда, в невесомость между сном и явью, солдат вдруг совершенно ясно (чего не случалось уже очень давно, потому что раньше дозу нейролептиков никогда не снижали и уж тем более их не отменяли, а под ними мыслить ясно было невозможно) осознал, что все происходящее совершенно не соответствует его ожиданиям.
Охранники не били его прикладами и армейскими сапогами, не швыряли в камеру голого на ледяной пол. Его не связывали, если не считать того, что обездвиживали тот кусок металла, что вживили ему вместо левой руки, совершенно не озаботившись тем, насколько он тяжеленный и как под его весом стонут неокрепшие, неадаптированные живые мышцы. Фиксации железной руки он только рад, потому что так ему хотя бы не приходилось в числе прочего задумываться о том, как не убить… скажем, того самого доктора, что всегда подходила к нему так неосмотрительно близко, в моменты, когда он меньше всего себя контролировал. Он очень боялся не только убить ее, но даже покалечить, ведь он-то все слышал. Ему могло быть плохо настолько, что он начисто игнорировал происходящее вокруг, он мог плавать где-то на грани бреда и бессознания, но при этом все слышал, запоминал, а после, в моменты кратковременных передышек, мог воспроизвести и обдумать. Она за ним ухаживала, обрабатывала его раны, меняла капельницы, спорила с вооруженной охраной за его интересы. Она его поила и кормила, пока он был привязан, а сил едва хватало держать голову, словно младенца с ложки, тем же, чем обычно кормят младенцев. И она даже не злилась, когда он выплевывал все ее старания в спешно подставленное ведро или унитаз, как случилось в уборной.
Все это странно, очень странно. Хотя бы потому, что его сознание без химии в венах прояснилось достаточно, чтобы он мог удерживать в голове мысли дольше нескольких секунд и даже выстраивать их в короткие пока что цепи из причин и следствий. Было странно, что засыпая и просыпаясь, теряя сознание и вновь приходя в себя, он видел перед собой всегда одно и то же лицо. Так часто, что он, даже ни разу не взглянув на нее прямо, успел ее запомнить. Было крайне странно и беспрецедентно, почему ее еще не заменили и почему это… она.
Солдат не мог объяснить, откуда в нем эта уверенность, потому что других врачей он и вовсе не помнил, но он все равно точно знал, что женщин до этого не было. Они были слишком слабыми физически, чтобы эффективно подавить его звериную борьбу за свободу и одновременно слишком… мягкими психологически, чтобы стойко выдержать все то, что с ним должны были делать. Женщины от природы были склонны проявлять сострадание, а Солдат сострадания был недостоин, вызывать его в ком бы то ни было запрещалось, а за любые на то попытки предписывалось наказание. Просить было нельзя, умолять – и вовсе бесполезно.
Но сейчас к нему вдруг подпустили женщину. Хрупкую, с волосами белыми, как ее халат, словно в напоминание об исключительной внешности истинных немцев, которую восхвалял в войну Гитлер. И хоть он не помнил, что за война, кто такие немцы и что за Гитлер? или… Гидра? он почему-то нашел во всем этом кажущиеся верными ассоциации. Она всегда крепила капельницу так, что он даже не чувствовал, делала уколы аккуратно и под углом, а не с размаху и на полную длину иглы. Она с ним разговаривала, не обязывая на ответ даже тогда, когда задавала вопросы. Однажды под ее «Доброе утро, солдат» он очнулся достаточно трезвым, чтобы воспринять немецкую речь, а потом, немного погодя понять, что, когда она говорит с ним на русском, акцент у нее немецкий.
Солдат не просил сострадания, жалости, доброты или ласки. Но доктор в белом с белыми волосами была к нему добра, и он очень не хотел ей вредить.
Игла в очередной раз едва ощутимо проткнула вену, на что он даже не вздрогнул.
– Мне нужна твоя кровь, – за манипуляциями последовал комментарий, звучащий так, словно ему это и впрямь могло быть небезразлично, – хочу точно знать, что они с тобой натворили и придется ли это исправлять, – резко, безо всякого предупреждения женские пальцы с ногтями проехались по внутренней стороне его раскрытой ладони, вызвав рефлекторную дрожь… щекотки? – Поработай кулаком, солдат, чтобы дело быстрее пошло, все равно не спишь.
Он послушно стал сжимать и разжимать кулак. Собрав всю волю и строго запретив себе думать о последствиях, солдат рывком повернул голову. В первый раз посмотрел прямо. В лицо, обрамленное светлыми, сегодня кудрявыми волосами, молодое и, будь он способным вспомнить и понять смысл этого слова, красивое. Глаза голубые – это для солдата открытие, потому что прежде он в них никогда не смотрел и цвета увидеть не мог. В голубизне этих глаз не было холода, не было отчужденности, отрешенности и безразличия, они смотрели выжидающе, со спокойным интересом.
Солдат напряженно сглотнул, почувствовав, как в приступе паники сжалось что-то в животе, а все тело вздрогнуло, ожидая надежно вбитого в подкорку наказания. Для себя, ведь на контакт идти запрещалось, он прекрасно это знал, и для нее, потому что она инициировала контакт, раздразнила его надеждой на взаимность. Он не хотел для нее наказания, беззвучно умоляя, чтобы в эту самую минуту за ними никто не наблюдал и не доложил об увиденном начальству. Солдат же поспешил отвернуться, даже не вспомнив, зачем именно обернулся. Хотя имя на языке так и крутилось, и ему до зуда в висках хотелось знать, настоящее оно, или его пропитанный галлюциногенами мозг его просто-напросто придумал.
– По-прежнему не скажешь мне, как себя чувствуешь? – голос мягкий, вопрос свободный и открытый, словно она и вовсе не боялась наказания. – Потому что сегодня, я очень надеюсь, ты сможешь сам дойти до душевой, пока Смирнов с командой слишком заняты игрой в «Пьяницу», чтобы держать тебя на мушке.
Его голова больше не грозила расколоться, более того, он мыслил достаточно ясно, чересчур ясно, чтобы понимать разговоры и их подтексты, чтобы ассоциировать предмет разговора и вызывать, клещами вытягивать из недр памяти нужные ассоциации, которых с каждым днем становилось все больше. Теперь он четко представлял, кто такой Смирнов и кто такая «команда», помнил лица всех. Под словом «душ» он понимал необходимую и даже приятную процедуру, а не поливание ледяной водой под зверским напором из шлангов. Он даже мало-помалу, исключительно через мышечную память и интуитивное смущение снова начал вникать в смысл понятия «личное пространство», поэтому открывшаяся перспектива принять душ в одиночестве где-то глубоко внутри него отозвалась… радостью?
Он слишком глубоко погрузился в мысли, слишком увлекся прежде недоступным простором размышлений, чтобы заметить, как из живой руки исчезла игла, а к железной руке вернулась… нежелательная подвижность.
Солдат сел на кровати, осторожно свесив с края босые ноги и упираясь обеими руками в матрас, чтобы переждать головокружение и дать телу время привыкнуть к вертикальному положению, прежде чем встать.
Его все мучил вопрос, ответ на который он так страстно желал и так боялся последствий.
Он разговаривал редко, неуверенный, позволено ли, не зная, как и о чем, иногда безнадежно теряясь в языках. Он так давно не слышал и не вникал в собственный голос, что даже не был уверен, не разучился ли говорить.
– Твое… имя… – он оказался прав: у него с отвычки хриплый и грубый голос, а язык точно каменный и ворочается с трудом. – Тебя зовут Ди… Диана?
В мыслях солдат долго не мог решить, что употребить лучше: «ты» или «вы», и как построить вопрос, который сам по себе едва ли имел право на существование, так что, в конце концов, он выдал, как было, на одном дыхании.
– Да, – голос за спиной прозвучал удивленно, но не зло, и продолжил, как солдату показалось, поощрительно. – Верно, меня так зовут, – недолгая пауза. Сидя с опущенной головой, сквозь пелену волос солдат все равно смог заметить тень чужого присутствия прямо перед собой. – А как зовут тебя?
Он не смог удержать рефлекторную дрожь.
– Как твое имя?
– Назови имя!
– Имя?
– Неверно!
– 32557…
Фантомная боль внезапно пронзила виски, и он глубоко закусил нижнюю губу, чтобы сдержать вскрик. В том месте на его висках, которое до белых вспышек перед глазами горело, точно насквозь прожигаемое, его живые пальцы ощущали рубец – бесформенный, едва подживший, а из вспышек формировалось лицо мужчины в очках, угрожающе реальное, до дрожи пугающее.
Лицо что-то говорило ему, но он не слышал, а боль не прекращалась, заставляя его сильнее сжимать голову руками.
Имя.
Имя…
Его имя…
– Я не помню! – взвыл солдат, давясь мгновенно накатившим ужасом. Безумными глазами он смотрел на девушку-врача-без-очков прямо перед собой и теперь даже не мыслил отводить взгляд. Его не страшило возможное наказание, ему это было нужно, необходимо. За один только взгляд, за секундный зрительный контакт он готов был заплатить любыми пытками. – Я не помню, как меня зовут! – повторил он окончательно сорвавшимся голосом, глядя в глаза напротив и мечтая найти в них ответ.
В какой-то неуловимый момент не отравленные нейролептиками человеческие чувства взяли верх, прорвали плотину запретов и страха, хлынули наружу и накрыли его с головой, словно волна цунами, крушащая всё и всех на своем пути.
Он вцепился в единственное живое, что было рядом, вцепился, не жалея сил, обеими руками, мог бы ногами и даже, наверное, зубами.
– Пожалуйста, – заскулил он, и запретные слова на запретном английском всплыли сами собой, подходящие, готовые, ждущие своего часа. – Пожалуйста, не… не надо… – подбородок затрясся, сплошным потоком хлынувшие слезы вмиг лишили зрения, превратив все в единое размытое пятно. – Не делайте мне больно. Пожайлу… луйста! Я не помню… Ничего не… не помню! Пожалуйста…
Железные пальцы сжимались, как тиски, все сильнее и сильнее, но она не противилась и не вырывалась, зная, что это бесполезно, что железная рука, с которой он и без того обращался крайне неумело, разожмется лишь тогда и только тогда, когда он сознательно этого захочет. И прямо сейчас он вряд ли почувствует, даже если сломает ей кости. Она не сопротивлялась, она знала, что однажды его боль пробьет себе путь на свободу.
– Тише, – вместо того чтобы сопротивляться или звать на помощь охрану, она прижалась к нему теснее, шепча на родном для него английском слова утешения. Все, что он так отчаянно хотел слышать, все, в чем он нуждался, все, в чем мог нуждаться человек, которого бесконечно долгое время касались только кулаки, сапоги, плети и электрошокеры. – Шшш, я здесь, я здесь, я с тобой…
Она прекрасно знала, что не имела никакого права говорить подобное, ее коробило от каждого произнесенного слова, но что еще она могла? Ему было нужно это услышать! Ему нужен был кто-то рядом. Человек, который не ударит, человек, которого можно почувствовать физически и убедиться, что он реален. А ведь все это время он думал иначе. Он думал – видение, он думал – галлюцинация, он думал – сумасшедший.
В тот день в душ его снова повели, пока он висел мертвым грузом на чужих плечах. В тот день его будто снова накачали до овощного состояния, потому что он абсолютно не понимал, что происходит и где он находится. В тот день в его голове билась, словно умирающая птица в силках, одна лишь мысль:
Имя.
Имя…
Мое имя…
32557241
Ряд повторяющихся чисел, абсолютно бессмысленных, но навязчивых до той степени, что он готов был биться головой об стену до тех пор, пока не раскроит себе череп, лишь бы понять их значение, или же прекратить их повторение.
– Они использовали ток и накалывали тебя психотропными, чтобы заставить забыть, – услышал он в один из вечеров, и хотел было спросить, кто «они» и так ли сильно отличаются «они» от… нее, но вдруг понял, что совершенно ему все равно. Перед полной тарелкой горячей съедобной еды, которая до головокружения соблазнительно пахла и которую он был волен съесть, как его убедили, безо всяких условий самостоятельно (свободными в этот раз были обе руки) он ни о чем другом связно думать не мог. – Теперь ничего этого нет: твой организм чист, препараты вывелись, а физические повреждения, нанесенные мозгу, регенерируют. Ничто не помешает тебе постепенно все вспомнить.