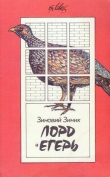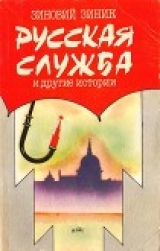
Текст книги "Русская служба и другие истории (Сборник)"
Автор книги: Зиновий Зиник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
«Ты знаешь, что он со мной проделывал в детстве?» Плутание целый день по вокзальным задворкам своей судьбы давало себя знать. Ему нужно было отыскать виноватого, как выход из запутанных коридоров. Он перестал судорожно вздрагивать и сидел, откинувшись в кресле, из бокового кармана свисал засунутый туда изжеванный галстук, из-под расстегнутого ворота рубашки выбивалась седая поросль; лицо его было белесым и припухшим, как будто слепленное из душноватого марева за окном. «Я об этом никому не рассказывал. Такое впечатление, что только сейчас вспомнил». Он вздрогнул, передернувшись как будто от отвращения, и выпрямился. Обида зрела под сердцем, как тусклая лампочка, и наконец ослепила короткой злой вспышкой догадки. «Когда мама умерла, он меня все равно каждый год тащил на дачу: воздух свежий и все такое. Мне там делать было совершенно нечего. А он целые дни третировал меня за неряшливость, за отсутствие инициативы. Мол, чего я сижу и смотрю в потолок. Ребенку четыре годика, а он ему выговаривает за отсутствие инициативы – интересный педагог! А раз в неделю, знаешь, он проделывал со мной следующее». Алек заерзал, и Лена видела, как побелели костяшки его пальцев, сжавших подлокотники. «Каждую субботу мы отправлялись с утра на прогулку. Доходили, скажем, до станции. Он ставил меня у железнодорожного шлагбаума, у переезда, и говорил: „А теперь я бросаю тебя на произвол судьбы“. Поворачивался и уходил. Мне было четыре годика, ты можешь себе представить? Я помню его спину в сетчатой такой тенниске. Я старался его нагнать. Маленькие ножки заплетаются. Я помню вкус крови и пыли на губах: сколько раз я падал, раздирал себе колени об асфальт. Я кричал: папа, не бросай меня на произвол судьбы. – И Алек передразнил себя еще раз детским плаксивым голоском: – На произвол судьбы! – И вскинул руки по-детски беспомощно вверх. – Но он ни разу не обернулся». Лена отвела взгляд. Налила себе дрожащей рукой виски в стакан.
«Кто же тебя домой отводил?»
«Как кто? Я сам. Я сам находил дорогу. Я закрывал глаза и вспоминал каждый свой шаг, как будто я пятился спиной обратно, всю дорогу до дому. А на следующей неделе он отводил меня к водокачке – за тридевять земель от нашего дома, как мне тогда казалось. И снова бросал меня – на произвол судьбы. Потом дошла очередь до керосиновой лавки за мостом. И так далее. Каждую ночь с пятницы на субботу я глаз не мог сомкнуть: я знал, что наутро он заведет меня туда, откуда я уже никогда не выберусь. Я был уверен, что он хотел от меня отделаться». У него снова задрожал подбородок. Он сжал лицо в ладонях, пытаясь остановить эту тряску, скрыть новый припадок от неожиданно нахмурившегося взгляда Лены. Она уселась перед ним на коленях, сжала его руку в своих ладонях и дотянулась до его подбородка губами.
«Что ты распсиховался, малыш?» – залепетала она, не отнимая губ от его лица, как будто нашептывая ему свои секреты. Она всегда называла его малышом, когда ей хотелось поинтимничать, поскольку он в подобных же ситуациях привык называть ее «мамочкой». Но на этот раз Алек лишь криво усмехнулся и попытался вытащить свою руку из ее ладоней, отстраняясь. «Давай, малыш, попробуем сконцентрироваться», – терла она его плечо, то ли гипнотизируя, то ли пытаясь вывести из транса. Она нахваталась в последнее время этих словечек, вроде «концентрироваться» или «медитация», на бесплатных курсах по практическому буддизму, субсидируемых местным райсоветом – то есть, опять же, из кармана налогоплательщика Алека. Алек сидел с закрытыми глазами, как будто не слушая ее. «Прошлое, малыш, это наши грехи, наша больная совесть и больше ничего, – втолковывала ему Лена, как по шпаргалке. – А будущее – это наши бредовые идеи о нашем прошлом. Наши страхи и наши кошмары. Концентрироваться поэтому надо на настоящем. Настоящее и есть разум, свет, добро. Радость. Но чтобы ощутить радость настоящего, надо научиться концентрироваться. Берешь, скажем, стакан. – И она протянула руку к стакану с остатками виски. – Ты его коснулся. Теперь концентрируйся. Ты его осязаешь. Материя. Осязание. О’кей? Затем: подносишь стакан ко рту». И, как в замедленной съемке, почти с оперной торжественностью Лена стала приближать стакан к губам. Алек открыл глаза и уставился на нее, как на психически больную. Облизнул пересохшие губы и одним глотком опустошил свой собственный стакан, не слишком концентрируясь на осязании.
«Ты спешишь, – по-учительски осудила его Лена за этот своевольный жест. – Ты все время торопишься. Ты стремишься в будущее и заглатываешь на ходу свое настоящее, чуть не поперхнувшись прошлым. Так нельзя. Стакан уже в твоих руках. Ты уже его осязаешь. Он у твоих губ. Вдохни, расширь ноздри. Чувствуешь? Слышишь запах? Концентрируйся. Ты этот стакан с виски не только осязаешь, но уже и обоняешь. Обоняние, о’кей? И, наконец: глоток. – Она отпила виски и посмаковала его во рту: – Вкус, о’кей? Концентрируйся. Осязание, обоняние – и вкус. Ты концентрируешься на всех трех аспектах бытия, о’кей? Ты ощущаешь настоящее. Твоя суть наполняется настоящим». Она запнулась, глядя, как Алек снова наполнил, не церемонясь, стакан из бутылки и выпил залпом.
«Ты напрасно, малыш, так скептически относишься к моим идеям, – снова нахмурилась Лена. – Ты концентрируешься на прошлом, сводишь с прошлым счеты. Твое прошлое поэтому составлено сейчас из сплошных обид, и ты, получается, всеми обиженный. В таком прошлом иначе как жертвой себя вообразить невозможно. Слабым и запутавшимся. Маленьким и беспомощным. Ты не хочешь взять на себя ответственность, признайся. Ты боишься расстаться с безответственным прошлым, где распоряжался твой отец. Куда ты его дел?» – спросила она, имея в виду не столько прошлое, сколько отца.
«Ты знаешь, что он мне наплел про свою первую жену?» – проронил Алек, как будто не слушая. Он принялся рассказывать с маниакальной пристальностью к деталям, как отец расстался с сибирской Верой. Многозначительность словосочетаний вроде «бросил ВЕРУ в Сибири», «расстался с ВЕРОЙ» явно гипнотизировала его и подбавляла пафоса и мелодраматического надрыва в эту маленькую трагедию сталинских лет. Но чем больше он расписывал жизнь затравленной бытом женщины, обреченной на одиночество в маленьком сибирском городке, тем больше ощущал он в этой отцовской истории наличие неясных ему до конца параллелей с его собственным романом – в его отношениях с Леной. Собственно, отец и стал рассказывать ему про свой сибирский марьяж, потому что явно угадал эти вот параллели с нынешней жизнью сына. «И знаешь, как он заключил свои излияния? Если бы я не женился на твоей маме, сказал он, тебя бы не было на свете. Ты понимаешь, что он хотел этим сказать?»
«Ничего он не хотел сказать, – закусила губу Лена, как всегда перед тем, как сказать очередную дерзость. – Это ваше поколение стало все как один воображать себя докторами Живаго. Интеллигенция, революция, женская доля. А для отца продолжение рода было важней всяких ваших идей. Тебя этот, как ты говоришь, дарвинизм шокировал своей низменностью, да? О’кей: он перед тобой за это и оправдывался», – сказала Лена.
«Интересный способ оправдываться. Тут не просто дарвинизм. Мне сначала тоже показалось, что он просто смущается своей приземленности, зоологичности. Но нет, тут похитрее. – Глаза Алека сощурились в недоброй догадке. – Если б, мол, не его толстокожесть, его измены и предательство, я бы, значит, не родился. Понимаешь? Он темнил и увиливал, морочил голову восторженной провинциалке и, вполне возможно, довел ее до самоубийства, и все это, мол, исключительно ради того, чтобы я в результате появился на свет. То есть я, получается, соучастник всех его темных делишек и сделок с совестью? Это, что ли, он хотел сказать?» Алек раскраснелся то ли от виски, то ли от распиравшего его праведного бешенства и даже как-то ожил. Он уже не был похож на пыльный мешок с гнилой картошкой, забытый на дачной платформе. Глаза его прояснились, рука уверенно дирижировала в воздухе движением мысли.
«Но меня так просто не охмуришь, – говорил он, пророчески потрясая пальцем. – Он же не знает, что я знаю. Я знаю со слов матери, что она была уже беременна – мной – еще до свадьбы с отцом. Может, он и вынужден был жениться, поскольку мать забеременела. Понимаешь? Так или иначе, я бы все равно родился – даже если бы он не бросил свою сибирскую Веру. А значит: я за его гибельные адюльтеры не ответчик! Понимаешь?» Выпалив все это, Алек успокоился. А успокоившись, тут же сник. Он вступил в ту пору своей жизни, когда отсутствие суетливой перевозбужденности воспринималось им как приближение смерти. Он почти сполз с кресла и сидел, втянув голову в плечи, едва сжимая стакан в пальцах, его глаза из-за покрасневших век казались по-клоунски подрисованными. «Эм-эх», – издал он полувздох-полустон, в очередной раз опустошив стакан с виски. В этом вздохе звучал то ли укор, то ли горестное удовлетворение выпавшей долей. Так вздыхал отец за воскресным завтраком с чаем и бубликами: отпив слишком большой глоток слишком горячего чаю из граненого стакана в серебряном подстаканнике.
Алек встряхнулся, как будто пытаясь протрезветь. Лена смотрела на него пристально, взглядом озабоченности, обожания и полного непонимания: так смотрела на отца мать, когда отец вздыхал вот так вот, оглядывая захламленную комнату. Мать, как и Лена, никогда не убирала за собой, и отец, возвратившись домой с работы, при виде полного ералаша в комнате разводил руками, склонял голову набок, по-птичьи, и издавал этот вот полувздох-полустон, а потом бубнил сквозь зубы: «Я больше не могу, я не могу больше этого вынести». Глаза Лены расширились испуганно, и Алек понял, что слышит он не отцовский голос у себя в голове, а свой собственный: это он кричал, что больше так не может. Он вспомнил про отцовские ужимки не благодаря всплывшей в памяти картинке из детства, а потому что сам гримасничал точно так же. Он заметил эти ужимки в оригинале лишь через отражение в себе, узнал чужой голос по эху своего собственного. Сам являясь зеркальным отражением отца, он вглядывался сейчас в оригинал как в зеркало, чтобы разглядеть неведомые ему ранее свои собственные отвратительные черты. Он вспомнил свое затравленное состояние в автобусе пару часов назад и ту жуткую мысль о предопределенности всей его судьбы актом родительской воли.
«Я не могу так больше, – перешел он на зловещий полушепот, снова ссутулив грузную спину. – Ответчик я или не ответчик, все равно я повязан с ним своим рождением. Понимаешь, я таков, каков я есть сейчас, потому что он – мой отец, он меня породил: каждый мой шаг генетически предопределен его персоной. Мне некуда от него деться. – Он откинулся на спинку стула, снова повторив этот полувздох-полустон. – Как я мечтаю, чтобы меня бросили наконец на произвол судьбы: окончательно, на этом полустанке моей жизни – на произвол моей судьбы, моей, а не моего папаши!»
«Откуда у тебя, малыш, такая вера в то, что без него тебя бы не существовало? – Она задумчиво почесала свой выстриженный под полубокс затылок. – По теории вероятности, как нас учили в школе, ты мог бы спокойно явиться на свет таким, каков ты есть, но совершенно от другого отца, о’кей?»
«По теории вероятностей? – с надеждой наморщил лоб Алек. Он был вспыльчив, но отходчив. – Ты уверена?»
«Абсолютно. С некоторой вероятностью. Только вот кого, в таком случае, ты будешь винить за все то, что с тобой произошло? Если ты таков, каков ты есть, вне зависимости от прегрешений собственного отца, то тебе придется избавить и его от ответственности за твои собственные проступки», – пояснила она, как терпеливая учительница нерадивому школьнику.
«За какие такие проступки? В чем еще, интересно, прикажете мне себя винить?» С каких пор, каким образом ее мнение стало решающим в его поступках и образе мыслей? Был Бог, отец, советская власть, вина и страдание. Все хорошее в нас от Бога, все дурное – от родителей. Или наоборот? Была логика в том, кто за что в ответе. И вдруг все это грохнулось в некую непредсказуемую невероятность, где смазливая девочка в драных джинсах и с искусанными ногтями, без копейки в кармане и заслуг за душой решала, что каждый в ответе исключительно за себя. Он поднялся с решительностью человека, демонстрирующего, что разговор закончен. И тут же застыл, пригвожденный к месту телефонным звонком. Звонили из Далича. Далече. У черта на куличках, если вдуматься. Пожилой джентльмен из России просил через станционного смотрителя связаться с некоей «мисс Леной». На вопрошающий взгляд Лены Алек лишь отмахнулся:
«Он изучал карту Лондона еще в Москве. Пусть сам теперь ищет дорогу. Не заблудится. По твоей теории вероятностей, – отцы не отвечают за своих детей, да? Но дети не должны отвечать за своих отцов не только по теории вероятностей: так нас учили антисталинисты. Мы живем в антисталинскую эпоху. Мой отец теперь – антисталинист, долдонит об этом на каждом шагу. Пусть теперь отвечает сам за себя. А я пойду, пожалуй, домой». Он хлопнул дверью. Она стала искать ключи от машины.
* * *
Лена заметила его издалека. Отец Алека сидел на лавочке под деревянным навесом перед входом на станцию, как на дачном крыльце. Сидел он на стуле, в золотящихся августовских сумерках, как будто это не она нашла его наконец после долгих розысков и расспросов, а это он поджидал ее возвращения домой после дальней прогулки. «Очень благожелательный тут негр на станции, уступил мне свой стул, хоть и негр. Вы не подумайте насчет расизма – я про негра, потому что мы не привыкли к разному цвету кожи: на редкость тут пестрая толпа». Если бы не абсурдная нелепость этого сидения на стуле посреди станционной сутолоки, его можно было принять за железнодорожного контролера. Он разглядывал ее драные джинсы и стрижку полубокс без стариковской враждебности, скорее даже с мальчишеским любопытством, опровергая мрачные пророчества Алека.
«А вы на Катеньку похожи. Смешно даже. Дочка моего близкого друга. Они с Алеком дружили в детском саду. Но он, наверное, не помнит. Боевитая тоже была девочка», – сказал он, протягивая ей руку. В нем же она не обнаружила ничего общего с сыном. Она поняла, что это его отец, не потому, что они были внешне похожи, а просто потому, что советского человека видишь за версту, и не из-за его советской одежки, а скорее из-за некоего странного сочетания судорожной скованности фигуры и одновременно легкомысленной рассеянности взгляда. По сути дела, между отцом и сыном была дистанция огромного размера. То есть, конечно же, все та же грузная спина и короткая шея, те же выцветшие густые брови, волосы из ушей, прозрачные восточноевропейские глаза, складка тонких губ. Но губы эти были растянуты в добродушной до легкомысленности улыбке. Их сходство было лишь видимостью. Все было то же, да не то. Как раз то сходство, как между человеком и обезьяной – сходство, свидетельствующее скорее о непреодолимой разнице. Вместо одержимости, постоянной озабоченности неизвестно чем и скрытой истерики (Алек в любой момент мог бросить все и хлопнуть дверью) перед Леной предстала сама умиротворенность и приятие мира таковым, каков он есть. Контраст был настолько резким, что увлекал ее сам по себе.
«Мне тут не скучно было сидеть, – продолжал он, подымаясь. – Пассажиры ходят туда-сюда с газетами. Куча народу, а друг друга не толкают. И чисто тут. Как в Прибалтике». Лена с иронической улыбкой оглядела площадку перед станцией, где обрывки газет закручивались вечерним ветерком в одну кучу с картонками из-под гамбургеров и сигаретными пачками. «Мусор, может, и есть, – добавил он, перехватив ее взгляд. – Но воздух чистый. Пыли нету. Хотите доказательств? Пожалуйста: я уже который час в Лондоне, а туфли не запылились. Да в Москве мне уже который раз пришлось бы их ваксой полировать. Вот вам и все доказательства!» Лена улыбнулась – впервые, пожалуй, за последнюю неделю сплошных скандалов с Алеком. Если она и видела сходство между отцом и сыном, то лишь в том смысле, что хотела бы видеть Алека похожим на отца. Это был идеальный, несуществующий Алек, Алек из ее сновидений. Вольный, добродушный, слегка беспомощный. Как будто в отце открывалось то, что всю жизнь пытался скрыть в себе сын. Соединить эти два образа было так же трудно, как оказаться по ту сторону зеркала.
«Быстро же вы меня нашли, – вздохнул он, усаживаясь в машину. – Я себя, знаете, считаю крупным знатоком географии городов. А тут до выхода со станции – и то еле добрался. Пошел по лестнице не туда, переход какой-то, попал на другую платформу. Платформы, платформы – голова кругом идет. Даже подумал: и чего человек тащится с одного конца вселенной на другой, если на другую платформу попасть не может, – можно было и на трех вокзалах провести время столь же интересно. – Он покрутил головой. – Ну и город, ну и система. Если бы вы меня здесь бросили, я б один не выбрался».
«Да кто же вас тут бросит? Алек, например, уверен, что это вы сами бросили его на вокзале. Я имею в виду сегодня, на вокзале Чаринг-Кросс. Бросили на произвол судьбы», – добавила она, подражая в интонациях Алеку, с многозначительной иронией.
«Так он вам про это рассказывал?» Он отвернулся к окну. Лена прикусила язык. Она кляла себя за болтливость: он потребует сейчас остановить машину, хлопнет дверью и уйдет в одиночестве прочь, обратно в сибирскую глушь лондонского пригорода. «Я, честно сказать, все эти подробности подзабыл, – проронил он, не отворачиваясь от окна. – А он, значит, помнит. Натренированная память. Это хорошо. Я рад за него. Сообразительный был мальчик, – усмехнулся отец, как будто вспомнив не более чем еще один курьез давних времен. – Я всякий раз думал: как же он выпутается? Но он всегда знал, у кого спросить дорогу. Всегда бил на жалость: его часто доводили до дому. Всегда знал слабые места человеческой натуры».
«Что же, по-вашему, одна надежда: на милость чужих людей?» – осмелела Лена.
«Вам это все трудно понять. – Он помедлил. – Это были другие времена. Невозможно объяснить, в каком мы страхе жили. Надежда, знаете ли, и оставалась только – на чужих, вот именно, людей. Друзья, свои, близкие, родственники – как раз первые и доносили друг на друга. Я боялся. Меня могли арестовать в любую минуту. – Говорил так, как будто учил ее арифметике. – Я должен был научить его жить самостоятельно. Малолетнего – куда его без меня? В детдом. Я готовил его к самому худшему. Чтобы убежать всегда мог – из детдома, из лагеря, тюрьмы. На свободу. А на свободе что самое важное? Ориентироваться на местности». Все страхи Лены насчет того, что он был оскорблен упоминанием эпизода с «произволом судьбы», пропали начисто, как и следы городской цивилизации в мелькании бесконечного пригорода за окном ее подержанной таратайки. «Зеленый тут район. Вообще, Лондон – зеленый, как я погляжу, город. Он помнит только, как я его на станции бросал. А наши туристские с ним вылазки? – с энтузиазмом развивал тему отец. – Лес там, правда, был не настоящий – дачная местность, но и там было много занимательного. Я его научил раскладывать костер: шалашом, например, или колодцем. Я ему показал, как добывать огонь с помощью увеличительного стекла. Теперь ведь такому детей не учат. Как, скажем, картофель печь на костре. В этой школе жизни было много увлекательного и поучительного. А он помнит только жестокости. Вы печеную картошку любите?»
Встречать их Алек не вышел. Квартира казалась вымершей. Отец делал вид, что не замечает отсутствия сына, озирался довольный, похвалил камин и ковер, пожелал принять с дороги ванну. Он шумно плескался и распевал про чибиса у дороги. Под этот веселый шум Лена пробралась в спальню. Алек лежал, выключив свет, с открытыми глазами. Ей казалось, что исповедь отца про школу страха разжалобит Алека и примирит с отцом. Не тут-то было. Он выслушал отчет Лены с улыбочкой, хмыканьем и подергиваньем. Вскочил, зашагал по комнате, кусая ногти, подбежал к двери в ванную, забарабанил, закричал надсадно: «Отец! Ты меня слышишь? Отец!» В ответ под ливневый грохот душевых струй донеслось про небо голубое и родной любимый край, где тропу любую выбирай. Наконец отец появился из ванной, распаренный, в Алековом махровом халате. Халат был ему слегка велик. В руках у него было полотенце. Он вытирал им лицо.
«Ну ты как? Нашелся наконец?» – спросил он Алека. Тот от наглости отцовской иронии онемел на мгновение. Но лишь на мгновение.
«Ты, я слышал, выдаешь себя за жертву сталинизма? Тобой двигал страх, да? Хочешь списать свой макаренковский зуд за счет преступлений режима? Но я тебе скажу: на вас, педагогических садистах, вся система и держалась: Павлов учил собак условному рефлексу, а вы на людей перешли, дарвинисты, с вашей идеей выживания в трудных условиях борьбы с идеологическими врагами. Твердость, выдержка, железная дисциплина. Почему ты хоть раз не признаешь правду, что вы сами и были маленькими Сталиными. А если бы меня благодаря этому самому „произволу судьбы“ поезд переехал? Или автобус?»
«Если ты все про эту дачную историю, то ничего там с тобой случиться не могло по сути, – пожал плечами отец. – Я за тобой из-за угла всегда следил: как ты справишься с заданием. Ты можешь сказать: и эта слежка была садизмом в сталинском духе. Я не стану оправдываться». Он запнулся. По лицу со лба текли струйки воды, и отец стал протирать глаза, как будто от плача, озираясь. «Ты, наверное, прав. Так и было: все искали врагов, внутренних и внешних. Не стану отрицать: нас приучали к стойкости, и мы вас приучали. Какая, действительно, разница, с какой целью? Тут средства были страшны, а не цели. Тут средства и были единственной целью. И я был энтузиастом этой логики. Ты прав».
«С каких пор ты стал со всем соглашаться? И это верно, и то. Что я тебе – генеральная линия, когда никогда неизвестно, что будет вчера? Зачем ты мне врешь? – Он вытягивал вперед руку по-ленински, входя в риторический раж. – Ваше поколение – поколение закоренелых лжецов, вы всегда врали, сознательно, бессознательно, и не только другим – себе, главное, самим себе. Правды, я хочу настоящей правды».
«Я и говорю тебе правду. И то, что я рассказывал Лене, было правдой. И то, что сказал тебе до этого, тоже правда. И то правда, и это. Не веришь? Настоящая правда и состоит в том, что я боялся».
«Но чего тебе исхитряться сейчас? Кого тебе бояться здесь, в Лондоне?»
«Как – кого? Тебя. Я тебя всегда боялся. И тогда и сейчас. – Он запахнул халат и съежился, встретившись глазами с Алеком. – Тебя все боялись. Ты был, знаешь, маленький такой, но настырный и вредный. Я тебя боялся как Павлика Морозова».
«Чего тебе было бояться? С партийным билетом, в своем закрытом институте на мелкой должности?» – облизнул Алек пересохшие вдруг губы.
«А ты случайно Катеньку не помнишь?»
«Катьку? Из третьего подъезда? Конечно, помню. Мы в детстве домами дружили, – ерзая на месте, пояснил он Лене. – Она меня всегда дразнила».
«Вот именно. А помнишь, что ты сказал про нее воспитательнице в детском саду, когда вы в очередной раз поцапались из-за игрушек или чего-то там еще?» Алек помнил песочницу и настурции в гипсовой вазе рядом с бюстом Сталина на детской площадке, и они швыряют друг другу песок в глаза, и вопли Катьки в коричневых приспущенных чулках и сандалиях на кнопках. И эти сандалики топчут его самолетик. Он помнил собственный визг, и больше он ничего не помнил. Алек не помнил, как он подбежал к воспитательнице и стал плаксиво жаловаться. Он не помнил слов жалобы. Жалобных слов. Какая Катя противная. И какой у нее противный отец. Он слышал, когда был у Кати в гостях, как ее папа плохо говорит о дедушке Ленине и об отце всех октябрят товарище Сталине. Катин папа назвал отца всех октябрят непонятным словом «вурдалак». Нет, Алек всего этого не помнит. И что отца Кати после этого арестовали. Алек об этом и не догадывался. И что грозили арестовать отца: мол, ваш сын указал нам на идеологические вылазки врага народа, вашего якобы друга, а вы отнекиваетесь. Алек всего этого не помнил. Не знал. Знать не хотел.
«Неужели не помнишь? Впрочем, чего в детстве не натворишь», – пробурчал отец, осторожно поглядывая на сына. Он сидел мокрый, нахохлившийся, подобрав, как будто стесняясь, босые ноги под стул, – старый, беспомощный, робкий. Но эта иллюзия беспомощности длилась лишь мгновение. Изначальный шок от только что услышанного прошел, и цепкий, подозрительный взгляд Алека уже вычитывал в отцовских скривившихся губах скрытую улыбку, а отцовские глаза, как казалось Алеку, щурились насмешливо, по-сталински. Чисто сталинская тактика: всех скурвить, ссучить, повязать – всех сделать виноватыми. Вот именно – мораль всех этих детских ужасиков сводится к одной фразе: «Сам хорош». На всех стихиях человек тиран, предатель или сволочь. От октябренка до седьмого колена. «Ты только меня с советской властью заодно не вини в этих своих детских подвигах», – добавил отец, как будто защищаясь от беспощадных глаз сына. Какая на редкость щедрая на чувство вины страна и ее история – особенно когда нужно подыскать одежку виноватого для кого-то другого, чтобы самому не было мучительно больно за невинно прожитые годы. Теперь они, значит, с отцом сравнялись? Оба, значит, хороши?
Но если они один другого не лучше, если все счеты кончены, то что же теребило душу все эти дни перед приездом отца? От какого бессловесного ужаса взмокали ладони? Значит, было что-то еще в их отношениях, кроме всех этих склок с вариациями на тему постылой легенды о Павлике Морозове? Эти советские счеты и склоки были сейчас для него, в Англии, не более чем возможностью поцапаться с отцом на общем для них языке. Советское чувство вины осталось за кордоном – единственное чувство, понятное им обоим. Общие слова остались там, за дырявым железным занавесом прошлого, и они стояли тут, как будто голые и беспомощные, друг перед другом, неспособные скрыть, затаить за нагромождением слов свою постылую связь до конца дней, до скончания века. Присутствие отца в доме сузило его, Алека, здешнюю жизнь до нулевой болевой точки в виске.
«Я прилечь хочу, – сказал отец, подымаясь с кресла. – Устал. Ты вообще, как я погляжу, слишком много на других обращаешь внимания, а думаешь, что решаешь свои душевные, понимаешь ли, проблемы. Ты лучше на себя со стороны посмотри. Делом займись. – И он с хрустом зевнул. – Лена твоя, гляди, совсем заскучала». Лена полулежала, откинув голову, блаженно растянувшись в кресле у дверей в спальню, задремав под их разговор с беспечной улыбкой на губах. В интонации, с которой отец произнес слово «заскучала», Алеку померещилось нечто похабное. Он же говорил ей переодеться во что-нибудь поприличнее, а не в эти драные джинсы, где все наружу и обтягивает.
Ночью полусонная Лена стала тереться щекой о его плечо, прижимаясь к нему под одеялом, а он осторожно отодвигался от нее к стене, не отвечая на ее поползновения, на ее ищущую ладонь. Потом замер, боясь шевельнуться. Из-за стены донеслось кряхтение и старческие вздохи отца, и Алек поймал себя на том, что вздыхает точно так же. И отец, наверное, слышит, как Алек вздыхает так же, как он. И пусть слышит. Пусть всё слышит. Лена промычала нечто невразумительно ласковое и издала первый легкий стон, раскрываясь навстречу каждому его ответному движению. Он знал, что этот начальный стон перейдет через мгновение в лепетанье, а потом, постепенно, в гортанный запев, подстегивающий к продолжению; и он, обычно следовавший этому настойчивому повтору молча, послушно и усердно, сжав зубы, сейчас стал вторить ей в унисон, как бы поощряя ее в этой разнузданности: пусть отец слышит. Наплевать ему на отцовский сощуренный скорбно взгляд, следящий, казалось, сквозь стену: как они сплелись в судороге бесстыдства в одно нагое дикое животное о двух спинах. Куда они скачут, подстегнутые ее пастушечьим понуканьем? В какое стадо она его загоняет – прочь от отцовского рода и племени, с его постылыми идеями о человеческом достоинстве, советской морали и родительском долге? Родительский долг! Она задрожала и откинулась на подушки. Он знал, что он уже не сможет высвободиться, не сможет расцепиться, что это – навсегда. Под это гортанное пастушечье понуканье она добивалась от него именно того, чего хотелось отцу и чего сам он страшился больше всего: он становился тем, кем был его отец, как и он, повязанный круговой порукой продолжения рода, – он становился отцом, отцом своего ребенка, который будет страшиться, жалеть и презирать его точно так же, как он страшится, жалеет и презирает своего отца, и, в судорожной попытке уйти от этой подлой зависимости, он сам попадет в ту же древнюю и вечную ловушку инстинкта – иллюзию свободы. Его снова бросило в жар, он вскочил с постели и подошел к окну; рывком поднял раму, как будто собираясь сорвать с окна душное и пыльное, как портьера, ночное небо.
«Господи, за что же ты так не любишь мою жизнь?» – звучала у него в ушах фраза, сказанная как будто не его голосом. Он подобных слов никогда до этого не произносил.
Лондон, 1990