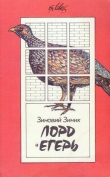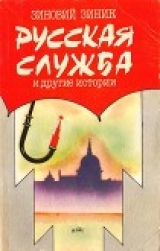
Текст книги "Русская служба и другие истории (Сборник)"
Автор книги: Зиновий Зиник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
«Я, лично, заядлая путешественница. Я три раза эмигрировала. За годы эмиграции где только не пришлось перебывать. В Синайской пустыне, помнится, нашли крышу над головой под каркасом брошенного в пустыне авто. Проснулись от крика верблюдов. Кругом бедуины кровожадно размахивают палашами: для них ржавый каркас автомобиля тот же престиж, оказывается, что для лондонских нуворишей – новенький „роллс-ройс“! Вы не через Израиль выехали? – Не найдя ответа в моем окаменевшем, как моисеевы скрижали, лице, она продолжала: – Я везде чувствую себя как дома. Я интернационалистка. В отличие от наших с вами англикан, я со всеми ощущаю какую-то мистическую родственность. Вы чувствуете мистическую связь с другими народами? Когда я загоревшая, после пляжа, в Англии меня принимают за пакистанку – это у меня от моих украинско-румынских кровей. Кстати, насчет Востока. В Марокко, после войны, мы, беженцы, строим православную церковь. Дерево в Марокко страшный раритет – так мы как детишки: кто картонную коробку приволочет, кто деревяшечку какую где притырит, а то и ящик из-под пива. Так вот: марокканские тамошние мальчуганы обращались ко мне прямо по-мароккански, принимали за свою. С моим восточноевропейским выговором мое „парле ву франсе“ звучало совершенно по-мароккански. Вы с Варварой фон Любек не у отца Блюма познакомились?»
Снова пауза. Но она не смутилась: «Я со всеми нахожу общий язык. Сошла с автобуса в Абуфейре, и тут же мне предложили комнату. Хозяин дома сказал, что я похожа на португалку – иначе он не предложил бы мне ренту. Я свободно изъясняюсь по-испански, так что португальские корни мне хорошо знакомы. Если бы не их идиосинкретический акцент с этими „ш“ да „ж“ – а еще говорят, что буква „ж“ эксклюзивна только для русского языка, ха! Но зато такое милое семейство, так у них все по-свойски. Прелестная комнатушка с видом на море. Другое окошко выходит, правда, в соседнюю кухню. Хозяева иногда засиживаются допоздна, бывает – заснуть невозможно. Но зато экономия электричества – не нужна настольная лампочка: лежи себе и читай в кровати, свет из окошка – как солнышко. Конечно, я вынуждена проходить через кухню. Но и тут свои достоинства: всегда можно прихватить что-нибудь – маслинку там или кусочек рыбки. Здесь чудесная рыба. Португальцы рыбный народ – вы любите рыбу? Мы с сыном всегда едем рыбу по сезону. В Лондоне дороговато, но тут, в Абуфейре, буквально копейки. Мне, правда, не разрешают пользоваться плитой, но на пляже очень обаятельный португалец жарит на углях океанскую кефаль – или сардину? (он иногда разрешает мне пожарить на его углях рыбку-две. В Абуфейре, вы знаете, все набережные заставлены столиками, и рыбаки, такие простые, обаятельные труженики моря, выхватывают сардину буквально из пучины волн и у вас прямо на глазах зажаривают. Дым коромыслом, все фотографируются. Непонятно, правда, зачем фотографироваться – чего особенно экзотичного в жареной сардине? Но, знаете, вдали от дома все самое ординарное кажется экстраординарным. Вы любите полакомиться жареной рыбкой? Если, конечно, экстраординарно? Мой сын, представьте, любит костлявую камбалу – такой у него бзик! Пока я в отлучке, нашел себе, наверное, такую костлявую оторву».
Последнюю фразу она сказала уже как бы и не мне. Вокруг нее, как будто заслышав про рыбу, стали кружить кошки: они тут же распознали в ней свою. Она протягивала им надкусанную ягоду инжира. Кошки бросались к ее руке, вытягивая шеи, но, принюхавшись, разочарованно отходили. Она тем временем постепенно вталкивала меня в дом, наступая на меня, как с ножом в руке, своим речитативом под кошачий аккомпанемент. Я отступал в кухню. Вступив на порог, она тут же указала пальцем поверх моего плеча на кухонную полку. Там красовалась португальская базарная продукция – раскрашенные керамические петухи.
«Гляжу и наглядеться не могу. Меня этот петух размалеванный переносит тут же в милые мне степи Украины или же леса Закарпатья. Летишь, знаете, как у Гоголя, струна звенит в тумане, а снова на землю глянешь: так это ж, батюшки мои, Португалия!» Она стала пересказывать легенду о том, как петух стал национальным символом Португалии: про святого странника, которого обвинили в воровстве и собирались сжечь на костре, но этот пилигрим обратился к Богу, и Бог превратил обглоданные кости на обеденной тарелке у судьи в живого кукарекающего петуха. Легенда лоснилась страницами замусоленного путеводителя.
«Это я про петухов в путеводителе прочла, – удивительная библия фактов, выпущенная весьма почтенной фирмой, где мой сын сотрудничает. У нас в заводе читать друг другу вслух, читать приходится главным образом мне – ну мать, ну что тут скажешь! Вы любите читать друг другу вслух? Мой сын сотрудничает транслятором в этой весьма почтенной переводческой фирме, переводит на разные языки неустанно. Но ужин и завтрак всегда в нашем распоряжении. Это скрашивает трудовые будни. Изливаем друг другу душу, болтаем, забыв про все на свете. Ведь это единственные часы, когда можно вдоволь наговориться. Говорю, правда, главным образом я, старая болтушка».
Я представил себе этого сына. Как он приходит домой и усаживается за стол на скрипящем стуле. Подтяжки, пятна пота под мышками. Знойный день на закате. Часы тикают. Телевизор работает вполсилы.
«А как насчет чего-нибудь пожевать? Я с этими автобусными пересадками совершенно зарапортовалась: ни крошки, ни граммамульчика во рту с самого утреца». (В ее речи неожиданно прорывались жаргонные словечки, подхваченные на пересадочных перронах, в вагонах и станционных буфетах ее трех эмиграций, в путанице стран, эпох и поколений.) Она смотрела на меня выжидающе своими расширенными, базедовыми глазами, отчего лицо ее казалось крошечным. Она была уверена, что я ей предложу поужинать. Только этого не хватало. Мы будем сидеть на закате знойного дня. Стулья будут поскрипывать. Тикать часы. Радио работать вполсилы. Она будет заполнять звенящую пустоту у меня в висках беспрерывной белибердой эмигрантских сплетен и прогнозов о будущем России.
Сквозь дверь холодильника, ставшую в этот момент для меня прозрачной, я видел кусок копченого мяса – я мечтал обжарить его с яичницей на ужин – с бутылкой терпкой и тяжелой риохи, не говоря уже о баночке маринованных осьминогов под рюмку медроньи (португальской разновидности граппы). Я облизнул губы. И тут же заметил, какие у нее обветрившиеся, приоткрытые в ожидании губы. Она с громким звуком проглотила слюну.
«Давайте я вам что-нибудь сварганю вкусненькое. Варшавские диссиденты, помню, хвалили мои ленивые вареники. У вас творогу не найдется?» – потянулась она к дверце холодильника, и дверца, как намагниченная, приоткрылась (старая развалина – старые вещи сентиментальны: их ничего не стоит растрогать – раскрыть настежь), но я бросился, как отечественный герой грудью на дуло пулемета, и захлопнул дверцу. Пробормотал невнятно насчет того, что я тут не готовлю, питаюсь в местных ресторанчиках, но сегодня был поздний ленч и вообще ужинать не собираюсь, так что не обессудьте и т. д. и т. п.
«Да вы не беспокойтесь, – неожиданно сказала она, хотя я пальцем не шевельнул. До нее, кажется, дошло. – Я забегу в соседнюю кафушку, я заметила тут неподалеку обаятельную стекляшку, – не присоединитесь? Аппетит, мон шер, приходит во время еды. Если передумаете, милости прошу в эту припляжную заведенцию», – сказала она с игривостью светской львицы и, кокетливо взмахнув сумочкой, загромыхала подошвами тяжелых мужских сандалий по каменным плитам к воротам. Ее тонкие голые ноги в этих сандалиях вызывали в памяти заросли крапивы у крепких колхозных заборов.
Как только звякнула щеколда чугунной калитки, я бросился к телефону, звонить хозяйке дома в Лондон. Варвара фон Любек припомнила Серафиму Бобрик-Донскую с трудом. По ее словам, они могли лишь однажды встретиться на благотворительном православном чаепитии в доме им. Пушкина. «Приживалка она, эта Серафима. И сын ее олух и за маменькину юбку цепляется. Ни чего я ей не обещала. Гоните ее взашей», – сказала старуха фон Любек и выматерилась напоследок с аристократической отточенностью. С наслаждением, как будто избавившись от ненавистного школьного экзамена, я выпил большой стаканчик жгучей медроньи. Я испытывал жуткий голод. Отрезал огромный ломоть сырокопченого мяса и стал рвать его зубами, нетерпеливо, заглатывая плохо прожеванные куски, боясь, что она вот-вот вернется. Впрочем, в свете телефонного разговора с фон Любек я отчасти даже ждал ее возвращения – конфронтации с этой бесцеремонной приживалкой. Когда я разоблачу ее вранье насчет ее отношений с фон Любек, будет повод сказать: извините, но в таком случае продолжать наш разговор (нашу встречу) я не вижу никакой возможности. Я представлял себе, как встаю, придерживаясь рукой за спинку стула, в надменном полупоклоне нависаю над столом и говорю: «Ввиду всего сказанного продолжение нашего разговора (нашей встречи) я считаю невозможным…» и еще что-нибудь короткое и вежливое, добивающее своей безликостью. «Ввиду всего сказанного…» В свете предстоящего избавления от докучливого незваного гостя в висках радостно загудело: от нарастающей убежденности в собственной правоте и предчувствия заново обретенной заслуженной свободы. Судя по всему, состояние депрессии проходило – как всегда из-за непонятного и полуслучайного сцепления малозначительных обстоятельств, незаметно восстанавливающих веру в себя и надежду на будущее. Я вышел на асфальтовую дорожку, ведущую к пляжу: пошпионить – чего моя подопечная делает в темноте?
Стеклянный куб модернового заведения на берегу светился изнутри неоновым светом, как бы ускоряя наступление темноты вокруг. Внутри было пусто. Скучающая за стойкой барменша сообщила мне, что заезжая дама вообще ничего не заказывала, а просто завернула в салфетку то, что, согласно странноватому ресторанному ритуалу в Португалии, выставляется заранее вместе со столовыми приборами: самооткрывающиеся баночки рыбных консервов, масло в пластиковой коробочке и суховатая булка – нечто вроде завтрака туриста или закусона при распитии на троих. Вообще говоря, и за эту ерунду надо было платить, но барменша по интуиции решила, что эта побродяжка моя гостья, и вписала нанесенный урон в бухгалтерию на мой счет. Российское скупердяйство в путешествиях: непременно за чужой счет, никогда не остановятся в гостиницах, непременно у друзей, у родственников, вплоть до полузнакомых забытых полузнакомых; и еда опять же, или припасенная, подтухшая заначка из дому, или полу-украденная, прикарманенная по случаю, задаром, на халяву.
Снаружи нарастал ветер, и небо с последним закатным отсветом стало заволакивать ночными тучами. Одинокий фонарь парапета перед кафе, отраженный гребешками волн, приглашал допрыгнуть, пока не поздно, по этой импровизированной световой лесенке до горизонта. Оттуда шли тучи; они останавливались, зацепившись за вершины гор, и двигались обратно, как будто раздумав эмигрировать. Рыбачий баркас, шхуна или фелюга – бог его знает как называлось это судно в километре от берега – было всего-навсего ржавым каркасом старой посудины, севшей на мель много лет назад. В ночном освещении этот скелет выглядел романтическим «Летучим голландцем». Я двигался по краю обрыва над пляжем, выискивая в сгущающихся сумерках свою незадачливую самозванку. Я уже злился на нее не только за то, что она нарушила мое похоронное бдение по самому себе, но и за то, что внушила мне беспокойство своим исчезновением. Наконец я заметил ее панамку на камнях в том самом тупике пляжа, куда океан выбрасывал с приливом мусор цивилизации. Серафима Бобрик-Донская, явно не замечая в темноте или же гордо игнорируя все эти банки кока-колы и рваные полиэтиленовые мешки (принимая их за местную флору?), уселась перед прибоем, засучив юбку и беспечно болтая своими сандалиями. Она грызла булку, придерживая одной рукой панамку: ветер нарастал.
Немного погодя она слезла с камней и, осторожно ступая, приблизилась к линии прибоя, как будто к звериной клетке; с совершенно нелепой при такой погоде и в такой час лирической грустью она стала отрывать кусочки хлеба и бросать их в океан. Кого она кормила? Чаек? Акул? Или тучи? Чем чаще она взмахивала рукой, кидая крошки, тем плотнее стягивались ночные облака, заволакивая чернильное небо. Она сняла туфли и уселась на гальку у самого прибоя. Я уже не различал в темноте ничего, кроме ее белой панамки. И тут ветер донес ее пение. Вначале мне померещилось, что голос этот доносится из кафе или в одной из вилл на берегу запустили старую, надтреснутую пластинку. Жесткое «р», наличие «х» и «ы» и шипящих звуков создают иногда иллюзию фонетического сходства русского и португальского. Но кроме фонетики, я стал различать и слова. Слова были русские. «А годы летят, наши годы, как черные птицы, летят», – вытягивала она с подвывом, подражая Клавдии Шульженко – нашей Вере Лин. Я сам, в светских разговорах, любил иногда повторить свою парадоксальную на первый взгляд сентенцию насчет того, что нам, эмигрантам, надо свыкнуться с идеей отсутствия единого прошлого и понять, что прошлых много. Однако ее ностальгические экскурсы в эмигрантский фольклор от Сибири до Марокко раздражали меня своей несвязностью друг с другом, хотя сама она при этом не чувствовала никакого раздвоения личности. «А годы летят, наши годы, как черные птицы, летят». Наступила пауза. Она запнулась. То ли дыхания не хватило, то ли она забыла слова, то ли слова эти были унесены прочь порывом ветра. «И некогда им оглянуться назад». Это «назаа-а-ад» прозвучало натянуто, надтреснуто и хрипло. Я был уверен, что слышу уже не пение, а сдавленный плач, почти стон.
Я вернулся обратно на виллу и стал зажигать свет. В лабиринте комнат, годами прилеплявшихся друг к другу, как в детских выклейках самодельных картонных домиков, ниши, углы и порталы попадались на каждом шагу в хаотическом нагромождении, как будто отраженные расколотым зеркалом. В каждой нише, в каждом уголке и закутке непременно была лампа. Торшеры, ночники, электрические канделябры, плафоны и просто электрические лампочки без абажура высвечивали анфилады комнат с изобретательностью театральной подсветки. Воспринимала ли хозяйка этой виллы жизнь как таинственные театральные подмостки или же просто до смерти боялась темноты, но дом под крышей начинал по вечерам светиться, как один большой абажур. Моя гостья явилась, как мотылек на свет.
«Зря вы, молодой человек, не присоединились к моей разгульной жизни. Такие романтичные эти чудесные португальцы! Пели под гитару чудесные романсы, фаду – очень напоминает нашу цыганщину. Подали мне чудесное рыбное ассорти, с ракушками, мидиями и всякой мясной всячиной. Потом я сидела на океанском берегу – восхищалась лунным пейзажем. Такие дивные рефлексы на воде!»
«Рефлексы?»
«Ну эти, знаете, лунные зеркальные отображения. Дивные рефлексы!»
Меня передернуло. Луну приплела ради фальшивой романтики – я собственными глазами видел: не было никакой. луны – небо сплошь в тучах. Эта эмигрантская манера врать и всем восхищаться. Чтобы оправдать, так сказать, расходы на поездку: уж если мы столько сил угробили, чтобы сюда попасть, все тут должно быть идеально или таковым, по крайней мере, выглядеть. В этом, видимо, и заключается логика оптимистов вообще: в скрытом страхе, что жизненные усилия не оправдаются. И завтрак на траве обернется сухой булкой с сырком на голых камнях в темноте.
«Я, знаете, лягушка-путешественница, но мне, личноперсонально, экзотика ни к чему. Я сама по себе экзотика. У меня в груди, – и она положила маленькую, сжатую в кулачок руку себе на грудь жестом испанских коммунаров, – у меня в груди – африканские джунгли. Когда финансы поджимают, можно и в Лондоне у себя под перьями открыть свою Португалию. Главное, тренировать воображение. Возьму бутербродик с мармайтом – вы любите мармайт? Мы с сыном обожаем английский мармайт, солененький такой, – и на пароходике вниз по Темзе к Гринвичу. Мы весело порой проводим вместе ленч. Усядемся под кустом с видом на клипер „Катти Сарк“ – вот тебе и тропические джунгли. Дайте мне бутербродик с мармайтом, хороший романчик под кустом в Гринвиче, и Португалия совершенно ни к чему! Я три раза эмигрировала. И я вам скажу: зануды и нытики никому не нужны. Я всегда стараюсь замечать в жизни только хорошее. Вы знаете, боль не запоминается. Обиды тоже. Так, по крайней мере, у меня черепушка устроена. Мне в этом смысле страшно повезло. Я вообще везучий человечек. Я за самовнушение. Что подумаешь, то и почувствуешь. Я всегда себе говорю: все хорошо, нечего мандражировать и разводить мерехлюндию. Надо зажигать людей своим собственным примером, а не хандрить. И тоска, знаете, проходит. И верится, и плачется, и так легко, легко… как сказал поэт в минуту жизни трудную. Я танцевать хочу, как поет Элиза Дулитл в известном мюзикле. Вы увлекаетесь сценическим искусством?»
С точки зрения сценического искусства, самый подходящий момент ее разоблачить. Или сейчас, или никогда:
«Звонила Варвара. Фон Любек, я имею в виду. Хозяйка этого дома, – начал я, откашливаясь и запинаясь. Придерживаясь рукой за спинку стула, я продолжал с напускной небрежностью, полуотвернувшись, надменно глядя сквозь нее на раскрашенных петухов: – Варвара фон Любек, между прочим, ничего не слышала о ваших намерениях насчет аренды этой виллы. Варвара фон Любек вообще вас плохо помнит». Я вдохнул поглубже. Теперь надо сказать: «Ввиду всего вышесказанного…»
«Да не было у меня никаких намерений, – сказала моя гостья с неожиданной хрипотцой в голосе, совершенно не смутившись. Лицо ее осунулось и заострилось. – Пока я не увидела этот дом, у меня и не было никаких намерений. Мне просто захотелось увидеть знакомое лицо – вот и потащилась сюда из Абуфейры. А насчет аренды – эта идея мне потом пришла в голову. Мой опыт эмиграции учит откладывать все до самой последней минуты. Главное в нашей жизни не строить никаких планов и ни на что не надеяться, чтобы потом не было разочарований. Впрочем, моя память вытесняет все дурное. Наверное, потому что боль и неприятности так трудно выдержать сердцу. По крайней мере, моему сердечку. Оно у меня маленькое и часто, знаете, бьется так, бьется. Пульпитации. Вы не жалуетесь на пульпитации?»
Эти чеховские пульпитации совершенно доконали меня своей бесцеремонной сентиментальностью. Это был эмоциональный шантаж. Долго еще суждено нам, российским людям, выдавливать из себя по капле Чехова. «Знаете, мое сердечко екает от шума прибоя. Шум прибоя, запах травы, белизна кучевых облаков – это все в каждой стране разное, но одновременно и неизменное: напоминает прибой, траву и облака твоей родины. Я совершенно хмелею от ностальгии, когда слышу шум прибоя, а потом поглядела на часы – боже, так ведь все автобусы давно перестали ходить! Вот вам и расчеты на будущее…»
Я знал, что этим кончится. Она якобы не подозревала, что автобусы кончают ходить в Португалии в такую рань: ведь испанская культура – культура сиесты и ночных карнавалов. Днем спят, а по ночам ездят на автобусах с карнавала на вернисаж. Впрочем, в такой гигантской гасиенде («Бунгало. Не гасиенда, а бунгало», – поправил ее я) непременно найдется для нее закуток, уголок, асилиум? На одну только ночь? Она три раза эмигрировала и привыкла к самому минимуму бытовых удобств. Она может прикорнуть на диванчике вон в том углу или же прямо на циновках. Вспомним вагоны беженцев из оккупированного Парижа в Маракеш под граммофонную пластинку из «Касабланки». А до этого, с интернированным мужем на шарашке – уборщицей: веник, бывало, под голову, и на учрежденческий шкаф на боковую. Она может чудесно прикрыться «шотландским пледом или вот старым пальтишком». Она спит, как мышка. Ей нужно, как Сталину («Это шутка», – хихикнула она), всего несколько часов сна, с рассветом и следа ее не будет. Она жалостливо глядела на меня своими стертыми пуговицами глаз.
Я оставил ее один на один с холодильником допивать чай без меня – мое сопротивление было окончательно сломлено. Она пила чай по-деревенски, из блюдца, по-старушечьи сгорбив спину, и дула на него, как будто отгоняя нечисть, скопившуюся по краям блюдца. Я слышал, как она проклацала в своих кожаных сандалиях в одну из комнатушек. «Посижу у себя в закутке, полистаю словарик, подучу новые словечки по-португальски. С моим знанием испанского, португальский – как украинский для русских. Новый язык в будущем никак не помешает». Если она и вела себя по ночам, как мышка, то явно как мышка неугомонная. Я ворочался, вслушиваясь в непрерывное шебуршение, перестуки и перезвон в другом конце дома. Она, судя по всему, стала мыть посуду в кухне, пытаясь услужить мне, или же принялась перебирать вещи в своем саквояже, раскидывая предметы по полу, или же решила убрать дом, с грохотом передвигая мебель, а может быть, просто бродила по комнатам ради любопытства, полагая, что я крепко сплю.
Заснуть я в действительности толком не мог. Ворочался. В полубреду полудремы я оказался между двух зон, неясно где пролегающих – внутри меня или вовне.
Надо было застыть, не шелохнувшись, чтобы не дрогнул ни единый мускул, ни единый волосок не шевельнулся: иначе соскользнешь в другую зону, там, где все кишмя кишело, где все дергалось и прыгало, толкалось и царапалось. Я не был уверен, что это было такое, но знал точно: стоит чуть ошибиться, позволить себе малейший ложный шаг – и состояние вечного покоя нарушено, тут же скатишься туда, вовне и вниз, и уже не вырваться из этой непрекращающейся схватки, стычки, конфликта, утомительного до головной боли своим бесконечным балетным повтором. Я сжался, чтобы не соскользнуть в этот нагой и трепещущий хаос. Он стал скукоживаться у меня на глазах и ограничился наконец моим животом. Нельзя было ни на секунду расслабить мускулы вокруг пупка. Там, внутри, билось, царапалось, молотило кулаками и дрыгало всеми членами нечто, носившее имя Серафимы Бобрик-Донской. Она пыталась вырваться наружу: освободиться от меня, от моей оболочки.
Когда я окончательно выбрался из этой полудремы-полубреда, до меня дошло, что я мучаюсь страшными резями в животе. Я, видимо, отравился; или нет, скорее всего, сказывалась та жадная поспешность, с какой я уничтожал сырокопченый окорок, заглатывал его непрожеванным, пока моя незваная гостья разгуливала по пляжу. Боль была тошнотворная, дергающая, как за ниточки, изнутри. Я заскулил, сжав зубы и забиваясь в подушку от корч и колик. И тут же как будто эхом донеслось с другого конца дома полупение-полузавывание моей полуночницы. Так, по крайней мере, казалось мне, когда я двинулся из своей спальни в залу: так напевают про себя сумасшедшие – с атональными завихрениями и бессмысленными интонационными скачками, без начала и конца, тихонечко и осторожно, как будто выстраивая сложную и прекрасную, как им самим кажется, мелодию. Неожиданно на лицо мое неведомо откуда, сверху, брызнула струйка воды, как будто некто вверху испражнялся, встав на крышу, а может быть – пытался привести меня в чувство.
И сразу же выяснился источник этих маниакальных звуков и мелодий, шуршания, шебуршения и перестука. Гигантский приземистый дом раскачивало шквалами ветра. Сквозняк разгуливал по бесконечным нишам, коридорчикам и закоулкам дома, присвистывая и подвывая, как будто пытался успокоить больной зуб хождением взад-вперед. В неожиданном жесте беспричинного раздражения сквозняком опрокинуло неустойчивый самодельный торшер, и вместе со вспышкой лопнувшего плафона за оконными стеклами сверкнула молния. Посреди залы стояла Серафима. Из-под рукавов дешевенького ночного халатика торчали ее голые локти с дрябловатой кожей, ее косички-баранки были распущены перед сном; из-за лысеющей макушки эти патлы вокруг головы делали ее похожей на взбалмошного университетского профессора. Задребезжало от грома оконное стекло, где высветились согнувшиеся под ветром фиги, осыпавшиеся градинами плодов, и эхом оконному дребезжанию заструилась апрельской капелью из-под крыши еще одна струйка воды. Ей отозвалась журчащая трель из соседнего угла.
Приземистый и крепкий дом – воплощение слегка эксцентричного и несколько нелепого, но все же уюта, некой доверительной в своем архитектурном наплевательстве уверенности в благожелательном отношении к нему со стороны сил природы – как будто приветственно приподнял шляпу перед угрюмыми небесами, впуская непогоду. Крыша этого дома оказалась вся в дырах, как старая панамка. Серафима Бобрик стояла посреди залы, со светящейся соцреалистической улыбкой на лице, вытянув руки вверх, к струям дождя, похожая на героиню сталинского фильма про весну социализма. Я подумал, что она окончательно рехнулась от грома, молнии и всеобщего ужаса земного существования. Я бросился на кухню за кувшинами, тазами – любой посудиной и тряпками, чтобы остановить наводнение. Моя незваная гостья тем временем засучила в буквальном смысле рукава и принялась за работу. Она сворачивала ковры и отодвигала диваны с креслами, выжимала намокшие тряпки и выливала беспрестанно наполняющиеся тазы и ведра. Лицо ее вдохновенно сияло. Теперь я понимал почему: наступил час испытаний, когда ясно, что одному мне не справиться. С каждым мгновением она обретала все большую уверенность в себе. Она, в отличие от меня, знала, что делать. С ведром и тряпкой в руках, она распоряжалась. У меня застыла в памяти ее спина: она стояла на коленях и вытирала гигантскую дождевую лужу на полу, выжимая тряпку над ведром. Вверх и вниз ходили ее локти, взмокшие патлы волос прилипли к затылку, а по голой шее текла струйка пота. Поднявшись в очередной раз, чтобы опустошить переполненное ведро, она оглядела меня с победным блеском собственной правоты в глазах: она продемонстрировала, что ее появление в доме оказалось не напрасным.
«Дождю конца не видно – а значит, и ее пребыванию здесь. Не выгонять же ее завтра с утра в такую погоду на улицу?» – с тоской подумал я, вслушиваясь в шум ливня и в астматический присвист ее одышки.
Она как будто угадала эту потайную мысль, написанную у меня на лице, и охнула, как от объяснения в любви – схватившись за сердце. Коленки у нее подкосились, она стала оседать, склоняясь вбок. Я подхватил ее за талию и, как в нелепом бальном танце (до этого я боялся к ней прикоснуться), повел ее к кушетке. Она вздрагивала и жмурилась от грозовых вспышек за окном, нагло фотографирующих нас, обнявшихся, как тайные любовники, среди разрухи и разора недавнего домашнего уюта, среди луж на полу, где пленка воды покрывалась рябью сквозняка. Стены как будто исчезли: мы находились среди театральных декораций атлантического пляжа. Но на этот раз ей явно было не до дешевого актерства: лицо ее вдруг стало покрываться мучной пылью, белея с носа; сквозь приоткрытые сморщившиеся губы прорывался астматический свист. Гримаса улыбки не сходила с губ, как будто ей было мучительно трудно сменить выражение лица. У нее явно был сердечный приступ, предынфарктное состояние или что-то в этом роде, явно что-то с сердцем, а что может быть с сердцем, как не предынфарктное состояние? Я запаниковал, бросился к телефону, но от телефона было мало толку в такой час и в такую погоду, в таком городишке, где чеховскому доктору только и остается, что хлестать медронью, зажевывая ее сырокопченым окороком.
Чтобы добраться от нашей виллы на берегу до центра с медпунктом, надо было пересечь небольшую долину, овраг. По бокам каменистой дороги росли коренастые оливы, плывущие серебристыми купами с библейским верблюжьим спокойствием в вихре и путанице дождя, грозовых всполохов и редких фонарей. Их свет качался наверху, как поплавок, в потоках воды, и еще всю дорогу в окружающей мгле мерцали угольками загадочные огоньки: лишь заслышав случайный полувзвизг-полумяуканье у заборов, я догадался, что это глаза бродячих кошек под навесами сараев следили за моим продвижением, как конвой, готовый поднять тревогу при малейшем проявлении моей моральной нестойкости или попытке уклониться от намеченной цели. Хотя дорога почти сразу шла в гору, я поначалу не чувствовал своей ноши: в моих руках она, казалось, весила легче своего халатика в мелкий цветочек. Я пытался вспомнить какой-нибудь местный эквивалент слову «валидол» (валокордин? валиум?), но она мешала мне сосредоточиться, продолжая свой вдовий астматический щебет, как будто пытаясь заглушить то ли стиральную машину небес, то ли свое собственное сердечное замешательство:
«Я снимаю комнатушку на горе. Обратно тяжеловато с моей астмой взбираться. Но зато по утрам такое наслаждение сбежать с горы подземными ходами к морю. Вы знаете, там такие каверны знаменитые, туннели – горными потоками прорытые. Весенними ручьями. Потоки все пересохли, но проходы остались. Благодаря этим подземным кавернам можно в обнаженном виде по утрам мигом оказаться в бухте. Здесь нудизм не воспрещен законом, вы знаете?» Я представил ее сбегающей к морю в голом виде. Пучки волос на голове развеваются. Плоть колышется. «Но я позволяю себе эту экстравагантность, потому что на этот раз у меня вакансия без сына». Она закусила губу и прерывисто задышала. Вдруг, вцепившись судорожно в мою руку, она зашептала, нарушив все барьеры интимности между нами: «Ну каков подлец, а? Мать бросить на дороге, вообразите?» Я не понимал, к кому она обращается. Судя по всему, ни к кому. Но все, что она говорила, я тут же с испуга принял на свой счет.
Она вдруг стала страшно тяжелой. Левое плечо у меня заныло, и мне пришлось остановиться под очередной оливой, чтобы перехватить ее, как неудобный чемодан, в другую руку. Тут, в свете фонаря, я и заметил, как на ее груди сквозь халат стало проступать и расползаться багровое пятно крови. Или это был лишь странный отсвет фонаря? В панике я опустился на колени, стал расстегивать халат, соображал, откуда оторвать клок ночной рубашки взамен бинта для перевязки… и наткнулся на твердый комок у нагрудного кармашка. Она смотрела мимо меня; пуговицы ее глаз сдвинулись косо, как будто пришитые в неправильном месте. В кармашке халата оказалась перезрелая фига: случайно раздавленная мясистая багровая плоть плода расползлась в кровавую слизь. Я вдруг понял смысл выражения: фига в кармане.
«Так и сказал: ты мне, мать, осточертела. Я тебя бросаю на произвол судьбы. Найди себе кого-нибудь еще третировать – со своими тремя эмиграциями! Бросил меня с сумочкой у выхода из аэропорта, деньги все крупные отобрал, оставил сугубый минимум, обратный билет через две недели. В чужой стране. Опять я, получается, экс-патриотка? В кармане сплошные медяки, – забормотала она плаксиво. – У меня пульпитации. Я совершенно одна, я совершенно никому на свете не нужна. Куда же мне теперь брести? Опять три раза эмигрировать? Когда я, в свое время резидент тоталитарного режима, мечтала о побеге к свободе, я представляла себе такой необычный, ни на что не похожий мир света и экстаза. Мне так хотелось, чтобы все в моей жизни было необычно – даже смерть. Я бежала от общей – как и все при коммунизме? – могилы, да. Но сейчас, с вами, мне даже как-то сладко от этой мысли – меня осенило: а ведь можно начать жизнь сначала, без всяких там мерехлюндий? У меня теперь масса свободного времени, я совершенно теперь независимое существо. Я, к примеру, могу устроиться поваром, я, знаете, большая кулинарка. Могу готовить чудесный гуляш, один из моих супругов был бывший венгр, вы знаете? Был гулаг, стал гуляш». Гримаса исказила ее лицо, и непонятно было, кривая ли это улыбка иронии, судорога плача или острая боль в сердце. Я предложил ей немного помолчать – себя пожалеть. Но она не затихала: «Как же так: я говорю на языках чуть ли не всех людей на свете, а под конец жизни не оказалось рядом ни одного близкого человека?»