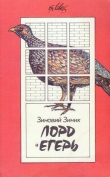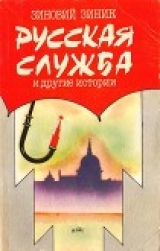
Текст книги "Русская служба и другие истории (Сборник)"
Автор книги: Зиновий Зиник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Без обиняков приступлю к апологии – не защите! Меа culpa. Апология моя – ad absurdum: в моей лживости, порочности и сугубой необузданности моих страстей. Поверите ли? Изменяю своей верной подруге жизни, своему боевому товарищу на идеологическом фронте, санитарке своей в нашем общем эмигрантском окопе – короче, своей супруге Софье Константиновне. Люблю Софочку всей душой, умом и гражданской совестью. Но сердце мое, голубчик, пустилось наперегонки с моей сединой. И бес под ребром погнал меня в эту африканскую курортную республику, где мы с Вами так неудачно пересеклись.
Короче, американская девица, которую Вы, несомненно, заметили рядом со мной в то роковое наше столкновение, и есть причина моего непростительного игнорирования Вашего присутствия. Я сдрейфил: с Вашим знанием английского между Вами и ею непременно завяжется светская болтовня; Вы, ничего не подозревая, брякнете американке про мою супругу; выяснится, что я женат, и моему недолговечному любовному счастью конец? Мы с ней познакомились на конференции по правам человека, она меня, как говорится, за муки полюбила, я, голубчик, кое-какие страсти присочинил. Унизительно, голубчик, входить сейчас в разные детали, но суть сводится к тому, что я перепугался: если пойдет между вами разговор, моей легенде в ее глазах конец. Как ребенок, голубчик мой, пустился я в этот нелепейший спектакль: как только увидел Вас за столиком, стал делать вид, что я, мол, не я и американка вовсе не моя, никого не вижу, в упор не замечаю, моя хата с краю, я ничего не знаю. Позор, одно слово, позор!
Иначе как помрачением ума этот сексуальный мандраж в моем преклонном возрасте объяснить не могу. Если же Вы все еще питаете ко мне, душа моя, какие-либо мстительные чувства, то могу утешить Вас сообщением, что никто на свете не остается безнаказанным. После инцидента с Вами на курортном пятачке я серьезно повздорил со своей юной американской подругой (она настаивала на кофе с мороженым, мне же в моем возрасте необходимо трехразовое питание). Хлопнула дверью и ушла восвояси, не сказав даже до свиданья. Спуталась, наверное, с каким-нибудь молодым наглецом. И даже не „наверное“, а с достоверностью знаю, что таки спуталась, поскольку я отыскал отель, где она в ту ночь останавливалась („Нептун“, на берегу, если помните), и тамошний портье мне подтвердил, что ночь она провела отнюдь не в одиночестве, потаскуха! Что ж, mea culpa. Вечно Ваш Мих. Серг. Грец».
Лондон, 1987
Крикет
1
«Чтобы понять крикет, вы, милейший, должны отвлечься от идеи, что очки зарабатывает тот, кто бьет по воротам. В крикете очки засчитываются тому, кто, наоборот, отбивает мяч. Очки засчитываются по числу пробежек батсмена с битой-лаптой, пока отбитый мяч в воздухе – не приземлился, не заземлен, пока отбитый мяч не перехвачен другой командой, понятно?» До меня все еще не доходили элементарные правила игры в крикет, но я уже ухватывал дух этой прекрасной в своей абсурдности логики: впечатление запутанности – от ее простоты. Сложное – понятней. Нет ничего проще чужой сложности. Сложную чуждость легче принять – хотя бы из уважения. Далекое – ближе. Чем дальше отбить мяч битой, тем больше возможностей для маневров. Очки идут тому, кто защищается, а не нападает. Тому, кто убегает, а не преследует. Побеждает тот, у кого больше возможностей отступать. Неужели не ясно?
Противник с разбега швырял мяч в сторону верзилы с уплощенной дубиной в руках – тот казался гигантом из-за смехотворно маленьких ворот у него за спиной. Я уже разбирался в массе деталей, но полного приятия идеи крикета, окончательного осознания игры не приходило. Я как будто перечитывал в который раз одну и ту же до смешного простую фразу на иностранном языке, но никак не мог связать воедино слова в ускользающей непредсказуемости синтаксиса. Я продолжал в состоянии остолбенения вглядываться в зеленый, как зависть, травяной покров, в голубые небеса и в девственно белые, до сумасшествия, одежды игроков. Столь же магическим было движение игроков по лужайке. Поскольку мяч был едва различим во время игры, казалось, что они вовлечены в некую загадочную конспирацию, занимаются по секрету неким коллективным действием, не проявляющимся ни в какой видимой форме, не имеющим видимой цели и смысла. Казалось, они занимаются ловлей человека-невидимки.
Мой гид по крикетным эмпиреям, шестидесятилетний Артур Саймонс, младший сотрудник редакции еженедельника The Browser, иронично глядел на меня прозрачными голубыми глазами, где перемешалась летняя голубизна с облаками. Глаза увлажнялись с каждым глотком алкоголя. Чем больше он употреблял напитка под названием Pimm’s, тем гуще перемешивались облака с голубизной в его глазах. Объяснить по-русски, что такое Pimm’s, так же сложно, как и понять крикет. В принципе, это английский вариант кампари. Если вы знаете, что такое кампари. Кампари – это такая горьковатая настойка, ее пьют с содовой или с апельсиновым соком, скажем, разбавляя на две трети. В отличие от кампари, Pimm’s скорее сладковат, нежели горьковат. Кроме того, цвет не гранатовый, как у кампари, а скорее бурый, компотный. Компотный, вот именно: туда, в Pimm’s, англичане кладут все что в голову взбредет: можно лимон, а можно огурец. Огурец, а что, а почему бы нет? Я не уверен, но, насколько мне известно, самые крупные любители этого напитка кладут туда даже редиску. С сельдереем. Короче, это вроде английского варианта русской окрошки на квасе, а вовсе не английский вариант итальянского кампари.
Впрочем, все эти мои объяснения, как всякий неудачный перевод непереводимой детали (гипнотизирующей именно своей непереводимостью, своим существованием лишь в английском языке), создают неправильное впечатление (на бумаге) от того солнечного июньского полдня, когда мы сидели с Артуром в белых креслах на краю зеленой крикетной лужайки и он вновь и вновь пытался объяснить мне правила игры в крикет. В его глазах, соперничающих по голубизне с небом, мог затеряться отбитый ввысь крикетный мяч, но мысль в них читалась та, что отступать дальше некуда и места для маневров не осталось. Он, жертва цветочной пыльцы, дышал прерывисто и шмыгал носом, прикладываясь из-за насморка, сенной лихорадки, к платку после каждого глотка из стакана. Он находился в том состоянии, когда со стороны кажется, что человек при смерти: астматическая одышка, покрасневшие веки, и кончик языка, постоянно по-змеиному облизывающий пересохшие губы, – все это придавало его облику нечто потустороннее, превращало его в парию мира здешнего. Рядом с ним даже я, советский эмигрант с фиговым листком в виде британского паспорта, гляделся вполне сносно, чуть ли не как завсегдатай этого крикетного сборища. Кроме того, я чувствовал себя как будто на премьере собственного спектакля, поскольку в последнем номере еженедельника я выступал в качестве автора – «его автора». Я был литературным открытием Артура Саймонса, что верно лишь отчасти, поскольку сам он разыскал меня через Times Literary Supplement (лит. приложение к «Таймс»), где меня уже до него использовали по тому же, в сущности, назначению: как только на лондонской сцене возникало нечто экзотически заморское, некий культурологический урод для ярмарочного балагана (скажем, израильская постановка о венском еврее-антисемите и женоненавистнике-самоубийце Отто Вайнингере, авторе книги «Пол и характер», где главная идея: еврейство – это женственность человечества, а женщин он терпеть не мог), в строй рецензентов призывался я со своим российским прошлым и двойным, британо-израильским гражданством.
Так или иначе, со мной тут обращались как с примадонной, по всей изысканной экзотичности сравнимой разве что с самим предметом моих литературных экзерсисов. Приглашение на этот ежегодный крикетный матч (редакция The Browser против команды издателей) было само по себе честью (присутствовали все пижоны литературного мира), а тут еще и бесконечное кружение вокруг меня, и каждый готов был с благожелательной улыбкой выслушивать мои каламбуры по-английски в духе Вайнингера про Россию (женского рода) в состоянии ложной беременности свободой, предменструальной депрессии из-за неминуемой эмиграции евреев и неизбежного литературного климакса. С каждый мгновением я все уверенней чувствовал себя полноправной частью общей картины, крикетной команды, с пониманием кивая головой, когда Артур, интимно склонив голову в мою сторону, остроумно обыгрывал, скажем, тот факт, что батсменом на «нашей» стороне выступал драматург Гарольд Пинтер, гений пауз в диалоге, как бы давая мне понять, что пауза в диалоге и есть ключевая метафора крикета.
«Со стороны, – продолжал Артур, не отрывая слезящегося взгляда от лужайки, – видимость легкости, неуловимости и изящества. На самом деле, когда ты на площадке лицом к лицу с противником, начинают дрожать коленки. Крикетный мяч – страшное оружие. На вид – маленький шарик. На ощупь он тяжел и тверд. Свистит, как пушечное ядро. Тебе кажется: тебе сейчас размозжат череп на глазах у всех. И уже ничто не поможет. Все стоят и ждут, как тебя будут калечить. Жутко, милейший, жутко». Я видел, как его желтые пальцы сжали ручку кресла. Артур Саймонс нравился мне еще и тем, что был одним из немногих англичан, кто общался со мной без той приблатненности, с какой британский интеллектуал обращается с русским варваром, как бы подстраиваясь под его варварский взгляд, – занижая и тон и речь беседы, клевеща, так сказать, на собственную страну, ради продолжения разговора с любопытным, но безграмотным чужаком. Поэтому когда Артур говорил о скрытой английской агрессивности под маской отстраненной доброжелательности, я ему верил: он говорил со мной на равных – как бы сам с собой в моем присутствии. Я чувствовал себя равным в кругу избранных. В этот момент на другом конце лужайки и появилась Джоан.
Я совершенно не ожидал, что она объявится здесь. Точнее, она явно не ожидала, что застанет меня на этом сборище, и ее удивление при виде меня передалось мне как ощущение моей собственной неуместности. Меня здесь не предполагалось, с ее точки зрения, которая тут же стала моей точкой зрения на себя самого. Так происходило с самого начала нашего знакомства. Она была моей первой истинной лондонкой в том смысле, что входила в те круги, где не бывает людей вроде меня: русского еврея, попавшего в Лондон из Москвы через Иерусалим. Перевирая Граучо Маркса, я не мог не относиться без тайного трепета к кругам, где меня не принимали за своего: если меня там не принимают за своего, значит, там что-то есть (а именно то, за что меня туда не принимали). Короче: хорошо там, где нас нет. Значит ли это, что хуже всего там, где мы есть?
С нее следует отсчитывать тот период моей лондонской жизни, когда я вообразил, что уже принадлежу иной жизни, что я уже не чужак-уродец, не мальчик с улицы, вжавшийся носом в стекло чужого окна, где идет праздник. Чужак – всегда по ту сторону стекла: глядит снаружи, расплющив нос; поэтому чужак всегда уродец-монстр. Мне мерещилось в те дни, что я оторвался от российского прошлого, не найдя еще, правда, словаря для нового быта моей души. Мне казалось, что я, по крайней мере, уже перестал переводить новую для себя жизнь на прежний язык. Перестал переводить, следовательно – перестал эту жизнь в уме пародировать. Мне казалось, что я мыслю на английском, но продолжаю изъясняться (как сейчас) на русском. Но не иллюзия ли подобное раздвоение – на мысль и слово? Возможно ли изъясняться на «английском» русском? Не испаряются ли все английские открытия как симпатические чернила в тот момент, как только перестал говорить на английском? Возможно ли перевести на родной язык то, что завораживает именно потому, что кажется непереводимым на иной язык? Может ли стать родным – не свое? Как можно принять чуждость, если чуждость и есть то, чего невозможно принять?
Джоан продвигалась по дальнему краю лужайки, различимая за три версты демонстративной нелепостью своих одеяний. Зонтик был, пожалуй, единственной деталью, украденной из классического антуража дамы на крикетном матче. Однако зонтик этот был черный. Не был ли этот зонтик обыкновенным дождевым зонтиком? То есть, наверное, шикарный зонтик, с костяной ручкой, шелковый и ажурный, но все же – дождевой и, главное, черный. Она вообще была во всем черном – как и полагалось в те годы среди тех, кто был в узком кругу тех, кто не считал того, кто не принадлежит к их узкому кругу, за истинного лондонца вообще. Черная юбка волочилась по траве, как бальное платье с треном, но черный пиджак был мужского покроя, с подбитыми плечами, нараспашку. Если добавить ко всему этому шляпку-котелок тридцатых годов с рыжей челкой на лоб, впечатление создавалось незабываемое. Довольно чудаковатое, нужно сказать. Она, как всегда, была выряжена настолько не так, как полагается, что можно было подумать: именно так сейчас и полагается одеваться. В тот период у меня на этот счет не было никаких сомнений: она была образцом английского совершенства и безупречности.
Сейчас, когда я вспоминаю, с какой вызывающей эксцентричностью она продефилировала через всю лужайку в своем нелепом наряде, в душу закрадывается сомнение: а не выглядела ли она в глазах всей остальной публики как попавшая не по адресу, слегка трекнутая побродяжка? Не было ли то, что я воспринимал как шик и чудачество, просто-напросто легкой задвинутостью? Такое впечатление, что она подцепляла свои одеяния из кучи тряпья на мусорной свалке. С принципиальной неразборчивостью тут соединялись старинные кружева и джинсы, бальный фрак и тишортка, котелок из кабаре и высокие ботинки викторианской гимназистки на шнурках. На фоне белоснежных крикетных регалий она, в своих черных одеяниях, смотрелась зимней мухой на простыне. Она продвигалась навстречу нам, сидящим в креслах, не по краю лужайки, а довольно нагло и бесцеремонно срезая угол крикетного поля, и я чувствовал, как начинают нервничать игроки и зрители: на нее того и гляди мог налететь игрок, перехватывающий мяч, или же мяч мог вот-вот врезаться ей прямо в шляпку или еще в какое-нибудь чувствительное место. Игра практически остановилась. Она умудрилась и тут стать центром внимания.
Я привстал с кресла и помахал приветственно рукой. Все на меня оглянулись. Даже со своего дальнего конца площадки мне было видно, как изменилось ее лицо. Глаза, за мгновение до этого с полным безразличием скользящие по лицам, блуждая где-то на уровне горизонта, остановились, расширились и в панике попытались выпрыгнуть из глазниц куда подальше, обратно за ворота крикетного поля. Но было поздно: на нас уже все смотрели. «Zinik, darling, откуда? какими судьбами? здесь? не ожидала!» Конечно, не ожидала. Еще утром я пробовал пригласить ее на крикет, но она даже не поинтересовалась, кто с кем играет против кого. Она спросонья пробормотала что-то насчет того, что у нее днем важное деловое свидание и что она в смысле спорта вообще не того как-то в общем. Звучало подозрительно при ее демонстративной англофилии. Я думаю, ей просто в голову не могло прийти, что я собираюсь именно на этот крикетный матч, который толком и крикетным матчем не назовешь – скорее светским мероприятием лондонского масштаба, куда таким, как я, вообще говоря, и ходу нет. Так она полагала.
Джоан, с первого же момента нашего знакомства, держала меня за конфидента экзотического происхождения. Эксклюзивного. Я был ее русским для личного, исключительного и безраздельного пользования. «Му Russian, – говорила она, упоминая меня на светских сборищах. – Му Russian, you know, мой русский Зиник из Москвы». Как будто я был ее дрессированным медведем, вывезенным из Сибири. Пуделем из Аглицкого клуба. Как будто я никогда лондонцем и не был. Всем нам нужно чужое экзотическое прошлое, чтобы оттенить уникальность своего заурядного настоящего. Каждому нужен взгляд со стороны на самого себя. Я был ее «взглядом со стороны». Кроме всех прочих достоинств, мое российское происхождение гарантировало полную конфиденциальность ее припадков исповедальности: ей было совершенно очевидно, что эмигрантские маршруты моих разговоров не пересекаются с ее лондонскими. Она держала меня в запертом будуаре своей исповедальности. Вдруг дверь будуара распахнулась, и мы оба оказались перед крикетной публикой – в полном неглиже. В различных, правда, позах.
Мое сближение с Джоан совпало с моим разрывом с Сильвой. Собственно говоря, Сильва нас и свела, когда пригласила Джоан на свою новогоднюю пьянку. Джоан возникла на ее горизонте в связи с шотландской теткой Сильвы: Джоан, как оказалось, снимала у некой мадам Мак Лермонт дом прошлым летом в шотландском Аргайле, и та, естественно, наговорила ей с три короба про свою экстравагантную русскую родственницу. Сильва была ей седьмая вода на киселе, что-то вроде внучатой племянницы, но с помощью большого количества виски шотландская тетка в свое время поверила в нерушимую связь клана Мак Лермонт и русских Лермонтовых (через предков из шотландских католиков, бежавших в Россию), что обеспечило Сильве британский паспорт и избавило ее от опереточного сочетания имени и фамилии. Поскольку в наше время каждый приличный человек должен иметь в своем кругу хотя бы одного русского, Джоан, возвратившись в Лондон, тут же позвонила Сильве под предлогом тетушкиных приветов и напросилась в гости. Обе они тут же стали уверять друг друга чуть ли не в сестринской любви; но после той новогодней пьянки ни разу не виделись: Лондон скорее разлучает близкие темпераменты – тут каждый ищет свое отличие от другого.
В тот вечер Сильва обхаживала, чуть ли не как ближайшего друга, полузабытого полузнакомого московских лет, бывшего диссидента и человека исторического момента. В связи с развалом советской империи Лондон был наводнен инакомыслящими, прошедшими в свое время советские лагеря и психбольницы; как будто у нас самих не хватает тут бывших уголовников и сумасшедших, ночующих под мостами и в подворотнях, поскольку у государства нет денег ни на тюрьмы, ни на психбольницы. Как только железный занавес приоткрылся, Сильва со своим британским паспортом зачастила в Москву, заметая за собой на обратном пути в Лондон, как мусор шлейфом бального платья эмиграции, самое несусветное отребье нынешней революционной интеллигенции. В ее лихорадочных налетах на Москву, в той одержимости, с какой она включалась в жизнь каждого советского человека, возникающего на ее горизонте в Лондоне, во всем этом ажиотаже была неразборчивость изголодавшегося по общению одиночки на чужбине. Я же разыгрывал из себя одиночку добровольного призыва, углублявшегося сознательно и по собственной воле в джунгли эмиграции и всяческой вообще иностранщины. Я, единственный для нее близкий человек здесь, вдруг перестал для нее существовать. Она стремилась влиться в избранное большинство – революционную толпу очнувшихся от советской власти россиян; я же искал избранное меньшинство – усугубляя свою британскую островную отделенность снобистски узким кругом людей привилегированного класса, вроде Джоан.
Я оказался между ней и Джоан, когда мы устроились на ковре, распивая вино, и, помню, на вопрос Джоан, почему бы и мне не съездить в Москву, брякнул: «Все равно что возвращаться к разведенной жене», – следя при этом глазами за Сильвой, расположившейся рядом, на подушках, по соседству с московским диссидентом на побывке. Я помню блуждающую на ее губах улыбку – улыбку победителя, школьника-отличника, скрывающего от соседа по парте разгадку арифметической задачи; блеск ее глаза, глаза хищника, уверенного, что жертва у него в когтях, и звонкие агрессивные нотки в голосе, оповещающие, что приближаться опасно, могут и горло перегрызть. Как они быстро спелись с тем московским обормотом. Они были вместе и заодно, они в этой комнате были москвичами, а все остальные – олухами-иностранцами. Перехватив какие-то мои рассуждения про советское мышление, Сильва то и дело вскрикивала: «Что? Что за чушь! В Москве уже давно не…» – и дальше следовало снисходительно-наставительное разъяснение для олухов-иностранцев, что, почему и как это делается в Москве. Весь вечер звучали рефреном эти ее «ничего ты не помнишь» или «там все уже давно не так».
При этом она еще успевала то и дело подливать вина своему новоявленному соотечественнику, всякий раз приподымаясь с ковра и перешагивая через меня, чтобы дотянуться до бутылки. Это была наглая провокация: юбка ее задралась, и перед глазами мелькнул ее темный холмик, выбивающийся из-под трусиков. «Я забыл, как у тебя курчаво между ног», – сказал я, давая понять ее обожаемому новоприбывшему, в каких я с ней отношениях. «Я же говорю: ты окончательно англизировался и все забыл», – сказала она. «А ноги у тебя все такие же курчавые?» – приставал я, нагло потянувшись к ее колготкам. Во-первых, мне важно было публично объявить о ее волосатых ногах, чтобы унизить ее в присутствии ее хахаля и поставить тем самым на место и ее и его. Во-вторых, проверить: а не побрила ли она ноги? Если побрила, значит, этот московский хмырь успел с ней переспать. Сильва брила ноги всякий раз, когда заводила себе нового любовника. Она покраснела – то ли от обиды и от бешенства, а может быть, угадав мою мысль. «Не курчавее твоей волосатой груди», – сказала она, закусив губу. «Может, сравним?» – сказал я, развязывая галстук. Она, не сводя с меня глаз, стала стягивать с себя колготки.
«Среди вас, русских, слишком много претендентов на первородство», – сказала в тот раз Джоан, глядя на этот стриптиз волосатых. Я сразу оценил эту фразу. Я был единственным, кто понял, что она намекает на Иакова, выдавшего себя за волосатого Исава. Никто поэтому, кроме нее, не понял и моей ответной реплики: «Я предпочитаю безродный космополитизм советской избранности». Мы переглянулись с Джоан понимающе. В этот момент Джоан поднялась, потому что приехало такси, и я воспользовался поводом ретироваться. С того прогона в такси через весь город и началось наше общение с Джоан. Я пытался объяснить ей свое отношение к Сильве. Что такое сплетня, как не свидетельство человеческой скромности: человек стесняется говорить про себя и поэтому сплетничает про других. Если эта сплетня интригует собеседника, с его стороны это проявление великодушия, сочувствия, готовности к сопереживанию: готовности принять чужую тему, сплетню про полузнакомого человека как нечто, с чем можно отождествиться, сопереживая рассказчику, сплетнику. Собственно, когда герой сплетни едва известен слушателю, это уже не сплетня, а литература. Это как облатка, подменяющая тело Господне. «Transubstantiation», – уточняла она, и наш разговор уходил в шарлатанскую метафизику подтекста, где моя советская власть и ее католицизм мешались воедино.
Одного я, по крайней мере, добился своей выходкой под Новый год. На следующий же день Сильва устроила мне скандал по телефону за то, что я ей устроил скандал на людях, ушел не попрощавшись, беспардонно хлопнув дверью, и вообще. Я сказал, что я дверью не хлопал. Последний раз я хлопнул дверью, уходя из России, и все равно моего ухода никто не заметил. «Мне просто противно было глядеть на твои любовные шашни с несостоявшимся российским прошлым», – сказал я, витиевато намекая на ее обожаемого московского визитера. «А мне, ты думаешь, не противно было глядеть на твои шашни с фиктивным английским настоящим в виде этой фальшивой мымры Джоан?» – сказала она, не прибегая к витиеватым эвфуизмам. «Задело-таки?» – злорадно подумал я. «Несостоявшееся прошлое, фиктивное настоящее – это все твои фальшивые новые идеи, ты заметил? – продолжала она. – Твои фикции. Ты придумываешь мотивировки совершенно на самом деле нереальным, несуществующим словам и событиям. У тебя не слова расходятся с делом, а мысли со словами». Поразительно, как можно манипулировать такого рода категориями в подобных диалогах: что ни скажешь – все правда. «Короче, у тебя комплекс Отелло. Твоя ревность питается твоими собственными досужими вымыслами. Да, меня тянет к лицам из моего прошлого, к прежним лицам, – призналась она совершенно невозмутимо. – Его лицо не изменилось, и мне было приятно. То есть, наверное, он тоже изменился, но я его не видела десять лет и уже забыла, как он выглядит, с кем и когда он мне изменял. А ты постоянно торчишь у меня перед носом, и все твои измены до сих пор у меня перед глазами. Но главная измена в том, что ты сам изменился». Это она изменилась, но не хочет этого признать. Изменившись, чувствует вину по отношению к тем, кто остался тем же – самим собой. Поэтому обвиняет их в переменах и изменах. «Ты изменился, – настаивал в трубке ее голос, – ты лишился внутренней трагедии и стал просто обидчивым. Ты у меня на глазах из Отелло перерождаешься в Яго». – «В таком случае тебе крупно повезло: тебя задушу не я, а кто-то другой».
«Сильва у нас как советская власть: у нее незаменимых нет», – говорил я Джоан, излагая духовную биографию Сильвы как яркий пример хамелеонства и интеллигентского конформизма, воспринимавшегося со стороны как инакомыслие: она стала диссиденткой, когда московская элита диссидентствовала, она крестилась, когда православие стало интеллигентским шиком, она уехала, когда разочарованная элита обратила свое лицо к Западу, а сейчас со страшной силой стала перестраиваться в обратном направлении – в сторону России. Она, бросаясь в объятия Москвы, отталкивала меня от себя. Москва в ее лице снова выталкивала меня за рубеж, к Джоан. На ходу она перестраивала свою духовную биографию. В Москве мы крутились в одной компании: причины и сроки нашей эмиграции были в сущности одинаковы; она возвращалась, однако, из каждого московского заезда со слегка подновленным прошлым в чемодане. Интересные идеи она стала выдавать на публику. Получалось, что, в отличие от меня, у нее были разногласия лишь с политическим режимом, а не со страной как таковой, и поэтому, в связи с либерализацией режима, она без особых предубеждений относится, в принципе, к идее возвращения в Москву. Она вообще, получалось, уехала не по собственной воле: ее если не выдворили, то уж во всяком случае выжили с любимой родины. Я же, укативший за границу по собственной вздорной воле, не мог позволить себе возвращения – без признания собственного морального банкротства. Она, таким образом, получалась исконно русской патриоткой, я же выходил безродным космополитом. И, главное, все эти революционные трансформации и душевные откровения возникали, как это всегда бывало у Сильвы, необычайно вовремя: именно тогда, когда Россия стала в Англии такой модной страной.
Я рассуждал о Сильве с такой одержимостью и фанатизмом, что наэлектризовывал атмосферу вокруг себя, намагничивая ее так, что Джоан в тот вечер придвигалась ко мне все ближе и ближе. Возможно, я на самом деле защищался излишней разговорчивостью от ее агрессивных расспросов, выясняющих почти в открытую мое московское прошлое и лондонскую репутацию. Но этот светский допрос и скрытая в нем бессознательная подозрительность ложно воспринимались мной как попытка сближения, чуть ли не как влюбленность – если не любовь – с первого взгляда. Кроме того, в самом пьяном идиотизме нашего первого интимного разговора было некое ощущение душевного риска, тот адреналин откровенности перед незнакомцем, что легко путается с взаимной очарованностью. Взаимность была в обоюдном ощущении отверженности.
Главным сюжетом ее исповедальных монологов была неразделенная любовь. То есть с его стороны любовь как раз и разделялась: на семью и страсть, и страсть, как я понимаю, воплощалась в Джоан, а все остальное – в безумной жене, вздорных избалованных детях, огромном доме под закладную в далеком и шикарном пригороде Лондона, что, естественно, крайне усложняло географию любовной интриги. Поразительно, с каким упорством англичанин полжизни тратит на то, чтобы ни от кого не зависеть и жить в отдалении от вульгарной толпы, опостылевших друзей и надоедливых родственников; чтобы вторую половину жизни сходить с ума от одиночества и клаустрофобии семейного быта. Имя ее рокового любовника не называлось по соображениям семейной безопасности, что было несколько абсурдно, поскольку его супруга, как я понял, была прекрасно осведомлена о его перипетиях с Джоан. Такое впечатление, что и супруга и Джоан – обе пытались оградить обожаемое верховное существо «от светских пересудов», эти пересуды всеми возможными способами при этом подогревая. Вот уже год происходил некий фатальный пересмотр отношений в их треугольнике – загадочный, по-моему, и для самой Джоан.
Незадолго перед крикетной встречей я присутствовал при ее очередном «экстренном» телефонном совещании с законной супругой, когда Джоан, бледнея на глазах и кусая губы, повторяла, вжимаясь в трубку, одно слово: «Катастрофа. Катастрофа». А потом, плюхнувшись в кресло, после долгой паузы (которую я не знал, как нарушить, а она нарушать не желала – в несколько бессмысленном выжидании моих нетерпеливых расспросов), раскрыла мне наконец суть телефонного звонка. «Между нами возник третий лишний», – сообщила ей, как оказалось, сама супруга обожаемого существа, вроде вестника, предупреждающего союзника о появлении вражеских войск на дальних рубежах. Речь шла, как я понял, о появлении на горизонте у обожаемого существа еще одной любовницы. Эту «катастрофу» и загадочность личности «третьего лишнего» в этой мыльной опере я и воспринял как истинную причину ее отказа присоединиться ко мне на крикетном матче.
Чем запутанней в ее исповедальных монологах становилась паутина препятствий, мешавшая любовникам превратиться в животное о двух спинах, тем настойчивей становились мои поползновения подменить под простыней героя ее треволнений. Мелодраматическая достоевщина нагромождалась с каждой нашей встречей: угроза самоубийства жены перемежалась остракизмом детей; он географически уходил от Джоан, чтобы быть ближе к ней духовно; он появлялся у Джоан, чтобы вновь ощутить жалость к несчастным, убогим и некрасивым (имелась в виду супруга – окольный комплимент Джоан). Он намеренно оскорблял Джоан, чтобы вызвать в ней чувство ненависти к себе и, тем самым, раскрепостить и освободить ее от себя; но как только окончательный разрыв казался неминуемым, он вновь возникал на ее горизонте, чтобы заново разбередить «незаживающую рану секса», как она выражалась. При этом она быстрым движением дотрагивалась до моей руки и на мгновение сжимала мою ладонь в своих длинных пальцах – в некоем проникновенном масонском рукопожатии: как бы в жесте признательности за интим наших разговоров, за душевную щедрость, способность понять и простить ее любовную интригу, как будто не он, а я был ее любовником, которому она изменяла с ним. У нее вообще была такая привычка: по-сестрински, по-родственному коснуться как бы невзначай локтя или колена или взять в руки твой указательный палец и весь разговор крутить его, как пуговицу. Она не отталкивала от себя с безоговорочной окончательностью, но выскальзывала, уклоняясь от каждой моей попытки перейти от касания к соприкосновению. «Не-а, – говорила она, в последний момент выпутываясь из моих рук, – начинается с поцелуев, а кончается чем?» И она употребляла свое лично-жаргонное словечко на этот случай: insertion. То есть: вложение. Или еще лучше: вставка. Она против неожиданных вставок в привычный текст нашего интима.