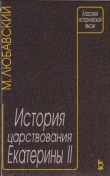Текст книги "Вокруг трона Екатерины Великой"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Вокруг трона Екатерины Великой

Сергей Салтыков
1
 арета тяжело переваливалась с ухаба на ухаб самой середины Невской першпективы. Весна ещё не вступила как следует в свои права, хотя на деревьях, в три ряда опоясавших першпективу, уже поднялся зелёный туман, окружавший чёрные безлистные ещё стволы. Крохотные листочки не набрали ещё силу и лишь туманцем стояли над голыми стволами.
арета тяжело переваливалась с ухаба на ухаб самой середины Невской першпективы. Весна ещё не вступила как следует в свои права, хотя на деревьях, в три ряда опоясавших першпективу, уже поднялся зелёный туман, окружавший чёрные безлистные ещё стволы. Крохотные листочки не набрали ещё силу и лишь туманцем стояли над голыми стволами.
Впереди золочёной кареты с императорским гербом ехали конные гвардейцы в высоких киверах с развевающимися перьями. Мундиры ярко блестели в свете хмурого пасмурного утра, лошади едва переставляли копыта, сообразуясь с движением тяжёлой кареты, а позади скакал уже целый отряд рейтар[1]1
Рейтар — солдат кавалерии в наёмных армиях Западной Европы (в XVI—XVII вв.) и в России (в XVII—XVIII вв.).
[Закрыть], красуясь перед обывателями и разношёрстным людом молодецким видом и важностью.
В карете было полутемно; крохотные окошечки, застеклённые модным и дорогим венецианским стеклом, едва давали свет, но и без этого неверного освещения резко выделялось лицо князя Репнина, сидевшего справа от великой княгини, смутно белело, как всегда, хмурое лицо Марьи Семёновны Чоглоковой, гофмейстерины княгини, да дремал и клонил к золочёному воротнику голову её гофмаршал Чоглоков.
Мостовая была сплошь покрыта налётом красноватой глины, смешанной с конским навозом, и вознице, толстому, в широчайшей борчатке[2]2
Бочатка (борчатка) – кафтан с борами – со складками.
[Закрыть], не удавалось объезжать рытвины и ямины, прорытые в мостовой весенними дождями и разбуханные колёсами и сапогами прохожих.
Екатерина Алексеевна, великая княгиня, замужняя дама лет двадцати восьми, переваливалась в такт движению кареты и крепко держалась за ремённую петлю, прибитую сбоку сиденья.
Переезды, частые и беспокойные, были для неё настоящим мучением. Хоть и выписала из-за границы Елизавета, государыня-императрица, новомодные берлинские кареты, которые так и назывались «берлинами», и кузов в них был, словно люлька, подвешен на ремнях, но даже это не спасало от толчков и резких рывков – мостовые всё ещё были неукреплёнными, глинистая земля расползалась студёным озером, копыта лошадей по самые бабки уходили в эту стылую хмарь, и потому карета двигалась медленно, рывками и толчками, несмотря на то, что правили четвёркой лошадей, запряжённых в неё, обычно самые умелые из кучеров, а на передней, коренной лошади направлял её движение ловкий и маленький форейтор[3]3
Форейтор – верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряжённых цугом.
[Закрыть].
С одной стороны мостовой разлилось по торговым рядам серое людское море. Пасмурен был денёк, да вылезало уже из-за тяжёлой отёчности неба неяркое петербургское солнышко, и торговцы были наготове, вразнобой выкрикивая названия своих немудрёных товаров. Более солидные купцы скрывались под навесами, освещая свои разложенные товары керосиновыми лампами, а то и просто восковыми свечами, смотря по достатку.
Дождя не было. Он моросил всю ночь, а теперь, к утру, иссяк и остался в воздухе лишь сыроватой туманной дымкой. Но неяркое хмурое солнце уже разгоняло последние остатки её, и торговля шла бойко и весело.
Кучей тряпья сидели возле вёдер, укутанных лохмотьями, старые торговки, хриплыми голосами предлагая горячие пироги с требухой; сновали по узким проходам между людьми бойкие парни – калачники, держа на плечах чистые палки с нанизанной на них печёной мелочью и подовыми калачами, только-только вынутыми из печи; разносчики всяких пустяков вроде булавок, ниток и мотков шерсти раздвигали своими лотками толпу, выставляя свой французский товар, сделанный где-нибудь в предместье Петербурга, и расхваливая достоинства ниток, спряденных из гнилой шерсти.
Двигалась и текла людская река, обтекая и разносчиков, и торговцев требухой, и рыбных зазывал, сердито торгуясь с продавцами и ахая по поводу несуразных цен.
Среди осевших глинистых берегов хмуро катила свои чёрные воды Нева, поплёскивая в широкие борта судов и лодок, втыкаясь в навозные забереги и обдавая их мелкими брызгами. Всё так же вонзалась в сердитое небо высоченная колокольня Петропавловского собора, весело желтел кораблик на шпиле Адмиралтейства, золотились купола многочисленных соборов и церквей, кое-где раздавался в воздухе колокольный звон медных ударов, а у торговых рядов стоял неумолчный гул, сливаясь в ровный и плотный звуковой ряд, висевший над толпой с самого раннего утра...
Петербург всё ещё был неказистым северным городишком, хоть и носил звучное название Северной Пальмиры и столицы России. Усыпанный низенькими бревенчатыми домишками, он лишь кое-где перемежался высокими просторными дворцами знати, огороженными железными коваными решётками и тяжёлыми дубовыми воротами, изукрашенными резьбой.
Дворцы разделяли громадные пустоши неосвоенной земли, к которым вплотную подступали избушки бедноты, кое-как слепленные из кусков дерева, крытые камышовыми крышами или соломенными пластами, на которых вырастали порой тоненькие крохотные берёзки.
Неуютная, необжитая земля, не родившая ничего, всё ещё была словно бы временным пристанищем знати и самой оголтелой городской нищеты. К дворцам по санному пути всё ещё шли и шли обозы из старой столицы. Москва снабжала своих хозяев, поселившихся на этой болотистой, мягко пружинящей под ногой землю, битой птицей и яйцами в глубоких укладках, рыбой и солью, мехом и деньгами – всё было втридорога на этой пустой и никчёмной земле, которую сделал своим парадизом, то бишь земным раем, государь русской земли – Пётр Первый.
Зато первыми приходили сюда иностранные суда, привозили диковины из Англии и Голландии, зато деревянные парусные корабли великого царя возили шерсть и кожи в ту же Англию, железо и дерево – в германские мелкие княжества, едва могущие расплатиться за товары. И постоянно торчали у низких пристаней торговые корабли, а петербургский люд уже устал удивляться нарядам голландских шкиперов и узким бескозыркам английских моряков. Теперь в толпе, шнырявшей у торговых рядов, то и дело мелькали заморские кургузые куртки или крохотные шапочки с петушиными перьями.
Ничему теперь уже не удивлялись петербуржцы, они привыкли к иноземцам и старались содрать с них побольше, выхваливая свой товар.
Екатерина со скукой глядела в окошко, держась за ремённую петлю, не спасавшую от толчков и рывков.
Скопище лачужек, лотков и прилавков, загромождённое кучами мусора и навоза, едва расчищенными лишь по самой середине прохода, не представляло весёлого зрелища. Но тепловатых! запах свежеиспечённого хлеба, которым был так богат торговый ряд, заставлял трепетать ноздри, проникал даже в закрытую карету, и Екатерина вдруг почувствовала, что была бы не прочь съесть хоть кусочек этого пахнущего свежим хлеба. С самого утра маковой росинки не было во рту: Чоглокова так торопила с выездом, что у Екатерины только и хватило времени на то, чтобы выпить чашку кофе.
Императрица ещё накануне уехала в Царское Село и наказала гофмейстерине, чтобы поторопила с выездом и великого князя Петра, и великую княгиню.
Обозы с мебелью, провизией и нарядами были отправлены ещё раньше, дворец в Царском был протоплен и приготовлен для Елизаветы. Великий князь выехал самым ранним утром, а теперь и Екатерина тащилась в этой новомодной «берлине», где невозможно было даже поставить ноги удобным образом – четыре сиденья и очень узкий проход между ними. И потому приходилось выбирать местечко между ногами Чоглокова, сидевшего напротив, спиной к движению, и грузными ботфортами князя Репнина, поместившегося рядом.
– Князь, – весело, пренебрегая всеми неудобствами, обратилась Екатерина к Репнину, нестарому ещё фельдмаршалу, назначенному командовать эскортом сопровождения великой княгини, – как насчёт горяченьких калачей?
Князь был человеком расторопным – недаром всю жизнь провёл при дворе и знал до тонкостей все нюансы этикета.
– Ох, как бы и мне хотелось! – так же весело ответил он. – Теперь можно карету остановить да позвать калачника...
Марья Семёновна, сидевшая напротив Репнина, строго нахмурилась – её узенькие бровки сошлись на самой переносице, а губы сжались в тонкую нитку. Красивое лицо мгновенно сделалось злым и обиженным.
– Матушка-государыня не одобрит, – прошипела она сквозь зубы.
– Матушка-государыня не одобрит? – спросил князь Репнин, высоко, к самому парику подняв седые кустистые брови.
Екатерина вздохнула: все, даже самые невинные её пожелания встречали весьма резкий отпор у гофмейстерины, назначенной ей Елизаветой.
– Голод не тётка, – назидательно сказал Репнин и своей длинной золочёной тростью ткнул в окошечко между Чоглоковыми в спину возницы: – Стой, карета!
И сразу замерла вся процессия. Остановились передние конногвардейцы, застыли задние, карета перестала раскачиваться, и наступило блаженное чувство покоя и умиротворения.
Князь распахнул узенькую дверцу и пальцем поманил одного из калачников, державшего на плече чистую жёлтую палку с нанизанными на ней калачиками.
Калачник сразу же сдёрнул свой суконный картуз, подскочил к дверцам и сунул в узкий ход конец заострённой палки. Запах горячего печёного хлеба разлился по всей карете.
Екатерина рассмотрела калачника с первого же взгляда и схватилась за горячие калачи. «Всем по калачику», – подумала она и бросила четыре круглых румяных, испечённых на поду хлебца с ровной дырой посередине на подстеленный заранее платок между собой и князем Репниным.
– Почём? – сурово спросила Чоглокова, не ожидавшая такой прыти от великой княгини.
– Две копейки! – весело закричал краснощёкий кудрявый калачник, так и не сбросивший ошкуренную палку с плеча, могучего, обтянутого кумачовой чистой рубахой. Ноги его в толстых лыковых лаптях по самые онучи утонули в грязи обочины, но он словно бы и не замечал ничего.
Волей-неволей пришлось Марье Семёновне растянуть тугой шнурок замшевого мешочка с деньгами – мелочью Екатерины, Чоглокова же была и хранительницей медных и серебряных монет великой княгини.
Она долго копалась в мешочке, старательно выискивая самые стёртые и старые медяки, пока князь Репнин не вынул из кармана камзола двугривенный и не бросил его калачнику в суконный картуз.
А между тем у дверец кареты уже собралась толпа – каждому хотелось продать свой товар таким знатным покупателям.
Екатерина взглянула на толпу, шевелящуюся перед дверцами, и уловила руку с глиняной кружкой, покрытой золотисто-коричневой горкой.
– И молочка, – шепнула она князю Репнину, и он сразу понял её.
Кружка с молоком, закрытым золотисто-коричневой пенкой, оказалась в руке Екатерины. Не дожидаясь, пока Чоглокова перестанет копаться в замшевом мешочке, Репнин бросил монету и молочнице и захлопнул дверцу кареты.
– Поезжай, – ткнул он тростью в спину возницы, и кортеж немедленно тронулся в путь.
Нелегко пришлось Екатерине держать в руке кружку с молоком и кусать золотистый бок калача, но она ухитрилась не пролить ни одной капли топлёного молока и съела за один присест калач с таким аппетитом, какого давно уже не наблюдала у себя за дворцовым столом.
Чоглокова презрительно отказалась от калача, зато князь Репнин и сам Чоглоков с удовольствием умяли по свежему, горячему ещё калачику.
Марья Семёновна только глотала слюнки, зато с удовольствием представляла себе, как изложит она государыне всё это происшествие и какой выговор императрица сделает великой княгине – уж как хотелось ей хоть чем-нибудь досадить Екатерине, умудрявшейся ещё и посмеиваться над шпионкой-гофмейстериной! Каждый малейший шаг обсказывала Чоглокова императрице, добавляя от себя какую-нибудь подробность, чтобы вызвать гнев и неудовольствие Елизаветы в адрес великой княгини.
Оставшийся у обочины народ дивился неслыханной удаче молодого ясноглазого калачника: полушку[4]4
Полушка — старинная медная монета достоинством в четверть копейки.
[Закрыть] давали ему за калач, он спросил за все свои четыре калача две копейки, а ему кинули двугривенный. И столько же получила молочница за одну-единственную кружку молока. Вздыхали, качали головами – столько деньжищ, – но потихоньку разошлись, мечтая каждый о такой удаче. Зависти и ненависти к счастливчикам всегда было полно у русского народа, тем более петербургского, выколачивавшего свои копейки – царя на коне – с огромным трудом и усилиями.
Калачник же выбрался из грязной обочины, не глядя на свои промокшие и облепленные навозом онучи и лапти, и помчался домой, твёрдо веря, что в этот день дважды удачи не будет – и так оправдал всю дневную выручку, да ещё с лихвой. Народ провожал его завистливыми и ненавидящими глазами...
А Марья Семёновна Чоглокова мысленно перебирала в уме строки наказа ей, наставления, написанного Бестужевым и одобренного Елизаветой, и мстительно поглядывала на весело болтавшую с Репниным Екатерину – то-то достанется ей от императрицы, не будет так оживлённо болтать с этим жирным князем.
Впрочем, не только относительно великой княгини были установлены Бестужевым строгие и недвусмысленные правила поведения – это касалось равным образом и её шумливого и беспокойного мужа, Петра, голштинского принца, племянника Елизаветы, вызванного ею в Россию и определённого в наследники российского престола. Две знатные особы, назначенные в качестве руководителей и возглавлявшие дворы великого князя и великой княгини, должны были исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества – не выливать за столом на головы прислуги содержимое своего стакана, не говорить грубости и неприличные шутки лицам, допущенным ко двору и даже иностранцам, не гримасничать публично и кривляться всем телом...
Конечно, Пётр делал всё это, и ничто, никакие строгие увещевания и самые разнообразные наставления, высказываемые в деликатной форме, не отучили его от глупых шуток и кривляний. Он велел сделать себе театр марионеток в своей комнате, а время проводил лишь в обществе лакеев. Даже Екатерина позднее писала в своих «Записках», что Пётр составил себе полк из всей своей свиты. Придворные лакеи, егеря, садовники – все получили мушкеты и обязаны были выполнять все команды его императорского высочества, кордегардией[5]5
Кордегардия – помещение для военного караула.
[Закрыть] им служил коридор, а Екатерину он заставлял стоять на часах с мушкетом долгие часы.
Это было только то, что касалось Петра в инструкции Бестужева. А уж строки о великой княгине Чоглокова выучила почти наизусть: отсутствие усердия к православной вере, запрещённое ей вмешательство в государственные дела империи или дела герцогства Голштинского, номинальным правителем которого оставался Пётр, но всего более – чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, даже с пажами и лакеями. Мстительно думала Чоглокова о том, как расстроила она эти фамильярные отношения с тремя братьями Чернышевыми. Все трое были молоды, высоки ростом, красивы и пользовались особой благосклонностью великого князя. Старшего, Андрея, она, великая княгиня, ласково называла «сынок мой», а он её – «матушкой». С ужимками и обидными намёками рассказала Чоглокова об этом императрице, и Андрея арестовали, удалили от двора, а потом выслали в Сибирь. А всего-то и было, что Екатерина в приоткрытой двери выслушала какие-то слова Чернышева, и в тот же момент шпион Елизаветы Девьер увидел это и нашёл предлог устранить Чернышева, сказав, что великий князь просит великую княгиню к себе.
Правда, ещё камердинер Екатерины Тимофей Евреинов предупредил великую княгиню, что она подвергается большой опасности, выслушивая Чернышевых, но и Тимофей был удалён от двора и сослан в отдалённые области. Да и все сколько-нибудь близкие Екатерине люди стали исчезать с предельной последовательностью...
Помнила Чоглокова и ещё один, самый главный пункт инструкции Бестужева – всячески побуждать великую княгиню, «чтобы она со всеудобовымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовию, приятностию и горячестию обходилась и генерально всё то употребила, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жить».
Однако уже прошло добрых восемь лет, а наследника от принца и принцессы всё не было.
И Чоглокова больше всего боялась за своё пребывание при дворе, потому что инструкция Бестужева так и не была выполнена. Наследник всё не появлялся, и всю вину за это Чоглокова старалась свалить на великую княгиню...
Всю дорогу до Царского Села Марья Семёновна составляла в уме обвинительную речь, скорее, донос на Екатерину, так своенравно остановившую выезд императорской кареты.
Сима но себе Марья Семёновна не была злой или враждебной, но она старалась тщательно выполнять царские наказы и, не зная, в чём дело, почему у императорских высочеств нет детей, обвиняла во всём великую княгиню. Марья Семёновна была моложе Екатерины, красива, влюблена в своего мужа и при своём двадцатичетырёхлетнем возрасте уже родила четверых детей. Может быть, Елизавета и посчитала, что такой пример добродетельной и многодетной матери будет назиданием Екатерине. И постепенно Чоглокова добилась, что вокруг великой княгини образовалась пустота – все сколько-нибудь близкие люди были удалены от двора. Екатерина проводила своё время только в чтении...
К несчастью для Марьи Семёновны, вместе с ней в приёмную императрицы вошёл и князь Репнин. Он вёл эскорт великой княгини и тоже должен был отчитаться за путешествие.
Едва лишь Чоглокова заикнулась, что великая княгиня непредвиденно остановила карету, как князь лукаво объявил Елизавете:
– А ну как это прихоть...
И Елизавета поняла. Она сидела за своим чайным столиком, одна ножка у которого во время переезда была сломана и наскоро подвязана, пила чай из драгоценнейшей чашки и смотрела хмуро, неласково.
Но князь Репнин недаром много лет провёл при дворе, и потому первыми его словами были такие:
– Господи, сколько вижу мою благодетельницу, столько поражаюсь: личико как яичко, ни одной морщинки, ручки белые да гладкие. Позволь, государыня, хоть краешек твоего, красавицы и молодицы, платья поцеловать...
Елизавета всегда гордилась своей красотой, и любое упоминание об этом было ей приятно. И потому постепенно на её губах появилась слабая ещё, но уже благосклонная улыбка.
А уж выслушав такие слова, как «прихоть», она вся так и встрепенулась: а ну как действительно эта прихоть – признак беременности великой княгини?
Но Чоглокова разочаровала её:
– Третий день, как перестала мазаться...
Князь Репнин немного покраснел: он не слишком-то вникал в женскую природу и всегда смущался, если ему приходилось выслушивать интимные подробности женского состояния.
Бестужев, сидевший против Елизаветы, искоса взглянул на князя, потом на свою шпионку и доносчицу, действующую строго по его инструкции, и ничего не сказал.
– Уж сколько лет, – сердито произнесла императрица, – а она всё пустая...
И опять князь Репнин вставил своё слово:
– Может, не от великой княгини зависит...
Бестужев молча повёл глазами в сторону князя – эта мысль ещё не приходила в его голову.
Елизавета мановением руки отпустила эскорт Екатерины. Князь Репнин вышел первым, вслед порхнула и Чоглокова.
– Ну, что скажешь? – спросила Елизавета у Бестужева.
– Дозволь, матушка-государыня, молвить слово запретное, – не растерялся Бестужев.
Она молча кивнула головой.
– Сколько родовитых молодых людей вьются вокруг великой княгини, – раздумчиво начал Бестужев. – Повели – и родится внук от самой родовитой фамилии...
Елизавета дико взглянула на Бестужева.
– Чтоб престол замарала... – заикнулась было она, но сразу замолчала: встали перед ней все проделки её племянника, а, кроме того, ещё и отсутствие детей...
– Ладно, спасибо за совет, мудрая твоя голова, – тихо промолвила Елизавета и, едва Бестужев ушёл, велела кликнуть всё ту же Марью Семёновну Чоглокову.
Прямо и строго высказала она всё доносчице и шпионке и спросила:
– Кто может быть?
Чоглокова смущённо переминалась с ноги на ногу.
– Двоих отличает, – наконец выговорила она. – Лев Нарышкин да Сергей Салтыков...
Елизавета призадумалась. Слов нет, оба родовиты, да и детей уже куча.
Лев Нарышкин ведёт свой род ещё от времён второй жены Алексея Михайловича, отца Петра Первого, деда самой Елизаветы. Тут корень крепкий, самый боярский. Правда, внешностью не вышел – рот до ушей, тонкий да длинный, оттого и всегда смеяться хочется, глядя на него. А он ещё и ужимками своими смешит всех, так и этак быть ему шутом при дворе.
Сергей Салтыков красив, умён, два года назад женился, и жена уже принесла ему сына, а теперь снова ходит беременная. И род у него, пожалуй, познатнее нарышкинского: Прасковья Салтыкова из этого рода была женой слабоумного и скорбного Ивана-царя, начинавшего царствовать вместе с Петром Первым. И хоть маломощен был царь Иван, да пышная и гладкая Прасковья ухитрилась родить ему трёх дочерей.
– Ладно, скажи слово великой княгине, пусть из этих двух и выберет. Да гляди, никому ни словечка, не то...
Чоглокова бросилась в ноги императрице:
– Да когда ж я...
– Иди, иди, – бросила Елизавета, – да гляди, чтоб всё чисто и скрытно было. Не исполнишь службу – высеку, – грозно пообещала она.