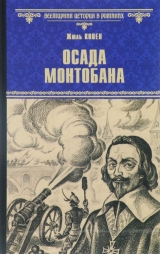
Текст книги "Осада Монтобана"
Автор книги: Жюль Ковен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Глава II
ОТКРЫТИЕ
 алентина де Лагравер стояла, оледенев от страха. На отвратительном орудии казни труп качался зловещим образом. Последние порывы бури рассыпали его волосы. Луна, вышедшая из-за туч, освещала его свинцовый лоб, посиневшие скулы, и две тёмные впадины вместо глаз, вероятно, уже выклеванных птицами; жалкие лохмотья ничтожного преступника не прельстили палача, развеваясь по ветру, они придавали мертвецу смешное подобие жизни.
алентина де Лагравер стояла, оледенев от страха. На отвратительном орудии казни труп качался зловещим образом. Последние порывы бури рассыпали его волосы. Луна, вышедшая из-за туч, освещала его свинцовый лоб, посиневшие скулы, и две тёмные впадины вместо глаз, вероятно, уже выклеванных птицами; жалкие лохмотья ничтожного преступника не прельстили палача, развеваясь по ветру, они придавали мертвецу смешное подобие жизни.
Несмотря на силу духа, Лаграверская шалунья задрожала перед этим страшным и отвратительным зрелищем, от которого она не могла отвести глаз. Ей казалось, что эти позорные столбы были старые и ужасные знакомые. Её память вызвала из отдалённой глубины головокружительный образ.
– Ужас!.. Помню! Помню! – закричала она дрожащим голосом. – Вот почему с меня взяли клятву никогда не подъезжать к Коссаду.
Эти воспоминания нарушили чары, не дававшие ей сдвинуться с места. Вне себя, села она на свою лошадь и пустила се в галоп к Лаграверскому замку.
Когда она подъезжала к калитке, жилы на висках Валентины напряжённо пульсировали, такие тщетные усилия прикладывала она, чтобы разобраться в воспоминаниях о прошлом, никак не согласовывавшемся с её настоящим.
Она воротилась так же таинственно, как выходила, и отвела свою лошадь в конюшню, не разбудив лаграверских служителей.
Проходя через обширный двор к крыльцу, она вздрогнула от удивления. Дребезжащий свет переходил медленно от одного окна к другому в необитаемом флигеле замка, в этих развалинах, куда никто не ходил даже днём, потому что сгнившие доски едва держались. Притом давно не знали, куда девались ключи от этой части замка, и эта невозможность доступа подтверждала мнение прислуги, что только одни привидения, которые, как известно, могут проходить сквозь стены и замки, бродили там по ночам.
С одного конца до другого в этом фасаде, покрытом чужеземными растениями, было не менее десяти окон. Странный свет выходил из той части, что была смежной с жилищем господ и подвалами, в конце флигеля. Сквозь стёкла, покрытые толстым слоем пыли, Валентина де Лагравер видела, однако, высокую и прямую тень, скользящую мимо окон и исчезавшую в простенках, чтобы снова показываться, проходя мимо окна. Когда разбитые стёкла позволяли взору проникнуть в глубину комнат, не встречая препятствием запылённое стекло, можно было видеть тяжёлые и чёрные складки одежды таинственного существа. Испуг Валентины де Лагравер при этом явлении, подтверждавшем суеверные рассказы, длился только несколько секунд. Характер у неё была решительный, и её недавнее приключение притупило женскую нервную чувствительность. В эту минуту она чувствовала только любопытство к неизвестному, жажду к необыкновенному, которые и составляли главные черты её смелого характера. Они повелительно побуждали её стараться разгадать эту фантастическую загадку.
Необитаемые комнаты замка имели лестницу, выходившую на двор в дальнем конце фасада, следовательно, на самом отдалённом пункте соединения с главным корпусом здания. Если пройти по этой лестнице, можно было попасть в последнюю комнату прежде призрака, который, кажется, имел намерение пройти через всё здание. Валентина тотчас решилась. Она приметила как-то днём, что дверь этой лестницы почти сгнила, она схватила в конюшне вилы, побежала к двери, вложила зубцы вил в щели и сломала наличник. Проскользнув в это отверстие, она начала взбираться по ступенькам, ощупывая их одной рукой, а в другой держа пистолет, который она вынула из чушек седла Феба, и беспрепятственно вошла в незапертую переднюю. Там она остановилась и стала прислушиваться, но ничего не слышала. Она посмотрела сквозь щель замка в первую комнату, но ничего не увидела, кроме темноты. Тогда она наклонилась к окну и отворила его без шума. В соседнем окне отражался только свет луны, а третье окно было красным от внутреннего света.
Валентина де Лагравер сказала себе, что, без сомнения, там-то и остановилась фантасмагорическая фигура и что её надо наблюдать из следующей комнаты, но напрасно она старалась отворить дверь – та была заперта изнутри. Валентина направилась к окну, балкон которого шёл вдоль всех окон этого этажа. Таким образом она дошла до освещённого окна, но напрасно она старалась заглянуть в комнату – пыль и паутина составляли толстую занавесь. Правое окно, перед которым прошла Валентина, было открыто, и она решительно вошла в тёмную залу. Идя ощупью впотьмах, она направлялась к лучу света, который виднелся из-под порога. Она уже бралась за замок, как дверь медленно повернулась на петлях, и вдруг прямо перед Валентиной явилась зловещая фигура. Грубая одежда покрывала тело, угловатое, как скелет. Постоянный трепет колебал это существо высокого роста, которое шло, не производя ни малейшего шума, и коснулось своей одеждой молодой девушки, по-видимому, не заметив её. Однако глаза его сверкнули под капюшоном.
Несмотря на всё своё мужество, Валентина де Лагравер, почти лишаясь чувств, прислонилась к стене, оставив свободный проход этому сверхъестественному существу... Но скоро она узнала бледные и морщинистые черты и длинные пряди волос ослепительной белизны.
– Это вы, батюшка! – вскричала она с горестным удивлением. – Когда вы так больны! – продолжала она, не думая, что её присутствие в подобный час и в подобном месте так же странно.
Старик не слыхал её слов. Теми же самыми медленными шагами он направился в глубину комнаты поставил свечу на высокое дубовое бюро, единственную мебель, оставшуюся в этих четырёх стенах, на которых висели лохмотьями полинялые обои. Потом, взяв из связки ключей, привязанной к верёвочному поясу, ключ странной формы, он отпер ящик массивного бюро. Старик достал чернильницу, перья, толстую рукопись, которую положил на запертое бюро. Он продолжал начатую страницу этой рукописи, и в то время как он писал, его зрачки между веками, непомерно расширенными, вместо того чтобы следовать за строчками, которые он выводил, оставались устремлены на стену, находившуюся перед ним.
Валентина, испуганная необыкновенным состоянием старика, оставалась неподвижна возле двери, в которую он прошёл. Она не верила в привидения, основательность её суждения предохранила её от предрассудка, свойственного той эпохе. Старик же смотрел на неё и не видел её! Тело его занималось материальной работой, а душа находилась вне реального мира. Валентина предпочла бы во сто раз этой оживлённой статуе, не сознающей её присутствия, раздражённого старика, жестоко бранящего её за шалость. Её обычная решимость, слишком долго укрощаемая, оживилась, чтобы изменить положение, нестерпимое для неё.
«У него иногда случаются припадки, – думала она. – Неужели это припадок более сильный? Но нет, тогда бы он остался неподвижен на постели или в кресле... а теперь... но всё равно попробую».
Она подошла к старику, остановила руку, державшую перо, и произнесла твёрдым голосом:
– Батюшка, ради бога, узнайте меня! Поговорите со мною!
Он медленно повернул к ней исхудалое лицо и отвечал:
– Валентина де Нанкрей, что вы хотите, чтобы я вам сказал?
Это имя, которым он никогда её не называл, этот глухой, отдалённый, погребальный голос, которым он никогда до сих пор не говорил, возбудили такое изумление в молодой девушке, что она бросила руку старика и невольно отступила.
– Батюшка, опомнитесь! – сказала она с тоской.
Живая статуя опять принялась за своё дело, на минуту прерванное. Она начертывала на пергаменте новые строки. Повернувшаяся, как на пружине, голова, очевидно, не расслышала восклицания Валентины.
Девушкой овладело отчаяние. Этот небывалый случай сбивал её с толку. Она схватила левую руку старика и покрыла её поцелуями, горестно повторяя:
– Разве вы не узнаете вашей возлюбленной дочери?!
– Нет, ты мне не дочь, – произнёс старик, – ты...
Изумлённая, Валентина выпустила его руку, прервав, без сомнения, магнетическое воздействие, принуждавшее старика отвечать ей.
Старик принялся опять за труд, разъединявший его со всей вселенной.
Лунатизм был тогда гораздо менее известен, чем теперь. Валентина не знала его почти чудесных свойств. Она подчинилась сильному влиянию таинственного ужаса. Столь же бледная, как и старик, поза которого хранила неподвижность камня, она стояла возле него в нерешимости.
Что это был за страшный кризис, когда человек почти не принадлежал земле? Не оставить ли на несколько минут этого больного или этого сумасшедшего, чтобы сходить за помощью? Задавая себе эти вопросы, она машинально следила глазами за строчками, выводимыми рукой лунатика. Вдруг её имя появилось на начатой странице, и Валентина прочла отрывок рукописи:
«Пока лихорадка приковала меня к болезненному ложу, Валентина была для меня лучшей и нежнейшей дочерью. Её попечение, как бальзам, утишавший мои страдания, заставляли меня забывать, что я не имею никакого права на её нежность, так как я ей не отец...»
При этом письменном подтверждении прерванной фразы, при этом громовом открытии Валентина прошептала прерывающимся голосом.
– О, стало быть, мои тайные сомнения не были ошибочны!.. Но кто же я?.. – продолжала она с энергией почти свирепой, остановив руку лунатика.
Морщинистое лицо его выразило сильное страдание.
– Кто ты? Кто вы?.. – пролепетал он с усилием. – Нет... нет... не принуждайте меня сообщать вам это.
– Говорите, умоляю вас!
– Нет... из сострадания к вам и к вашему бедному Норберу!
Пылкая воля молодой девушки не ослабела, когда она увидела отчаяние того, кто всегда дарил ей отцовскую нежность. И снова Валентина прервала магнетический ток, позволявший ей приказывать воле старика. Сделавшись свободен, он не чувствовал и не знал её присутствия. Норбер перевернул лист рукописи, которая влекла его так сильно, что принуждала писать даже во сне. Валентина наконец осознала влияние простого пожатия своей руки на Норбера. Она угадала, хотя смутно, что это таинственное состояние представляло борьбу между внутренней деятельностью и покоем. Войдя опять в соприкосновение с лунатиком, Валентина продолжала:
– Морис – мой брат?
– Нет, – с трудом отвечал Норбер.
– Он ваш сын?
– Да.
– Тогда так! – сказала Валентина громким голосом. – Я догадалась о моём происхождении, которое вы хотели от меня скрыть!.. Эти два трупа, кровь которых в детстве окропила мне руки... Или вы опять станете утверждать, что это был дурной сон?
Лунатик молчал, но внутренне боролся с тайным влиянием, которое принуждало его говорить. Пот покрыл его лицо. Он пытался вырвать свою руку. Хотя всё его тело имело твёрдость железа, его рука была не сильнее руки ребёнка.
– Бог мне свидетель, – продолжала Валентина де Лагравер, – что я буду любить вас всегда, как вы того и заслуживаете, с дочерней нежностью... Но этот человек, привязанный к виселице, эта женщина, которую я видела мёртвой возле него накануне... это были мой отец и моя мать?..
Норбер задыхался и хрипел.
– О, пока она не захочет непременно, я буду молчать, – прошептал он сам себе.
– Я хочу, чтобы вы мне отвечали, хочу, слышите ли вы?! – сказала Валентина с энергией.
– Это были ваш отец и ваша мать, – отвечал старик голосом слабым, как дыхание.
– Как их звали?
– Рене и Сабина де Нанкрей.
– Зачем вы от меня скрывали, что я их дочь? Зачем вы старались изгладить смутные воспоминания, которые заставили бы меня открыть эту тайну? Зачем вы употребили по отношению ко мне свою власть и звание, которых вы, конечно, достойны, но которые по закону не принадлежали вам?
На эти три вопроса внутреннее возмущение лунатика против нравственного принуждения, которому его подвергали, выразились двумя крупными слезами, которые выкатились из его впалых глаз на руку молодой девушки. Он оставался безмолвен, но грудь его высоко вздымалась, как будто он задыхался от невидимой тяжести.
Валентина чуть не лишилась чувств, раздираемая мучением, которое она наносила старику, любимому и уважаемому ею. Однако что-то побуждало её продолжать допрос, что-то могущественнее любви и сострадания: долг.
– Отвечайте!.. Я хочу!.. – произнесла она с отчаянием, но и с решимостью.
Она приметила, какое непреодолимое действие имели эти слова на Норбера.
– Увы, – произнёс он с горечью, – я боялся, чтобы вы не вздумали отмстить за ваших умерших родителей и подвергнуть себя пагубной участи.
– Отмстить!.. Стало быть, не странные случайности войны, не свирепость победоносных солдат были причиной погибели тех, кого вы называли моими благодетелями, когда иногда соглашались, что мои мнимые сны были действительностью?.. Отмстить за них!.. Они погибли от оружия?
– От шпаги и от кинжала.
– О, хотелось бы мне иметь и то, и другое, чтобы вонзить в сердца убийц! – вскричала Валентина со свирепой восторженностью!
Вдруг рукою, остававшейся свободной, Норбер отворил ящик в бюро и вынул оттуда вещь, которую подал Валентине.
– Ваша воля разрушает мою волю, – сказал он, – вот кинжал!.. Я вынул его из груди Рене... но я не поднял шпагу, оставшуюся возле Сабины.
Валентина де Нанкрей отступила с ужасом перед этим оружием, заржавевшим от крови, родственной ей, перед орудием преступления, сделавшего её сиротой. Но непреодолимое желание узнать убийцу своих родных, искушение мрачное и непреодолимое, как рок, победило её глубокое волнение. Она взяла кинжал и взгляд её, сверкавший в темноте, устремился на герб, вырезанный на ручке кинжала.
– Герб Камиллы де Трем, моей монастырской подруги! – сказала она с ужасом.
Положив руку на плечо старика, она прибавила:
– Зачем Рене и Сабина де Нанкрей умерли? Кто убил моего отца и мою мать?
– Граф Филипп де Трем, – торжественно произнёс Норбер, – потому что он ревновал к Рене и хотел соблазнить Сабину.
Глава III
РУКОПИСЬ
 ассвет застал Валентину, ещё погруженную в чтение рукописи Норбера. Когда лунатик сказал, что граф де Трем, отец её подруги, убил её родителей, Валентина вскричала:
ассвет застал Валентину, ещё погруженную в чтение рукописи Норбера. Когда лунатик сказал, что граф де Трем, отец её подруги, убил её родителей, Валентина вскричала:
– Я хочу узнать подробно эту ужасную историю, хочу! Слышите ли вы?
– Читайте! – отвечал ей Норбер, всё ещё находясь под влиянием молодой девушки. – Читайте, – повторил он, указывая на рукопись перед собою.
Валентину де Нанкрей тронуло страдание, выражавшееся во всём существе старика. Он подчинялся влиянию, которое его терзало, которое вырывало из его сердца тайны, коих он никогда не выдал бы, особенно ей, если бы он не находился в состоянии сомнамбулизма и, следовательно, обладал бы свободой воли. Нежность, которую Норбер умел внушить ей, пробудила в девушке глубокое угрызение совести при виде его расстроенного лица.
– Боже мой, – закричала она, – что я сделала!.. Батюшка! Мой добрый батюшка, простите, что я вас так мучила... но неумолимый долг побуждает меня непреодолимо... Как возвратить вам спокойствие? Скажите мне, заклинаю вас!
– Прикажите, чтобы я спал, – отвечал лунатик.
– Спите! – сказала Валентина, освоившаяся со своей сверхъестественной властью.
Норбер тотчас встал и направился к выходу вместе с девушкой. Валентина едва успела только прихватить рукопись и заткнуть за пояс кинжал полковника де Трема. Старик Норбер и наследница Нанкреев прошли пустые комнаты, но не девушка вела старика; она, в свою очередь, повиновалась почти насильно старику. Он держал лампу в той руке, которую сжимала Валентина, а другой рукой отпирал и запирал двери ключом с изумительной быстротой лунатиков.
Таким образом дошли они до комнаты Норбера, где старик сделал несколько шагов, шатаясь, и, побеждённый сном, упал на постель. Глаза его закрылись, дыхание выровнялось. Валентина воротилась в свою комнату, совершенно успокоившись относительно последствий припадка, который перенёс старик. Для большей предосторожности, чтобы этот припадок не возобновился, уходя, она заперла дверь Норбера на ключ.
Валентина занимала самую лучшую комнату в замке. Воротившись туда, она тотчас начала читать рукопись.
Это была история дома Нанкреев с начала его происхождения, то есть от Первого крестового похода, история, написанная Норбером, который обладал учёностью бенедиктинцев.
Вес подвиги предков Валентины рассказывались в этой хронике, иногда красноречивой. Эти простые рыцари были бескорыстны до такой степени, что никогда не добивались более высокого звания взамен услуг, которые они оказывали своим государям. Каждый из них, по мнению современников, мог бы прибавить к своему имени эпитет первого из их поколения – Жеральда Безупречного... Каждый, кроме последнего. Историк сообщал, что он умер насильственной смертью в 1621 году, оставив свою память омрачённой двойным обвинением в измене: королю и своим друзьям-протестантам.
«Общественный голос утверждает, – рассказывала рукописная хроника, – что он послал ложное известие монтобанскому губернатору, чтобы принудить его напасть на тех, кого послал Людовик XIII по условию завладеть одними из ворот города. Если бы вследствие этой атаки взбешённые католики взяли город приступом и его проделка открылась, он доказал бы королю, слепому врагу реформы, что, действуя таким образом, он доставил ему полную покорность гугенотов, без условий и без всяких уступок. Если, напротив, – а так и случилось, – кальвинисты одержали бы верх, он должен был занять место маркиза де ла Форса в гугенотской партии и получить денежные выгоды, которые серьёзный успех в военной хитрости (как он называл свою подлую засаду) предоставляет в военное время. К счастью, друг Рене де Нанкрея, душа доблестная и твёрдая, помешал ему извлечь из этого выгоду со стороны протестантов, оставшихся победителями в кровопролитной борьбе, где изменник вёл двойную игру. Граф Филипп де Трем, полковник королевского полка, не допустивший Монтобанскую ретираду, узнал гнусную тайну ренегата и сделался для него новым Брутом; он убил его в день измены, а жена его, Сабина де Лагравер, доведённая до отчаяния позором, завещанным ей мужем, пронзила себе сердце на его трупе шпагой, обесславленной им».
«Вот, – прибавлял летописец, – что сказали и разгласили о самом честном, самом храбром, самом великодушном дворянине, Рене де Нанкрее, самой чистой жертве наших междоусобных распрей! А вот вся истина, опровергающая гнусную ложь, которую демон в человеческом обличье сумел выдать за правду и которой поверила всеобщая слепота. Но виновник всех этих преступлений, убийца, лишивший чести Рене де Нанкрея, и жизни его и Сабину де Лагравер, граф Филипп де Трем искупает теперь своё преступление перед вечным судом».
Норбер рассказывал далее подробно истинную историю Монтобанской измены. Число, поставленное на этом рассказе, показывало, что он был написан в 1625-м, через четыре года после катастрофы. Этот рассказ заканчивал собственно так называемую летопись далёких событий. Но рукопись продолжалась, через три белые страницы, уже в форме мемуаров или личных записок.
«Мне было позволено, – сообщал Норбер, – распутать эту мрачную тайну только с 1624 года. Кардинал де Ришелье заступил при Людовике XIII на место маркиза де ла Вьевиля, арестованного и отвезённого в замок Амбуаз по приказанию короля. И однажды ночью меня и Валентину де Нанкрей, которая вследствие несчастий её родителей осталась под моими смиренными попечениями, увезли из Лагравера в Париж во дворец кардинала. Он внимательно смотрел на девочку, которой пошёл тогда девятый год, потом отвёл меня в сторону.
– Зачем, – спросил меня кардинал, – вы выдаёте за вашу дочь единственную наследницу Нанкреев?
– Уверяю вас, монсеньор...
– Не лгите, я знаю всё! – строго перебил он меня. – После грабежа и пожара замка её отца вы отправились с этой девочкой и своим сыном в скромный замок за несколько лье от Нанкрея, принадлежащий той же фамилии. Станете ли вы отпираться в этом?
– Нет, монсеньор.
– Вы воспользовались тем, что немногие слуги в Нанкрее погибли от ярости солдат, и уверили лаграверских слуг, которых было ещё меньше, что их молодая госпожа сделалась добычей пламени.
– Не стану отпираться.
– Этот обман был тем для вас легче, что лаграверские слуги и фермеры все недавно были сменены. Никто из них не видал наследницы Рене де Нанкрея до той минуты, когда вы представили её им как вашу незаконную дочь. Вы уверили всех их, что скрывали до сих пор её существование из опасения заслужить порицание вашего брата и главы дома, от которого вы происходили с незаконной стороны. Так ли это?
– Так, монсеньор.
– Ну, я также подробно знаю тайные причины, направлявшие ваши поступки... Брат ваш по крови тайно продал вам Лаграверский замок со всеми его принадлежностями, в случае смерти его единственной дочери, потому что у него и жены его Сабины остались только дальние родственники. Это из корыстолюбия...
– Монсеньор, – перебил я, – всё имущество Валентины де Нанкрей конфисковано за мнимую измену её отца. Если бы не купчая, позволившая мне сохранить для неё скромное убежище, она странствовала бы теперь, как нищая... Прикажите обыскать мои бумаги, и в них вы найдётся дарственную запись, по которой я возвращаю Валентине по её совершеннолетии имение, на которое я смотрю как на вверенный мне залог.
– Итак, вы из преданности скрывали от этой сироты и от всех её происхождение?
– Монсеньор, накажите убийцу Рене и Сабины де Нанкрей, восстановите честь её отца, и я тогда, может быть, скажу моей воспитаннице, кто она... Иначе, я умоляю вас именем вашего священного звания, сохраните в тайне то, что узнали вы... Предоставьте Валентине думать, что она моя дочь, – я знаю смелую душу этого ребёнка. Как только она узнает печальную историю своих родителей, она будет стараться отмстить за них... А подумайте, монсеньор, у графа Филиппа де Трема три сына... Несмотря на всё своё мужество, что сделает моя бедная горлица одна против этих ястребов?
– Так вы уверили вашу воспитанницу, что её зовут Валентина Лагравер, по имени земли, купленной вами только для того, чтобы предохранить её от последствий мщения?
– Да, я для этого солгал, в чём каюсь каждую ночь под власяницей и одеждой кармелитов!
– Но по естественному ходу дел, настанет день, когда вы оставите на земле вашу племянницу или в цвете молодости, или в зрелом возрасте... Осмелитесь ли вы, старик, унести в могилу тайну её происхождения? Не лишите ли вы её таким образом возможности восстановить честь её отца?
– Когда Господь призовёт меня к себе, я возьму с Валентины клятву, что какую бы причину к мщению ни узнала она впоследствии, она предоставила бы Господу наказать преступника. Я отдам ей рукопись, которую пишу тайно после убийства моего брата и его жены, эта история фамилии де Нанкрей...
– Если вы желаете, – медленно сказал кардинал после минутного размышления, – я разъясню некоторые пункты в этой драме, чтобы в вашем рассказе оказалась эта великая истина: кавалер Рене невиновен в Монтобанской измене, а настоящий преступник – граф Филипп де Трем. Я имею доказательства.
– Доказательства! – закричал я вне себя. – Доказательства! Стало быть, несправедливость будет заглажена, преступление будет наказано! Валентина, покровительствуемая вашим всемогуществом, не должна будет бояться сыновей человека, которого поразит не её личная месть, а закон... Благодарю вас за неё, монсеньор, благодарю!..
Холодная улыбка скользнула на губах министра.
– Вашей наивной честности неизвестна неумолимая политическая необходимость. Выслушайте меня – и вы поймёте, что надо, слышите ли? Надо верить в этом гибельном деле принятому мнению.
– Верить обвинению невинного и торжеству виновного. Верить лжи, когда вы сами говорите, что истина известна вам.
– Молчите! И выслушайте меня, повторяю вам, – повелительно произнёс Ришелье.
Тогда кардинал объяснил мне, каким образом он проследил за полковником Тремом, когда тот ночью бросил за монтобанские стены ложное известие, подтверждаемое запиской короля.
– В прошлом году, – продолжал кардинал, – когда маркиз де ла Форс сдал наконец Монтобан за маршальский жезл и большую денежную сумму, он отдал мне эти две бумаги, старательно им сохранённые. Письмо его величества могло быть украдено и ничем не свидетельствовало против полковника Трема, но в записке, приложенной к этому письму, упоминалось об имени его полка. И хотя почерк был изменен, преступник в своей поспешности не приметил, что он написал букву «Т» своим обычным почерком. Посмотрите.
Кардинал вынул две бумаги из железного шкафчика, между тем как его племянница, мадам де Комбале, играла с Валентиной в гостиной возле кабинета кардинала.
Одна бумага была благодарственным письмом, подписанным графом Филиппом вместо гувернёра брата короля, другая, вся измятая, заключала дьявольские строки, бывшие причиной кровавой монтобанской ошибки.
В самом деле буква «Т» имела в обоих письмах один и тот же характерный завиток. Я бросился к ногам кардинала.
– Ради справедливости, попранной ногами, – вскричал я, – ради останков человека, обвинённого напрасно самым жестоким образом, ради вашего собственного величия, монсеньор, начните процесс над злодеем Филиппом, изменником своему королю! Уличите его во лжи! Возвратите бедному ребёнку возможность носить его имя, омытое от бесславия!.. Сделайте это, монсеньор, и Всевышний благословит ваше правление, начатое великим делом правосудия. Он сделает из вас величайшего министра, какого когда-либо имела Франция!
Кардинал оставался безмолвен и смотрел на меня, нахмурив брови.
– Разве вы не поняли, – сказал он наконец, – что роль, которую обстоятельства вынудили меня сыграть в интриге графа де Трема, побуждает меня молчать об этом, пока я буду иметь власть, а я надеюсь, что это продолжится, пока я жив.
– А если я воспользуюсь вашими признаниями, – сказал я с порывом негодования, – и прямо обращусь к королю?
– Вы помешались, – презрительно отвечал министр. – Одним словом я могу приказать вас арестовать и... уничтожить как сообщника кавалера Рене. Отчего ваша горячая братская любовь пс побудила вас отомстить своей рукой графу Филиппу?
– Спаситель запрещает месть... Только меч закона даёт осуждённому время раскаяться.
– Вы человек достойный, – сказал кардинал. – У вас благородное и нежное сердце, которому не место в нашей жестокой эпохе. Теперь, когда я узнал вас хорошо, я вам сообщу, зачем вас привезли сюда. Я хочу загладить, насколько мне позволяют политические соображения, несправедливость судьбы к дочери благородного и несчастного Рене. Я беру на себя участь сироты, она будет моей воспитанницей так же, как и вашей. Конфискация лишит её всего, когда она сделается совершеннолетней, я назначу ей богатое приданое. А пока она должна получить воспитание, достойное её блистательной будущности. Она не воротится с вами в этот бедный Лаграверский замок, запрятанный в глуши Лангедока. Я отдам её в монастырь визитандинок[2]2
Визитандинки (визитантки) – монахини-затворницы Ордена посещения Пресвятой Девы Марии.
[Закрыть] в Париже, в убежище самых знатных сирот. Я знаю, что мадемуазель де Нанкрей протестантка, но вы сами добрый католик и не станете сопротивляться, чтобы ваша племянница воротилась в лоно истинной церкви».








