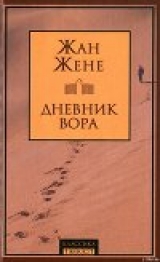
Текст книги "Дневник вора"
Автор книги: Жан Жене
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Медленно поворачиваясь, Стилитано отдавался любви, как отдаются солнцу, подставляя все тело его лучам. Когда мы встретились в Антверпене, он выглядел более солидным. Он не стал толстым, но слегка округлился. В его походке чувствовалась та же звериная, более мощная, более мускулистая, но менее стремительная, столь же нервная гибкость. Свет под хмурым небом, просачивавшийся сквозь испанские жалюзи на самой грязной улице Антверпена возле набережной Эско, прочертил на спине Стилитано полосы. Женщина в узком прямом платье черного атласа, которая шагала с ним рядом, явно была его подружкой. Увидев меня, он удивился и, как мне показалось, обрадовался.
– Жанно! Ты в Антверпене?
– Как дела?
Я пожал его руку. Он представил меня Сильвии. Сначала мне показалось, что он очень изменился, но лишь только он открыл рот, из которого мягко зажурчали слова, я узрел между его зубами знакомую белую пелену неведомого мне безупречного вещества и узнал прежнего Стилитано.
Я уклончиво сказал:
– Ты ее сохранил.
Стилитано понял мой намек, слегка покраснел и улыбнулся.
– Заметил?
– Еще бы! Ты так этим гордишься.
Сильвия спросила:
– О чем это вы?
– Куколка, люди разговаривают. Не встревай.
Эта нехитрая тайна сразу наладила между нами контакт. На меня нахлынули его прежние чары: мощные плечи, подвижные ягодицы, рука, которую, видимо, откусил ему в джунглях такой же хищник, и, наконец, половой орган, столь долго остававшийся недоступным, сокрытым в грозной, насыщенной губительными запахами ночи. Я снова оказался в его власти. Не ведая о роде его занятий, я был уверен, что он царит над миром трущоб, доков и баров, то бишь над всем этим городом. Обрести гармонию с вещами дурного вкуса – вот верх элегантности. Не дрогнув, Стилитано умудрился надеть на себя желто-зеленые ботинки крокодиловой кожи, костюм каштанового цвета, белую шелковую рубашку, розовый галстук, разноцветный платок и зеленую шляпу. Его наряд держался на булавках, пуговицах и золотых цепочках, и при этом Стилитано оставался элегантным. Рядом с ним я выглядел прежним бродягой, но это как будто его не смущало.
– Я здесь всего три дня, – сказал я.
– Выкручиваешься?
– Как водится.
Он улыбнулся:
– Помнишь?
– Ты видишь этого парня, – сказал он женщине, – это мой кореш. Братишка. Он может приходить на хазу, когда захочет.
Они повели меня ужинать в ресторан. Стилитано сообщил мне, что занимается торговлей опиумом. Его женщина была шлюхой.
При словах «опиум», «марафет» у меня разыгралось воображение: я представил Стилитано богатым опасным авантюристом. В виде хищной птицы, летавшей большими кругами. Однако хотя в его взгляде временами сквозила жестокость, у него не было жадности хищника.
Напротив, несмотря на все его показное богатство, он все еще жил играючи. Очень скоро я убедился, что роскошного у Стилитано был только внешний вид. Он жил в невзрачном отеле. Первым делом я разглядел на камине толстую кипу детских журналов с цветными картинками. Подписи под рисунками, уже не на испанском, а на французском языке, были столь же наивными, как и прежде, и герой, по-прежнему щеголявший почти нагишом, был так же красив, могуч и бесстрашен. Каждое утро Сильвия приносила свежие номера, и Стилитано прочитывал их в постели. Я подумал, что он провел два года на страницах пестрых детских сказок, в то время как его тело и, вероятно, разум мужали в стороне. Он перепродавал опиум, купленный у моряков, и присматривал за своей бабенкой. Все его добро было при нем: одежда, украшения и бумажник. Он предложил мне работать под его началом, и несколько дней я носил крошечные пакеты его молчаливым нервным клиентам.
Как и в Испании, с тем же проворством, Стилитано сошелся с антверпенской шайкой. Его угощали в барах, он приставал к девицам и гомикам. Зачарованный его новой красой, достатком и, возможно, терзаемый воспоминаниями о нашей дружбе, я дал волю своей любви. Я ходил за ним по пятам. Я ревновал его к друзьям, к Сильвии и страдал, когда около полудня он появлялся, благоухая духами и свежестью, но с тенями под глазами. Мы гуляли по набережной вдвоем и говорили о прошлом. Он расписывал мне свои подвиги, ведь он любил прихвастнуть. Мне же и в голову не приходило упрекнуть его за обман, предательство и трусость. Напротив, я восхищался тем, как просто и надменно он нес в моей памяти эту печать.
– Ты все еще любишь мужчин?
– Конечно. А что, это тебе неприятно?
Он отвечал с милой лукавой улыбкой:
– Мне? Ты что, сдурел? Наоборот!
– Почему наоборот?
Он замялся и переспросил:
– А?
– Ты говоришь: наоборот. Ты же их тоже любишь.
– Я?
– Ну да.
– Да нет, хотя иногда я спрашиваю себя, что это значит.
– Это тебя возбуждает.
– Ты что! Я же тебе говорю…
Он смущенно рассмеялся.
– А Сильвия?
– Сильвия зарабатывает мне на жизнь.
– И все?
– Да. С меня довольно.
Если, сохранив на меня свое влияние, он даст мне еще и повод для безумных надежд, Стилитано снова обратит меня в рабство. Я уже ощущал под собой зыбкую скорбную почву. Что мне сулили приступы его гнева? Я сказал ему об этом:
– Ты знаешь, что я по-прежнему от тебя балдею и хочу заниматься с тобой любовью?
Глядя мимо меня, он отвечал с улыбкой:
– Посмотрим.
После недолгой паузы он спросил:
– Что тебе нравится делать?
– С тобой – все!
– Поглядим.
Он даже глазом не моргнул. Он не сделал и шага ко мне, в то время как я всей душой жаждал погрузиться в него, желал придать своему телу гибкость ивы, чтобы опутать его, раскинуться, нависнуть над ним. Этот город был удручающим. Запах порта с его суетой действовал на меня тошнотворно. Фламандские докеры толкали нас, но изувеченный Стилитано был сильнее их. Возможно, у него в кармане, ибо он был восхитительно неосмотрительным, завалялись несколько зернышек опиума, которые делали их обладателя ослепительно возмутительным.
Чтобы попасть в Антверпен, я пересек территорию гитлеровской Германии, где провел несколько месяцев. Я прошел пешком от Бреслау до Берлина. Я хотел воровать. Но непонятная сила удерживала меня. Германия наводила ужас на всю Европу, для меня же она стала символом жестокости. Она уже была вне закона. Даже на Унтер-ден-Линден мне казалось, что я гуляю по стану разбойников. Я подозревал, что в голове самого щепетильного из берлинских бюргеров зарыт клад ненависти, двуличия, злобы, зависти и жестокости. Я упивался своей свободой среди народа, живущего по указке. Разумеется, я и здесь занимался своим ремеслом, но испытывал при этом некоторую неловкость, ибо то, что лежало в его основе и что из него вытекало – причудливая нравственная позиция, возведенная в гражданскую доблесть, – было известно всей нации и направляло ее против других народов.
«Это страна воров, – чувствовал я в глубине души. – Воруя здесь, я не совершаю ничего особенного, а подчиняюсь заведенному порядку и не нарушаю его. Я не творю зла, не возмущаю спокойствия. Скандал здесь немыслим. Я ворую впустую».
Мне казалось, что ведающие законами боги не гневались, а находились в растерянности. Мне было стыдно. Но больше всего мне хотелось вернуться в страну, где свято чтут законы привычной морали, на которых зиждется жизнь. В Берлине я решил зарабатывать на жизнь проституцией. Несколько дней я был доволен, а затем мне это наскучило. Антверпен манил меня сказочными сокровищами, фламандскими музеями, еврейскими ювелирами, судовладельцами, гулявшими ночи напролет, пассажирами океанских лайнеров. Пылая страстью, я жаждал изведать со Стилитано опасные приключения. Казалось, что он тоже хочет предаться игре и ослепить меня своей храбростью. Однажды вечером он заехал за мной в отель на полицейском мотоцикле, управляя одной рукой.
– Я спер его у легавого, – сказал он с улыбкой, не соизволив слезть с мотоцикла.
Однако, поняв, что, сидя в седле, может своей позой свести меня с ума, он слез с мотоцикла, осмотрел для вида мотор и, усадив меня сзади, тронулся с места.
– Надо сразу избавиться от мотоцикла, – сказал он.
– Ты спятил. Можно провернуть кое-какие дела…
Разгоряченный ветром и быстрой ездой, я чувствовал себя вовлеченным в головокружительную погоню. Часом позже мы продали мотоцикл греческому моряку, который тотчас же погрузил его на судно. Это дало мне возможность увидеть Стилитано в настоящем деле, ибо продажа машины, торг и конечный расчет по хитрости не уступали самой краже.[23]23
Когда на днях сын жандарма и начинающий полицейский Пьер Фьевр (ему 21 год) сказал мне, что хочет быть сыщиком, чтобы ездить на мотоцикле, я растрогался. Перед моим взором опять возник зад Стилитано, вдавленный в кожаное седло украденного мотоцикла.
[Закрыть]
Как и я, Стилитано был не вполне взрослым. Он изображал из себя гангстера, не просто был им, но еще и разыгрывал соответствующую роль. Я не знаю ни одного вора, который в душе не был бы ребенком. Разве «серьезный» человек, проходя мимо ювелирного магазина или банка, станет не шутя, тщательно обдумывать план налета или ограбления? Откуда у него появится мысль о союзе, основанном не на корысти сообщников, а на взаимном согласии, родственной дружбе, как не из фантазии беспричинной игры, именуемой романтизмом? Стилитано играл. Ему нравилось быть вне закона, чувствовать себя под угрозой. Он стремился к этому из любви к эстетике. Он пытался копировать идеального героя, Стилитано, образ которого уже воззнесся на небо, осиянный славой. Таким образом, он подчинялся законам, предписанным ворам и создающим воров. Без них он был бы ничем. Пребывая поначалу в ослеплении от его сиятельного одиночества, спокойствия и безмятежности, я решил, что он сотворил себя сам, стихийно, ведомый лишь неосторожностью и дерзостью своих начинаний. Однако он искал образец. Может быть, его идеал был воплощен в победоносном герое детских журналов? Во всяком случае, легкая мечтательность Стилитано превосходно сочеталась с его мускулами и жаждой действия. Рисованный герой, безусловно, в конце концов вписался в сердце Стилитано. Я уважаю его еще и за это, ибо, хотя внешне он держался безупречно, его душа и тело были скованны – так, своей женщине он неизменно отказывал в нежности.
Мы стали видеться каждый день, не раскрываясь друг перед другом до конца. Я обедал у него в комнате, и по вечерам, когда Сильвия работала, мы ужинали вдвоем. Затем мы слонялись по барам, стараясь напиться. Кроме того, каждую ночь он танцевал с молодыми красотками. Как только он приходил, атмосфера в баре менялась – сперва у его стола, мало-помалу распространяясь дальше. Она становилась тяжелой и лихорадочной. Почти каждый вечер этот великолепный однорукий дикарь дрался, размахивая деревянным молотком, который он заранее вынимал из кармана. Докеры, моряки, сутенеры обступали нас плотным кольцом или приходили к нам на подмогу. Эта жизнь изнуряла меня, я предпочел бы бродить по набережным, в тумане и под дождем. В моей памяти эти ночи усеяны звездами. Один журналист написал по поводу какого-то фильма: «Любовь расцветает на поле брани». Эта дурацкая фраза как ни одна красивая речь напоминает мне о цветах под названием «львиный зев», растущих среди колючек, а они – мою бархатистую нежность, которую ущемлял Стилитано.
Иногда, когда он не поручал мне никаких дел, я крал велосипеды и продавал их в Голландии, в Маастрихте. Узнав, как ловко я перехожу границу, Стилитано отправился со мной в Амстердам. Город не вызвал у него интереса. Он велел мне ждать в кафе и ушел на несколько часов. Я знал, что его не следует ни о чем спрашивать. Его интересовала моя работа, а не наоборот. Вечером, когда мы пришли на вокзал, он вручил мне маленький перевязанный сверток толщиной с кирпич.
– Я сяду в поезд, – сказал он.
– А как же таможня?
– У меня все законно. Не волнуйся. Ты, как всегда, пойдешь пешком. Не раскрывай пакет, это для одного приятеля.
– А если меня сцапают?
– Не шути с этим, а то тебе не поздоровится, солнышко.
Умело опутывая меня своими гибельными чарами, в которых я вечно буду барахтаться, исполняя его прихоти, он ласково поцеловал меня и направился к поезду. Я провожал взглядом этот невозмутимый Рассудок, хранитель Свода законов, в чьей уверенной поступи, беспечности, почти безоблачном танце ягодиц чувствовалась непреклонная воля. Я не знал, что лежало в пакете, который был признаком доверия и удачи. Благодаря ему мне предстояло пересечь границу не ради своих жалких нужд, а по велению, по приказу августейшего Господина. Лишь только Стилитано скрылся из вида, как все мои помыслы устремились на его поиски, и сверток стал моей путеводной нитью. Во время моих походов (грабежей, разведок, побегов) вещи становились одушевленными. Ночь начиналась с заглавной буквы. В камнях, в придорожных булыжниках появлялся смысл, который вынуждал меня заявить о себе. Деревья шарахались при моем приближении. Мой страх назывался паникой. Дух каждой вещи, который только и ждал моей дрожи, чтобы прийти в волнение, он выпускал на свободу. Вокруг меня легко трепетал безжизненный мир. Даже с дождем я мог бы вести разговор. Вскоре я стал считать это чувство исключительным, предпочитая его тому, что его породило, – страху, а также причине страха – грабежам и бегству от полиции. Эта тревога, разгуливавшаяся по ночам, в конце концов смутила покой моих дней. Я очутился в загадочном мире, утратившем будничный смысл. Надо мной нависла угроза. Я уже расценивал вещи не соответственно их повседневному назначению, а в зависимости от дружелюбной тревоги, которую они мне внушали. Сверток Стилитано, покоившийся под рубашкой на моей груди, выдавал, еще более обрисовывал тайну каждой вещи, разгадывал ее с помощью блуждавшей на моих устах, обнажавшей зубы улыбки, на которую он разрешил мне отважиться, чтобы расчистить мой путь. А что, если я нес украденные драгоценности? Скольких хлопот полицейских, скольких усилий ищеек, полицейских собак, скольких секретных депеш стоил этот крошечный сверток? Стало быть, мне предстояло расстроить козни вражеских сил. Меня ждал Стилитано.
«Он изрядная сволочь, – говорил я себе. – Он старается не запачкать рук. Впрочем, это не оправдание, ведь у него только одна рука».
Придя в Антверпен, я направился прямиком к нему в гостиницу, даже не побрившись и не умывшись, ибо хотел явиться к нему в триумфальном ореоле щетины, грязи и усталости, от которой гудели ноги. Не так ли увенчивают героя лавром, осыпают цветами, украшают золотыми цепями? Я же ничем не прикрывал наготу победы.
Представ перед Стилитано в его доме, с наигранной непринужденностью я протянул ему сверток:
– Держи.
Он улыбнулся с торжествующим видом. Думаю, он знал, что причиной успеха была его власть надо мной.
– Все прошло гладко?
– Без сучка без задоринки. Это было легко.
– А!
Он снова улыбнулся и добавил: «Тем лучше». Я не решался ему сказать, что он тоже проделал бы этот путь без помех, уже понимая, что Стилитано – это плод моего воображения и в моих силах его уничтожить. При этом я знал, что Богу нужен ангел, называемый вестником, для определенных поручений, которые не по плечу ему самому.
– А что там внутри?
– «Травка», само собой.
Я пронес опиум, не забывая об этом.[24]24
1947 год. Я узнаю из вечерней газеты, что его арестовали за ночной вооруженный разбой. Газета пишет: «Прекрасный калека был бледен…» Эта заметка не вызывает у меня никаких эмоций.
[Закрыть] Но я отнюдь не презирал Стилитано за то, что он подставил меня.
«Это нормально, – говорил я себе, – он сволочь, а я болван».
За то, что он так повел себя по отношению ко мне, я испытывал к нему благодарность. Если бы он совершил на моих глазах множество дерзких поступков без моего участия, став одновременно их причиной и целью, Стилитано утратил бы всякую власть надо мной. Втайне я считал, что он не способен всецело отдаться действию. Поблажки, которые он давал своему телу, были тому порукой: ванны, духи, мягкость очертаний его тела. Зная, что мне придется быть проводником его действий, я привязался к нему и не сомневался, что черпаю свою силу в примитивной сумбурной мощи, составлявшей его основу.
Тогдашнее время года (осень), дождь, пасмурный цвет построек, тяжеловесность фламандцев, своеобразный характер города, а также моя нищета, наводившая на меня уныние, – все эти явления, перед которыми я тушевался, породили во мне черную меланхолию. В пору немецкой оккупации я видел в кинохронике похороны ста – ста пятидесяти жертв бомбежки Антверпена. Усыпанные тюльпанами или далиями гробы, выставленные на руинах Антверпена, были похожи на цветочные лотки, перед которыми проходили с благословением толпы священников и церковных певчих в кружевных стихарях. Эта картина – последняя в моей памяти – наводит меня на мысль, что Антверпен открывал мне теневые стороны жизни. «Они отпевают город, – сказал я себе, – духом которого, как я догадался еще тогда, является Смерть». Между тем от одного лишь вида вещей все расплывалось в моих глазах, будто от страха. Затем нечеткость исчезла. Мое восприятие приобрело необыкновенную ясность. Когда же простейшие вещи утратили свой привычный смысл, я стал задаваться вопросом, правильно ли пить из стакана и надевать башмаки. Когда в каждой вещи открылось причудливое значение, мне было уже не до счета. Мало-помалу Стилитано начал терять неимоверную власть надо мной. Он считал меня рассеянным – я был внимательным. Я отсутствовал, даже когда говорил. Из-за сопоставлений, подсказанных мне вещами с несовместимым предназначением, моя речь принимала комичный характер.
– Ей-Богу, ты становишься малахольным.
– Малахольным! – повторял я, вытаращив глаза.
«Малахольный». Я как будто припоминаю еще, что мне открылась абсолютная истина, когда в своей ослепительной отрешенности я созерцал забытую на проволоке бельевую прищепку. Изящество и необычность этого маленького предмета были восприняты мной как должное. События обретали независимость в моем сознании. Читатель догадывается, насколько опасной была такая позиция при моем образе жизни, когда мне следовало все время быть начеку: теряя из виду привычный смысл вещей, я рисковал поплатиться свободой.
С помощью Стилитано, следуя его советам, мне удалось элегантно одеться, хотя эта элегантность была своеобразной. Презрев суровую моду шпаны, я стал одеваться с фантазией. И вот, как только я перестал быть нищим, отрезанным позором от практичного мира, этот мир начал от меня ускользать. Я различал лишь суть, а не свойства вещей. К тому же мой юмор отталкивал от меня людей, к которым я был страстно привязан. Я чувствовал себя обреченным и нелепо пустым.
Молодой сутенер в баре, сидя на корточках, играл со своей собачонкой; хотя эта шалость казалась мне столь неуместной в подобном месте, я радостно улыбнулся «коту» и его собаке – я их понимал. Как и то, что автобус, набитый серьезными деловыми людьми, может галантно затормозить по едва уловимому знаку мизинца ребенка. Если жесткая волосинка угрожающе торчала из ноздри Стилитано, я, не раздумывая, хватался за ножницы и отрезал ее.
Когда впоследствии, не отрекаясь от потрясения, вызванного красотой какого-нибудь парня, я проявлю такое же безразличие, когда я, примирившись со своим волнением и отказав ему в праве командовать мной, изучу свои чувства с той же трезвостью, я постигну свою любовь; отталкиваясь от нее, я установлю контакт с окружающим миром – тогда-то явится понимание.
Но Стилитано был разочарован. Я больше ему не служил. Даже когда он колотил и бранил меня. Антверпен утратил в моих глазах свое скорбное очарование города морской беспутной поэзии. Я стал зорким, и со мной могло случиться все что угодно. Я был готов совершить преступление. Этот период, возможно, длился полгода. Я вел целомудренный образ жизни.
Арман был в отъезде. Хотя порой я слышу, что его величают иначе, мы сохраним это имя. Разве я сам не ношу сегодня имя Жан Гальен – пятнадцатое или шестнадцатое по счету? Он был во Франции, откуда, как мне позже стало известно, привозил опиум. Необходимо, чтобы чье-то лицо на миг предстало передо мной, чтобы я смог охарактеризовать его одним-единственным словом. Если оно задержится на каком-то одном выражении – верности, ясности, честности, – то складка у рта, взгляд либо улыбка затруднят толкование. Лицо становится все более сложным. Черты переплетаются – их невозможно прочесть. В лице Стилитано я силился разглядеть жестокость, которую портили лишь иронические морщинки в уголках глаз или рта. Лицо Армана было лживым, замкнутым, злым, коварным и грубым. Конечно, теперь, когда я узнал этого человека, это нетрудно заметить, но я уверен, что и первоначальное мое впечатление от его пороков, чудесным образом сосредоточенных только на лице, было верным. Лицемерие, злость, глупость, жестокость, свирепость – все эти качества можно свести к одному. Не просто их совокупность виднелась на этом лице, на нем можно было прочесть не в пространстве – во времени, в соответствии с моим настроением или в зависимости от внутренней жизни Армана, причину, из-за которой эти свойства столь явно проступали в его чертах. Он был зверь, не наделенный классической красотой, но присутствие на его лице этих черт, не замутненных свойствами противоположного рода, придавало ему мрачный, хотя и ослепительный вид. Он обладал невиданной физической силой. В ту пору ему было лет сорок пять. Поскольку он так долго носил в себе свою мощь, она не причиняла ему неудобств. В конце концов он сумел извлечь из нее такую пользу, что эта мощь, эта крепость мускулов, проглядывавшая в форме черепа и в шейных мышцах, окончательно закрепила и утвердила в нем гнусные качества. Они отражались в его силе как в зеркале. Он был курносым, видимо, от природы, поскольку не похоже, чтобы форму носа ему испортил удар кулака. Мощные челюсти, круглая, почти всегда бритая голова. Три складки, образованные кожей на затылке, лоснились от жира. Он был высок и превосходно сложен. Движения неторопливые и тяжеловесные. Он смеялся редко и фальшиво. Низкий глухой голос, почти бас, который звучал приглушенно. Когда Арман говорил быстро или на ходу, то ускоренный темп речи, не соответствовавший низкому тембру его голоса, создавал замечательный музыкальный эффект. При столь поспешных движениях можно было ожидать, что у человека высокий или же слишком низкий, тяжелый голос, но его голос был легким. Это противоречие рождало изысканные модуляции. Арман едва проговаривал слова. Их слоги не сталкивались друг с другом. Его язык был прост, и слова следовали друг за другом с горизонтальной плавностью. Его голос давал понять, что в молодости им восхищались, и прежде всего мужчины. Вызывающая уверенность позволяет распознать тех, кто своей красотой или силой вызывал восхищение у мужчин. Они и более уверенны в себе, и в то же время более падки на лесть. Голос Армана задевал некую точку в моем горле, и у меня перехватывало дух. Он почти никогда не спешил, но, если вдруг ему надо было успеть на свидание и когда он шел свободной походкой между Стилитано и мной с высоко поднятой, слегка устремленной вперед головой, его голос, набиравший темп со все более низким тембром, достигал вершин мастерства. Лишь только сгущался туман, из горла этого силача исходил безоблачный голос. Казалось, что он принадлежит торопливому, легкому, веселому, праздничному подростку, уверенному в своем обаянии, своей силе, красоте и необычности, в красоте и необычности своего голоса.
Мне кажется, что его органы, состоявшие из примитивной, но прочной ткани, его горячие плодородные внутренности вырабатывали желание навязывать, пускать в ход, проявлять лицемерие, глупость, злобу, жестокость, раболепие и таким образом извлекать для себя непотребную пользу. Я встретил его у Сильвии. Когда я вошел в ее комнату, Стилитано сказал ему скороговоркой, что я француз и мы с ним познакомились в Испании. Арман слушал стоя. Он не подал мне руки, но посмотрел на меня. Я остался у окна, не вмешиваясь в разговор. Когда они решили отправиться в бар, Стилитано сказал:
– Ты пойдешь, Жанно?
Не успел я ответить, как Арман сказал:
– Ты что, всегда водишь его за собой?
Стилитано засмеялся и сказал:
– Если тебе это не в кайф, можно его оставить.
– Да нет, забирай его.
Я пошел за ними. Выпив, они попрощались, и Арман снова не подал мне руки. Он ушел из бара, даже не взглянув на меня. Стилитано не сказал мне о нем ни слова. Несколько дней спустя я столкнулся с Арманом в порту, и он велел мне следовать за ним. Без лишних слов он привел меня к себе и овладел мной с тем же нарочитым презрением.
Подчинившись его силе и старшинству, я трудился с превеликим усердием. Подмятый грудой мяса, лишенной и проблеска мысли, я наконец изведал головокружительное чувство от встречи с законченным скотом, безучастным к моим желаниям. Я узнал, что шерсть, густо растущая на теле, животе и бедрах, может таить в себе нежность и заражать своей силой. В конце концов я смирился с тем, что эта бурная ночь окутала меня своим саваном. То ли из признательности, то ли от страха я запечатлел поцелуй на мохнатой руке Армана.
– Что с тобой? Ты заболел?
– Я же не сделал ничего плохого.
Я остался с ним, чтобы услаждать его по ночам. Перед сном, вынимая свой кожаный ремень из брюк, он хлопал им как бичом. Он стегал им невидимую жертву, чью-то прозрачную плоть. В воздухе разливалась кровь. В такие минуты он наводил на меня страх своим бессилием стать тем огромным свирепым Арманом, которым он был в моих глазах. Щелканье бича сопровождало его повсюду и защищало его. От ярости и отчаяния, оттого, что он не был им, он вздрагивал, словно лошадь, испугавшаяся тени, вздрагивал снова и снова. Между тем он не мог допустить, чтобы я оставался без дела. Он послал меня рыскать возле вокзалов и зоопарка в поисках клиентов. Зная, какой ужас он мне внушает, Арман даже не удосуживался за мной проследить. Я отдавал ему всю свою выручку без остатка. Он же работал в барах – пускался на всякие аферы с докерами и моряками. Его уважали. Подобно всем «котам» и городской шпане, он носил холщовые туфли на веревочной подошве. Его бесшумные шаги становились более весомыми и упругими. Часто он надевал матросские брюки толстого голубого сукна, так называемая «палуба» которых никогда не была застегнута до конца, либо слегка оттопыривался карман на животе. Он двигался такой вихляющей походкой, что никто не мог с ним в этом сравниться. Мне кажется, что она оживляла в нем память о его двадцатилетнем теле – теле матроса, повесы, «кота». Он не изменял ей – точно так же, как другие остаются верны моде своей юности. Несмотря на свой вызывающе сексуальный вид, он стремился вдобавок усилить чувственность с помощью жестов и слов. Мне, привыкшему к сдержанности Стилитано и к грубости докеров в барах, нередко доводилось быть то свидетелем, то предметом его слишком вольных, с уточнением всех деталей, речей. Перед любой аудиторией Арман с упоением вещал о своем половом органе. Никто не прерывал его монолога, разве что какой-нибудь грубиян, покоробленный его тоном и словами, осаживал его.
Подчас, выпивая у стойки бара, он ласкал себя, держа руку в кармане. В иной раз он хвастался величиной и красотой – а также силой и даже умом – своего и вправду массивного члена. Не понимая, чем объяснить такую одержимость своим половым органом и его мощью, я восхищался Арманом. На улице он привлекал меня к себе одной рукой, как бы желая обнять, и эта же протянутая рука грубо отпихивала меня. Поскольку я ничего не знал о его прошлом, кроме того, что этот фламандец избороздил весь мир, я силился разглядеть в нем отметины каторги, откуда он сбежал, из которой, видимо, и взялись этот бритый череп, литые мускулы, коварство, жестокость и необузданность.
Встреча с Арманом произвела такой переворот в моей жизни, что Стилитано как бы отдалился от меня во времени и пространстве, хотя мы продолжали часто встречаться. Дело в том, что я вступил в брак с этим парнем, твердость которого, слегка прикрытая иронией, очень давно, где-то на краю света, внезапно обернулась восхитительной мягкостью. Пока я жил с Арманом, Стилитано никогда не шутил по этому поводу. Его тактичность причиняла мне легкую боль. Вскоре он стал для меня воплощением Почивших Дней.
В отличие от него Арман не был трусом. Он не только не отказывался от поединков, но и совершал опасные вылазки. Он задумывал их и приводил в исполнение. Через неделю после нашей встречи он сказал мне, что отлучится, и я должен был его дожидаться. Оставив мне свои вещи – чемодан с кое-каким бельем, – он ушел. В течение нескольких дней я блаженствовал, избавившись от гнетущего страха. Я часто прогуливался со Стилитано.
Если бы он не поплевал на руки, чтобы повернуть ворот, я бы не обратил внимания на этого парня моих лет. От его жеста, характерного для рабочих, у меня так сильно закружилась голова, что я почувствовал, как лечу в пустоту. Я очнулся в давно позабытом времени или затерянном уголке своей души. Сердце мое проснулось, и мое тело одним махом стряхнуло с себя оцепенение. С точностью и лихорадочной быстротой я изучал этого парня: его жест, волосы, крестец, изгиб его тела, карусель, на которой он работал, движение деревянных лошадок и музыку, ярмарочное гулянье и город Антверпен, где все это происходило, землю, которая вращалась с опаской, Вселенную, хранившую сей драгоценный груз, и себя самого, осознанно владевшего этим миром и испуганного таким обладанием.
Я не разглядел его плевка, заметив лишь подергивание щеки и кончик языка между зубами. Я видел также, как парень потер свои жесткие черные ладони. Нагнувшись, я узрел кожаный ремень, потрескавшийся, но прочный. Подобный ремень не мог быть украшением вроде ремешков всяких модников. Все в этом поясе – и материал и толщина – было преисполнено чувства ответственности: на нем держались брюки, скрывавшие самый очевидный признак мужского пола, без ремня они были бы ничем, не смогли бы сберечь, утаить свое сокровище и упали бы к ногам сбросившего путы жеребца. Между штанами и курткой парня виднелось голое тело. Ремень не был пропущен сквозь петли и приподнимался при каждом движении, брюки же опускались все ниже. Оторопев, я не сводил с него глаз. Я видел, что ремень действует наверняка. При шестом наклоне он уже опоясывал, не считая того места над ширинкой, где сходились оба его конца, голую талию парня.
– Ну что, загляделся? – спросил меня Стилитано, заметив мой взгляд.
Он говорил не о карусели, а о ее добром духе.
– Ступай, скажи, что он тебе нравится.
– Не издевайся.
– Я не шучу.
Он улыбнулся. Будучи слишком молодым и не имея вида, который дал бы мне право заговорить с парнем или взирать на него с легким наигранным высокомерием, напускаемым на себя изысканными господами, я хотел отойти. Но Стилитано схватил меня за рукав:
– Иди сюда.
Я вернулся.
– Отстань от меня, – сказал я.
– Я же вижу, что он в твоем вкусе.
– Ну и что?
– Как что? Предложи ему выпить. – Он снова улыбнулся и спросил: – Боишься Армана?
– Ты – псих.
– Значит, ты хочешь, чтобы я к нему подошел?
В этот миг парень выпрямился; его лицо блестело от пота и было налито кровью, точно у пьяного. Поправив ремень, он подошел к нам. Мы стояли на дороге, а он – на деревянной платформе карусели. Встретив наши взгляды, он улыбнулся:

![Книга За ш[т]орами автора Галина Шаульская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-za-shtorami-351885.jpg)






