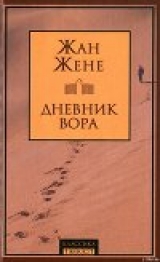
Текст книги "Дневник вора"
Автор книги: Жан Жене
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Как-то раз ему пришлось чуть ли не драться. Мы шли по calle Кармен, было уже почти темно. Тела испанцев приобретают порой струящуюся гибкость. Некоторые их позы кажутся двусмысленными. При свете дня Стилитано не обознался бы. В сумерках он повстречался с тремя мужчинами, которые говорили тихо, но жестикулировали и живо и томно одновременно. Поравнявшись с ними, Стилитано окликнул их вызывающим тоном, прибавив несколько грубых слов. Это были три крепких подвижных сутенера, и они ответили на его оскорбление. Стилитано остановился в замешательстве. Трое мужчин подошли к нему:
– Ты что, принимаешь нас за лидеров, раз позволяешь себе так разговаривать?
Стилитано уже понял свою оплошность, но решил похорохориться передо мной.
– Ну и что?
– Сам ты пидер.
Нас окружили женщины и мужчины. Драка казалась неизбежной. Один из парней подначивал Стилитано:
– Если ты не пидер, ударь меня.
Прежде чем пустить в ход кулаки или оружие, шпана долго разглагольствует, не только для того чтобы уладить конфликт, а возбуждая себя перед боем. Другие испанцы, приятели трех «котов», подзадоривали их. Стилитано почуял угрозу. Мое присутствие больше не смущало его. Он сказал:
– Бросьте, ребята, не будете же вы драться с калекой.
Он протянул им свою культю. Его жест был таким простым и сдержанным, что вместо того, чтобы внушить мне омерзение к Стилитано, это гнусное кривляние возвысило его в моих глазах. Его провожали не шиканьем, а шепотом, которым порядочные люди выражают свое смущение при столкновении с чужой бедой. Стилитано медленно отступал под защитой своего обрубка, который он выставил перед собой. Эта отсутствовавшая рука была настолько же реальной и действенной, как символ королевской власти, как рука правосудия.
Процессия тех, кого одна из них же зовет Каролинками, направилась к месту бывшей мужской уборной. Во время волнений 1933 года бунтовщики снесли один из самых грязных, но наиболее дорогих писсуаров города. Он находился около порта и казармы, и горячая моча десятков тысяч солдат разъела железо. Когда его гибель была окончательно засвидетельствована, Каролинки – не все, а лишь избранные для торжественного шествия – в шалях, мантильях, шелковых платьях и пиджаках с подкладными плечиками отправились к нему, чтобы возложить там венок красных роз, скрепленный траурной лентой. Процессия двинулась с Параллельо, пересекла calle Сан-Паоло, спустилась по Рамблас де Лос-Флорес и дошла до памятника Колумбу. «Голубых» было, должно быть, человек тридцать; они шествовали в восемь часов утра, на восходе солнца. Я следил за ними издалека, но был с ними душой. Я знал, что мое место – там, среди них, не потому, что я был одной из них, но мне казалось, что их пронзительные голоса, крики и театральные жесты преследовали единственную цель: они стремились пробиться сквозь толпу людского презрения. Каролинкам было присуще величие. Это были Дочери Срама.
Дойдя до порта, они свернули направо, к казарме, и на ржавое вонючее железо поверженного писсуара, на груду мертвого лома они возложили цветы.
Я не принимал участия в шествии. Я находился среди ироничной толпы, снисходительно забавлявшейся этим зрелищем. Педро беззастенчиво демонстрировал свои накладные ресницы, а Каролинки – свои безумные выходки.
Между тем Стилитано, уклоняясь от моей любви, становился символом целомудрия и сдержанности. Я не знал, как часто он встречается с девушками. Укладываясь в нашу постель, он проявлял стыдливость и так ловко засовывал между ног полу своей рубашки, что я не мог увидеть его половой орган. Даже томность его походки и правильные черты лица призывали его к порядку. От него веяло холодом, как от льдины. Самому дикому из негров с жутко курносым и свирепым лицом я хотел бы отдаться, дабы во мне было место только для секса и моя любовь к Стилитано приняла бы еще более утонченный характер. Таким образом, я имел право стоять перед ним в самых нелепых и унизительных позах.
Мы с ним редко бывали в «Криолле». До сих пор он никогда не пытался помыкать мной. Как-то раз, когда я принес ему несколько песет, заработанных в мужских писсуарах, Стилитано решил, что я буду работать в «Криолле».
– Ты хочешь, чтобы я переоделся женщиной? – пробормотал я.
Неужели я решусь, нацепив на себя юбку с блестками, марьяжить фраеров от calle Кармен до calle Медьода, опираясь на его могучее плечо? Это никого бы не удивило, разве что иностранных матросов, но ни Стилитано, ни я не смогли бы выбрать подходящее платье или прическу, ибо нам не хватало вкуса. Возможно, именно это нас удерживало: я не мог позабыть, как Педро, с которым мы подружились, стонал перед тем, как переодевался.
Когда я вижу эти лохмотья на вешалке, мне становится тошно! Мне кажется, что я вхожу в ризницу и собираюсь отпевать мертвеца. Они пахнут поповщиной, ладаном. Мочой. Они воняют! Я спрашиваю себя, каким образом мне удастся натянуть на себя эти кишки!
Мне предстоит носить такие же тряпки? Может быть, даже придется самому кроить их и шить с помощью моего мужчины. И вдобавок повязывать бант или несколько бантов на голове.
Я с ужасом представлял себя увенчанным огромными и пышными, но не бантами, а похабными бодрюшами.
Это будет потрепанный бант, нашептывал мне язвительный внутренний голос. Потрепанный стариковский бант. Потрепанный бант – прохвост! И в каких волосах ему предстоит красоваться? На искусственном парике или в моих грязных завитых патлах?
Я знал, что буду скромно носить очень простой наряд, в то время как единственный способ для меня выйти из тупика заключался в неистовой экстравагантности. Все же я лелеял мечту вышить на нем розу, которая испортит платье и станет женским вариантом виноградной кисти Стилитано.
(Много позже того как я оказался в Антверпене, я заговорил со Стилитано о фальшивой кисти, которую он прятал в штанах. В ответ он рассказал мне об одной испанской шлюхе, носившей под платьем розу из кисеи, пришпиленную на соответствующем месте. «На месте увядшего цветка», – сказал он.)
Я меланхолично разглядывал юбки в комнате Педро. Он снабдил меня адресами дамочек, торгующих туалетами, у которых я мог бы подобрать себе платье по росту.
– Жан, у тебя будет свой туалет.
Я чувствовал отвращение к этому скотскому слову (мне казалось, что «туалет» сродни жировой ткани, обволакивающей внутренности в чреве животных). Тогда же Стилитано, которого, возможно, коробило то, что его друг будет щеголять в женском наряде, отказался от этой мысли.
– Это не обязательно, – сказал он. – Ты и так сумеешь закадрить мужиков.
Увы! Хозяин «Криоллы» требовал, чтобы я переоделся девицей. Девицей!
Я – девица,
Я кладу на свое бедро…
Тогда же я понял, как трудно пробиться к свету, вскрывая гнойник стыда. Я смог только раз появиться переодетым вместе с Педро, выставить себя напоказ вместе с ним. Это случилось вечером, когда нас пригласила группа французских офицеров. За их столиком сидела дама лет пятидесяти. Она улыбнулась мне мило и снисходительно и, не удержавшись, спросила:
– Вы любите мужчин?
– Да, мадам.
– И… когда же именно это началось?
Я не дал никому пощечины, но мой голос прозвучал так взволнованно, что я осознал свою ярость и стыд. Чтобы отделаться от этих чувств, мне даже пришлось той же ночью ограбить офицера.
По крайней мере, говорил я себе, если мой стыд не наигран, то за ним скрывается нечто более острое и опасное, своего рода жало, которое вечно будет нацелено на тех, кто этот стыд вызывает. Может быть, он не стоял на моем пути, как ловушка, может быть, он не был намеренным, но, будучи тем же, что он, я хочу затаиться под ним и шпионить оттуда.
Во время карнавала было нетрудно переодеться, и я стащил из гостиничного номера андалузскую нижнюю юбку с корсажем. Однажды вечером, прикрывшись мантильей и веером, я пробежал через город, направляясь в «Криоллу». Чтобы несколько сгладить разрыв с вашим миром, я напялил юбку на брюки. Не успел я добраться до стойки, как затрещал шлейф моего наряда. Я обернулся, охваченный яростью.
– Простите. Я извиняюсь.
Нога белокурого юноши запуталась в моих кружевах. Я с трудом выдавил из себя: «Осторожно!» Лицо неуклюжего парня, который извинялся с улыбкой, было настолько бледным, что я покраснел. Рядом кто-то тихо сказал:
– Простите его, сеньора, он хромает.
«Хромайте себе на здоровье, но не на моем же подоле!» – завопила запертая во мне трагическая актриса. Но вокруг нас стоял хохот. «Не хромайте на моем туалете!» – вопил я в глубине души. Эта фраза, которая, казалось, возникала в моем желудке или в кишках, окутанных словом «туалет», должно быть, выражалась в ужасном взгляде. Разгневанный и униженный, я бросился вон под улюлюканье мужчин и Каролинок. Я добежал до моря и утопил в его водах юбку, корсаж, мантилью и веер. Весь город был навеселе; опьянев от этого Карнавала, оторванного от земли, он остался один в океане.[17]17
Перечитывая этот фрагмент, я обнаружил, что перенес в Барселону сцену, которая происходила в Кадисе. Об этом мне напомнила фраза «Один в океане». Стало быть, я допустил ошибку, переместив эпизод в Барселону, но в его описание закралась деталь, которая позволяет мне вернуть действие в реальное место.
[Закрыть] Я был бедным и грустным.
(«Требуется чувство изящного…» Я уже от него отрекался. Я запрещал себе это чувство. Естественно, я проявлял бы его на каждом шагу. Я знал, что, если бы мне привили вкус, это не облагородило бы меня, а размягчило. Сам Стилитано дивился, что я настолько неразвит. Я хотел, чтобы мои пальцы оцепенели: я не позволял себе научиться шить.)
Мы со Стилитано отправились в Кадис. Пересаживаясь с одного товарного поезда на другой, мы добрались до окрестностей Сан-Фернандо и решили продолжать путь пешком. И тут Стилитано пропал. Мы договорились встретиться на вокзале. Он не пришел. Я долго ждал, я ходил на вокзал два дня подряд, хотя и был уверен, что он меня бросил. Я остался один, без гроша в кармане. Осознав все это, я снова почувствовал досадное и в то же время приятное присутствие паразитов в изнаночных швах рубашки и брюк: Стилитано и я, мы были все теми же египетскими монахинями, которые никогда не моют ног и чьи сорочки воняют гнилью.
Сан-Фернандо стоит на берегу моря. Я решил перебраться в окруженный водой Кадис, связанный с материком длиннющей дамбой. Я ступил на нее под вечер. Впереди высились соляные пирамиды солончаков Сан-Фернандо, и дальше, в море, на фоне заката вырисовывался город куполов и минаретов: на краю западной земли я внезапно узрел синтетический образ Востока. Впервые в жизни вещи заслонили от меня человека. Я позабыл Стилитано.
Чтобы не умереть с голоду, я шел спозаранку в порт, где рыбаки обычно выбрасывают из лодок немного рыбы, выловленной ночью. Всем нищим известен этот обычай.
Вместо того чтобы варить ее на костре, как в Малаге вместе с другими босяками, я удалялся в одиночестве к скалам, обращенным к Порто-Реале. Когда моя рыба была готова, всходило солнце. Почти всегда я ел ее без хлеба и соли. Стоя, лежа или сидя на скалах, на восточной окраине острова, лицом к берегу, я был первым, кого освещал и согревал первый луч. Он был первым проблеском жизни. Я собирал рыбу на пристанях еще в темноте, в темноте я приходил к своим скалам. Восход солнца ошеломлял меня. Я поклонялся солнцу. Между нами возникала близость заговорщиков. Разумеется, я почитал его, обходясь без сложных обрядов; мне и в голову не пришло бы подражать первобытным людям, но я знаю, что это светило стало моим богом. Оно поднималось, описывало дугу и завершало ее в моем теле. Если даже я лицезрел его на небе, отданном астрономам, оно было лишь дерзкой проекцией заключенного во мне светила. Возможно, я даже смутно путал его с исчезнувшим Стилитано.
Таким образом, я даю вам представление о характере моего восприятия. Природа потрясала меня. Моя любовь к Стилитано, его оглушительное вторжение в мою убогую жизнь и Бог весть что еще бросили меня на произвол стихий. Стихии жестоки. Чтобы приручить их, я решил вобрать их в себя. Я не закрывал больше глаз на их жестокость, напротив, я приветствовал ее и потакал им в этом.
Поскольку такая процедура не могла удасться с помощью диалектики, я обратился к магии, то есть намеренной предрасположенности, интуитивному согласию с природой. Язык потерял для меня всякий смысл. Именно тогда предметы и обстоятельства, в которых, как пчелиное жало, все же таилась заноза гордости, стали мне по-матерински родными. (По-матерински, то бишь теми, сущностью которых является женственность. Упоминая об этом, я нисколько не намекаю на нечто из области маздакизма, а лишь уточняю, что мое восприятие предписывало мне видеть вокруг женский порядок вещей. Оно имело на это право, поскольку ему удалось приобрести некоторые мужские свойства: твердость, жестокость и равнодушие.)
Если я попытаюсь при помощи слов воссоздать мое тогдашнее поведение, читатель, как и я сам, не клюнет на эту удочку. Мы знаем, что наш язык неспособен воспроизвести даже отражение ушедших в небытие диковинных состояний. То же самое произошло бы с этим дневником, если бы я попытался сделать его свидетелем того, каким я был. Я уточняю, что он информирует лишь о том, каков я сегодня. Это не поиски прошедшего времени, а произведение искусства, темой и поводом которого служит моя прежняя жизнь. Этот дневник станет настоящим, зафиксированным с помощью прошлого, а не наоборот. Итак, да будет вам известно, что факты таковы, какими я их описываю, а вот толкование – это итог того, чем я стал.
Ночами я гулял по городу. Я спал, приткнувшись к стене, чтобы укрыться от ветра. Я мечтал о Танжере, близость которого и слава приюта предателей пьянили меня. Дабы забыть о своей нищете, я измышлял коварнейшие измены и совершил бы их без содрогания сердца. Сегодня я знаю, что с Францией меня связывает лишь любовь к ее языку, но тогда!..
Моя тяга к измене проявит себя на допросе в связи с арестом Стилитано.
Ради наживы, спрашивал я себя, и под угрозой насилия должен ли я выдавать Стилитано? Он все еще мне дорог, и я отвечу «нет», но должен ли я выдавать Пепе, убившего игрока в вист на Параллельо?
Быть может, хотя и ценой какого стыда, я смирился бы с прогнившей изнанкой моей души, поскольку она издавала бы запах, от которого люди зажимают носы. Так, читатель, возможно, вспомнит, что мой опыт нищего и проститутки стал для меня школой, где я научился использовать мерзости и даже находить удовольствие в своем пристрастии к ним. Я поступил так же (будучи силен в умении извлекать выгоду из стыда) со своей душой, изуродованной изменой. Судьбе было угодно, чтобы этот вопрос встал передо мной в ту пору, когда молодой лейтенант с военного корабля был приговорен к смертной казни трибуналом в Тулоне. Он выдал врагу то ли чертежи орудий, то ли карту военного порта, то ли план какого-то корабля. Я говорю не об измене, из-за которой была бы проиграна легкая ирреальная морская баталия, раздувающая крылья парусных шхун, а о разгроме в бою стальных чудовищ; в них была вложена гордость уже не наивного, а делового народа, подкрепленная искусными расчетами инженеров. Одним словом, речь шла о современной измене. Газета, в которой сообщались эти факты (я наткнулся на нее в Кадисе), комментировала (разумеется, глупо, ибо что она могла об этом знать!): «…из любви к измене!»
Статью сопровождала фотография молодого, очень красивого офицера. Я влюбился в этот снимок и с тех пор всегда ношу его при себе. Опасности подогревают любовь, и в глубине души я предложил ссыльному разделить его участь. Морской трибунал, стоявший на этом пути, облегчал мое продвижение к человеку, к которому я приближался тяжелой поступью, но во весь дух. Его звали Марк Обер. Я отправлюсь в Танжер, говорил я себе, и, возможно, меня призовут в ряды предателей, и я стану одним из них.
Из Кадиса я перебрался в Уэльву. Изгнанный оттуда городской охраной, я вернулся в Херес, а потом по берегу моря и в Аликанте. Я странствовал в одиночку. Порой я встречал или обгонял другого бродягу. Даже не присев на груду камней, мы говорили друг другу, в какой деревне лучше всего относятся к нищим, какой алькальд человечнее других, и продолжали свой скорбный путь. Высмеивая наши котомки, люди тогда говорили: «Он вышел на охоту с холщовым ружьем». Я был совершенно один. Я смиренно брел по обочинам дорог, вдоль кюветов, седая пыль которых припорашивала мои ноги. В результате кораблекрушения и всех мировых напастей, ввергнувших меня в океан отчаяния, мне еще была ведома кроткая радость от возможности зацепиться за ужасную могучую ветвь какого-нибудь нефа. Будучи сильнее всех течений на свете, эта соломинка была более определенной, утешительной и более достойной моего последнего вздоха, чем все ваши материи. К вечеру мои ноги потели, стало быть, летними вечерами я утопал в грязи. От солнца моя голова становилась пустой и наливалась свинцом, заменявшим мне мозг. Прекрасная Андалузия была бесплодной и жаркой. Я исходил ее из конца в конец. В ту пору я не ведал усталости. Я тащил на себе такое бремя невзгод, что вся моя жизнь, я считал, пройдет в скитаниях. Из мелочи, разнообразящей жизнь, бродяжничество превратилось в реальность. Я не знаю, о чем я тогда размышлял, но помню, что вверил все свои тяготы Богу. В одиночестве, вдали от людей, я преисполнился благочестия и любви.
Я так отдалился от них, должно быть, говорил я ему, что уже не надеюсь вернуться. Лучше уж мне оторваться от них совсем. Тогда между нами почти не останется связей, и, если их презрению я противопоставлю свою любовь, порвется последняя нить.
Так, превозмогая боль, я даровал вам свою жалость. Мое отчаяние, без сомнения, выражалось иначе. В самом деле, мои мысли путались, но эта жалость вырисовывалась в четких раздумьях, которые принимали в опаленной солнцем голове определенную и навязчивую форму. Моя тоска – я не думал, что это усталость, – не оставляла меня в покое. У родников я не утолял больше жажды. Горло мое пересохло. Глаза воспалились. Меня мучил голод. Солнце бросало медные блики на мое лицо с жесткой щетиной. Я высох, пожелтел, приуныл. Я учился улыбаться вещам и осмыслять их. Из моего присутствия – присутствия молодого француза на сих берегах, из моего одиночества, нищенского существования, из пыли канав, которая окутывала каждую из моих ног крошечным персональным облаком, умиравшим и возрождавшимся на каждом шагу, моя гордость выносила полезный повод для умиротворяющей оригинальности, которой противоречила банальная мерзость моих нелепых лохмотьев. Ни мои стоптанные башмаки, ни заношенные носки никогда не обладали достоинством, которое приподнимает и несет по пыльным дорогам сандалии кармелиток, ни разу мой грязный пиджак не позволил моим движениям проявить малейшее благородство. Я бродил по андалузским дорогам летом 1934 года. Ночью, выпросив в деревне немного денег, я забирался в поле и засыпал в какой-нибудь яме. Меня чуяли собаки – у меня все еще был особый запах, – они лаяли, когда я подходил к ферме или уходил от нее.
Идти или не идти? – раздумывал я, проходя мимо домика с побеленными известью стенами.
Мои колебания продолжались недолго. Привязанная к двери собака продолжала тявкать. Я подходил ближе. Она тявкала громче. У хозяйки, появлявшейся на пороге, я клянчил монету, безбожно коверкая испанский язык – будучи иностранцем, я чувствовал себя немного увереннее, – и уходил, понурив голову, с застывшим лицом, когда мне отказывали в подаянии.
Даже красоту этого уголка земли я не решался заметить. Разве только для того, чтобы отыскать секрет этой красоты, выявить скрытый за ней обман, жертвой которого становится тот, кто ей доверяется. Я отрицал красоту, но открывал поэзию.
И все же сколько красот создано для меня. Я отмечаю их и понимаю, что они так явно окружают меня, дабы яснее обрисовать мою скорбь.
Странствуя по берегам Атлантики и Средиземного моря, я заходил в рыбацкие порты, щеголеватая бедность которых оскорбляла мою нищету. Я незаметно подкрадывался к мужчинам и женщинам, отдыхавшим в тени, к мальчишкам, игравшим на площади. Любовь, которую люди, казалось, проявляют друг к другу, раздирала мне душу. Стоило двум парням обменяться улыбками или приветствиями у меня на глазах, как меня отбрасывало на край земли. Взгляды двух друзей – иногда их слова – были неуловимейшей эманацией любовных лучей, исходящих из обоих сердец. Лучей очень мягко и бережно свитого света, лучей, сотканных из любви. Меня удивляло, что столько нежности, такое тонкое и целомудренное явление, столь драгоценное вещество, как любовь, выковывается в этой сумрачной кузнице – мускулистых телах самцов, – в то время как они сами всегда испускают эти ласковые лучи, и в них нередко сверкают капельки некой таинственной росы. Мне чудилось, что старший говорит младшему, уже не мне, по поводу части тела, которую он ублажал:
– Сегодня ночью я снова приглажу твой венчик!
Я не мог смириться с тем, что кто-то кого-то любит вне меня.
(В исправительной колонии Бель-Иль встречаются Морис Ж. и Роже Б. Им по семнадцать лет. Я познакомился с ними в Париже. С обоими я не раз занимался любовью, но ни один из них не подозревал в этом другого. И вот как-то раз судьба свела их в Бель-Иль, где они пасли коров и овец. Я не знаю, как это было, но, говоря о Париже, первый человек, о ком они вспомнили, был я. Они смеются, они приходят в восторг, узнав, что оба были моими дружками. Морис передал мне их разговор.
– Мы с ним закорешились, вспоминая тебя. Вечером я страдал…
– Почему?
– Я слышал, как он стонет за перегородкой, которая отделяла мужнин. Он был красивее меня, и все воры eгo лапали. Я же не мог ничего поделать.
Я испытываю волнение, услышав, что по-прежнему продолжается чудесная мука, о которой помнит мое детство в Меттре.)
Вдали от моря я проходил мимо острозубых скал, впивавшихся в небо, кромсавших его лазурь. Сухая жесткая злобная скудость природы бросала вызов моей нищете и человеческой нежности. Однако она же укрепляла мой дух. Открыв в природе одно из своих неотъемлемых свойств – гордость, – я стал не так одинок. Я хотел превратиться в один из этих утесов. Я был счастлив и горд, ощущая наше родство. Благодаря ему я твердо стоял на земле. У меня были соратники. Я был своим среди минералов.
Мы будем противостоять ветрам, дождям и ударам судьбы.
Мой роман со Стилитано отступал на задворки моей души. Сам же Стилитано уменьшался в размерах до тех пор, пока не стал сияющей точкой изумительной чистоты.
Это был настоящий мужчина, говорил я себе.
Как-то раз он признался мне, что убил в армии одного парня, и сказал в свое оправдание:
– Он угрожал меня прикончить. Но я убил его раньше. Его пушка была мощнее моей. Я не виноват.
Я различал лишь присущие ему мужские черты и жесты. Навечно застывшие в прошлом, они составляли оплот, секрет незыблемости которого коренился в этих незабвенных деталях. Порой, в глубоком тылу этой разрушительной жизни, я позволял себе совершать кражи у неимущих или иные деяния, тяжесть которых пробуждала во мне угрызения совести.
Пальмы! Раннее солнце осыпало их позолотой. Свет трепетал, но пальмы были спокойны. Я видел лучшие из них. Они окаймляли берег Средиземного моря. В инее на стекле, в зиме было больше разнообразия, но, как и они, а может, и скорее, чем они, пальмы втягивали меня в рождественскую картинку, парадоксальным образом навеянную строфой о празднике накануне кончины Бога, о вхождении в Иерусалим и пальмовых ветвях, брошенных под ноги Иисусу. Мое детство грезило пальмами. И вот я стою перед ними. Мне говорили, что в Вифлееме никогда не идет снег. В глубине названия Аликанте таился Восток. Я оказался в сердце своего детства, в мгновении, сохранившемся в первозданной свежести. Вот сейчас, на повороте, под тремя пальмами я увижу ясли, в которых я, ребенок, буду присутствовать при своем рождестве между быком и ослом. Я был смиреннейшим из бедняков, я устало влачился в пыли, заслужив наконец пальму первенства, созрев для каторги, соломенной шляпы и пальмовых розг.
Для бедняка монеты – не признак богатства, а нечто другое. По дороге я, конечно, грабил богатых идальго – нечасто, поскольку они всегда начеку, – но эти кражи оставляли меня безучастными. Я расскажу о тех, что я совершил у таких же нищих. Преступление в Аликанте будет для вас примером.
Читатель помнит, что в Барселоне Пепе успел передать мне на бегу деньги. Сохранив героическую верность герою, а также опасаясь, что Пепе или кто-нибудь из его дружков меня разыщут, я зарыл эти деньги в маленьком сквере неподалеку от Монхуча, под катальпой. Проявив выдержку, я утаил это от Стилитано, но, когда мы с ним решили отправиться на юг, я откопал деньги (двести-триста песет) и послал их самому себе до востребования в Аликанте. Здесь было много сказано о воздействии природы на мои чувства, но ни слова, как мне кажется, о влиянии этого поступка на мою нравственную позицию. Приближаясь к Мурсии, я проходил через пальмовую рощу Эльче, испытывая столь осознанное потрясение от природы, что мои отношения с людьми начали походить на привычное отношение человека к вещам. Я пришел в Аликанте ночью. Я переночевал на верфи, и утром мне открылась тайна города и его имени: берег спокойного моря обступали белые горы, несколько пальм и домов, порт и сочная сияющая синева на фоне восходящего солнца. (Подобное же мгновение ждало меня в Венеции.) Отношения между всем и вся были пронизаны радостью. Чтобы достойно вписаться в этот мир, я решил по-доброму расстаться с людьми и очиститься. Поскольку меня связывали с ними нити чувств, я должен был их без шума оборвать. Всю дорогу я тешился горькой радостью, обещая себе забрать на почте деньги и отослать их Пепе в Монхучскую тюрьму.
Купив чашку горячего молока в открывшемся ларьке, я направился к почтовому окошку. Без каких-либо проблем мне вручили ценное письмо. Деньги были в целости и сохранности. Выйдя на улицу, я разорвал купюры, собираясь бросить их в водосток, но, чтобы сделать расставание с людьми более ощутимым, я склеил обрывки денег на лавке и устроил себе роскошный обед. Пепе, должно быть, подыхал от голода в тюрьме, но ценой этого преступления я заслужил свободу от моральных забот.
Однако я не шатался вслепую. Я шел дорогой всех нищих и, как они, забрел в Гибралтар. Ночной вид этой твердыни, заполненной солдатами и спящими пушками, вся эта эротическая масса сводила меня с ума. Я остановился в деревне Ла-Линеа, которая была необъятным борделем, и начал там этап «консервной банки». Все нищие мира – как в Центральной Европе, так и во Франции – держат про запас одну или несколько жестяных банок (из-под горошка или мясного рагу), к которым они приделывают ручку из проволоки. С этими банками на плече и бродят они по рельсам и дорогам. Я раздобыл свою первую банку в Ла-Линеа. Она была совсем новой. Накануне ее бросили в мусорный ящик, и я вытащил. Она была сделана из блестящего металла. Я загнул камнем ее зубчатые края, чтобы они не царапались, и отправился к проволочным заграждениям Гибралтара подбирать объедки за английскими солдатами. Вот как низко я пал. Я клянчил уже не деньги, а остатки супа. В довершение всего мне было стыдно просить у солдат. Когда чья-то красота или великолепный мундир волновали меня, я чувствовал себя ничтожеством. По ночам я пытался торговать своим телом и преуспевал в этом благодаря темноте переулков. Днем нищие могли располагаться у любого места ограды, но вечером мы становились в очередь в узком проходе у казармы. Как-то раз в веренице нищих я узнал Сальвадора.
Два года спустя в Антверпене я повстречал отъевшегося Стилитано, ведущего под руку роскошную кралю с длинными накладными ресницами, затянутую в черное атласное платье. Будучи все так же красив, несмотря на грубость лица, облаченный в дорогую шерсть, весь в золотых кольцах, он следовал за нелепой белой моськой злобного нрава. И тут я раскусил этого «кота»: он держал на поводке собственную глупость, свою завитую, разряженную, ухоженную пошлость. Это она семенила впереди него, она вела его по унылому, вечно мокрому от дождя городу. Я жил на улице Сак, возле порта. Ночью я слонялся по барам, по набережным Эско. Эта река, этот город в оправе из краденых бриллиантов ассоциировались у меня с искрометными похождениями Манон Леско. Я чувствовал, что еще немного, и я тоже стану героем романа, войду в образ, идеализирую себя, стану воплощенной идеей каторги, перемешанной с любовью. Вместе с молодым фламандцем, выступавшим в ярмарочном балагане, мы крали велосипеды в городе, который сиял золотом, драгоценностями и морскими победами. Здесь, где Стилитано был богат и обласкан, я буду все так же прозябать в нищете. Я никогда не осмелюсь упрекнуть его за то, что он выдал Пепе полиции. Я даже не знаю, что меня больше возбуждало – то ли Стилитано и его донос, то ли преступление цыгана. Будучи не в силах припомнить подробности – сомнения, придавая рассказу историческое звучание, еще больше приукрашивали его, – Сальвадор с восторгом поведал мне об этом доносе. То и дело срываясь, дабы не походить на слишком светлую песню жертвы, его радостный хмельной голос выдавал горечь и ненависть к Стилитано. Такие чувства только придавали Стилитано силу и возвеличивали его. Мы с Сальвадором даже не удивились нашей встрече.
Благодаря тому, что он прожил в Ла-Линеа какое-то время и с ним считались, я избежал уплаты дани, которую собирали со всех двое-трое здоровых грубых нищих.
Я подошел к Сальвадору.
– Я узнал, как все было, – сказал он.
– Что?
– Что-что? Арест Стилитано.
– Он арестован? За что?
– Не строй из себя младенца. Ты знаешь это не хуже меня.
Мягкость Сальвадора уступила место желчной сварливости. Он разговаривал со мной резко и рассказал мне об аресте моего друга. Это случилось не из-за накидки или какой-то другой кражи, а из-за убийства испанца.
– Это не он, – сказал я.
– Конечно. Всем это известно. Это сделал цыган. Но Стилитано заложил его. Он знал его имя. Цыгана разыскали в Альбасете. Стилитано арестовали, чтобы уберечь его от братьев и дружков цыгана.
По пути в Аликанте, из-за внутреннего сопротивления, которое мне пришлось преодолеть, из-за всего того, что мне пришлось пустить в ход, чтобы избавиться от так называемых угрызений совести, кража, которую я совершил, стала в моих глазах очень суровым и очень чистым, почти блестящим деянием, сравниться с которым может разве что бриллиант. Сделав это, я снова разрушил – и, как я себе говорил, теперь уже раз навсегда – священные узы братства.
После такого преступления на какое моральное совершенство могу я рассчитывать?
Эта кража была вечно со мной, и посему я решил сделать ее источником морального совершенства.
Это трусость, безволие, гнусность и подлость (я характеризую данный поступок лишь словами, применимыми к бесчестью)… ни одна из его составных частей не дает мне шанса его воспеть. И все же я никогда не отрекусь от этого самого чудовищного из моих детищ. Я хочу населить весь мир его мерзким потомством.

![Книга За ш[т]орами автора Галина Шаульская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-za-shtorami-351885.jpg)






