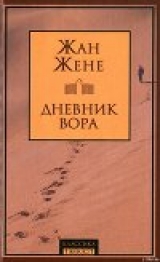
Текст книги "Дневник вора"
Автор книги: Жан Жене
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Через два года я стал сильным. Подобная тренировка – сродни духовным занятиям – поможет мне возвести нищету в добродетель. Однако я одержал победу лишь над самим собой. Даже когда я сталкивался с презрением детей или мужчин, мне приходилось превозмогать лишь самого себя, ибо вопрос состоял не в том, чтобы исправить других, а изменить себя. Моя власть над собой была велика, но, царствуя над своей внутренней сущностью, я сделался чрезвычайно неловким по отношению к остальному миру. Ни Стилитано, ни другие друзья не принесут мне пользы, так как в их присутствии я буду слишком поглощен своим образом безупречного любовника. Возможно, во время скитаний по Европе у меня выработалась бы некоторая сноровка, если бы я не отвергал повседневные хлопоты ради своего рода созерцания. Перед тем, о чем я собираюсь рассказать, я совершил несколько поступков, но ни один из них я не изучал столь пристально, как свою нравственность. Я изведал подлинное опьянение случаем в Антверпене, где однажды вечером мне удалось связать человека, который привел меня к морю. Стилитано с Робером ушли на танцы. Я остался один, предаваясь печали и ревности. Я зашел в какой-то бар и немного выпил. Внезапно я решил разыскать приятелей, но мысль о поиске говорила о том, что они для меня потеряны. Прокуренные шумные бары, в которых они пили и танцевали, были земным воплощением душевного пространства, в котором они замкнулись, даже утром отгороженные от меня и остального мира. Я зашел в комнату Стилитано и увидел, как, собираясь уходить, он протягивает руку в перчатке, слегка приподняв ее, и Робер с улыбкой, едва касаясь, застегивает на ней кнопку. Я перестал быть правой рукой Стилитано.
Какой-то толстяк попросил у меня прикурить и предложил мне выпить. Когда мы вышли из бара, он хотел отвести меня к себе домой, но я отказался. Поколебавшись, он решился пойти со мной в порт. Я приметил его золотые часы, обручальное кольцо и бумажник. Я был уверен, что толстяк не станет звать на помощь, но выглядел он сильным. Значит, мне удалось бы достичь цели лишь с помощью хитрости. У меня не было никакого плана. Внезапно я вспомнил о веревке, которую мне дал Стилитано. Когда мы забрели в укромное место, толстяк предложил мне заняться любовью.
– Ладно.
Я попросил его спустить штаны как можно ниже, рассчитывая, что он запутается в них при попытке к бегству.
– Раздвинь…
Он исполнил мой приказ обеими руками, я же в мгновение ока связал их у него за спиной.
– Что ты там делаешь?
– Сам, что ли, не понимаешь, болван!
Я употребил те же слова и с той же интонацией, которые слышал от Стилитано в тот день, когда нас поймали при краже велосипеда. При виде самых невзрачных вещей взгляд Стилитано смягчался и становился приветливым: его единственная рука добродушно брала с ресторанного столика засаленное меню. Предметы привязывались к нему, ибо он не питал к ним презрения. Прикасаясь к какой-нибудь вещи, Стилитано немедленно распознавал ее сущность и извлекал из нее блестящую выгоду. Улыбаясь, он обретал с ней гармонию.
Меня пленяют не гримасы ребят, а их улыбки. Иногда я подолгу не отвожу от них глаз, до того они чаруют меня. Улыбка, наделенная своеобразной душой, отделяется от лица. Она становится неким редкостным зверем с трудной и в то же время бренной жизнью, это восхитительная химера. Если бы мне удалось ее вырезать, снять с лица, где она играет, положить в карман и унести с собой, под влиянием ее лукавой иронии я сотворил бы чудеса. Иногда я пробую ее примерять, чтобы от нее защититься, но напрасно, ибо эта улыбка – истинная воровка.
– Ты что, меня связываешь? Послушай, я тебе дам…
– Заткнись, я и сам возьму.
От страха, что нас заметят или толстяк порвет веревку, я становился остроумным и вязал крепчайшие узлы. Я обшарил его карманы. С той же пронзительной радостью мои пальцы нащупали банкноты и документы. Толстяк дрожал от страха и боялся пошевелиться.
– Оставь мне немного…
– Заглохни!
Подобные мгновения должны продолжаться бесконечно. Толстяк стал моей жертвой, и я хотел, чтобы он запомнил это надолго. Место было темным, но не очень надежным. Часовой при обходе мог нас обнаружить.
– Ах ты, старый хрен, ты думал, что я стану…
Я оторвал от петлицы его жилета висевшие на цепочке часы.
– Это память, – пробормотал он.
– Вот именно. Я обожаю воспоминания.
Я ударил его по лицу. Он тихо застонал. Я выхватил нож так же стремительно, как и Стилитано, помахал лезвием перед его носом. Мне хотелось бы уточнить, что значило для меня это мгновение. Жестокость, к которой я себя принуждал, вселяла невиданную силу не только в мое тело, но и в душу. Я чувствовал, что могу проявить великодушие к своей жертве и развязать ее. Но я был способен и убить ее. Толстяк, видимо, тоже признал мою силу. Даже во тьме я ощущал его покорность, незлобивость, желание потакать моему азарту.
– И не ори, а то я тебя прикончу.
Я отступил в темноту.
– Послушай…
– Что тебе?
Он прошептал кротким голосом, видимо боясь услышать отказ:
– Оставь мне хотя бы…
Когда мы снова встретились со Стилитано, у меня было несколько тысяч бельгийских франков и золотые часы. Сначала я хотел рассказать ему о своем подвиге, чтобы подразнить его и Робера, но мало-помалу мой поступок стал отходить в небытие, и моя гордость поникла. Я решил сохранить это приключение в тайне. Я знал, только я один знал, на что я способен. Я спрятал добычу. Я впервые увидел лицо своих жертв: оно безобразно. Став причиной такого уродства, я испытывал от этого лишь жестокое удовлетворение, которое, как мне казалось, преображало мое собственное лицо, заставляло меня светиться. В ту пору мне было двадцать три года. После этого случая я почувствовал, что моя жестокость может зайти далеко. Деньги и часы уничтожили во мне последние крохи любви к нищете (не уничтожив любви к страданию, хотя и помпезному). Между тем, желая поднатореть в жестокости или равнодушии к чужому горю, я задействовал суровый закал, полученный в школе нищенства. Я совершил новые грабежи. Все они прошли успешно. Таким образом я избавился от двусмысленного положения трусливого вора. Впервые я нападал на людей. Я сражался с ними с открытым забралом и чувствовал, что становлюсь звенящим, злым, холодным, стремительным, сверкающим, острым, как лезвие шпаги. Ни Стилитано, ни Робер не замечали моего превращения. Они жили в тесном союзе, вместе бегали за женщинами либо дружно пренебрегали ими. Мое отношение к Стилитано не изменилось. Я вел себя с ним так же почтительно, а Робер – так же бесцеремонно. Прикрывала ли меня, чтобы одеть в доспехи героя, личность Стилитано, в глубине которой наблюдала и отдавала приказы самая лучшая часть моей души, или же я заимствовал голос, слова, жесты моего друга с тем же трепетом, с каким прикасаются к святыням, торопясь ощутить их чарующее воздействие? Не я, а Стилитано участвовал в битвах. Он соглашался пить с гомиками, вилял перед ними задницей, а затем обирал их. Его образ преследовал меня, я страдал, понимая это, но также я осознавал, что, высокомерно отвергнув эту поддержку, я потерпел бы крах. Он не догадывался, каким тайным целям я заставляю его служить, не подозревал, что он для меня то, что называют родиной: сущностью, которая ведет солдата в бой и приносит его в жертву. Я дрожал от страха на лестнице, выйдя из комнаты, где только что заставил клиента выложить все деньги: Стилитано стремительно улетучивался из меня. Я пересчитывал трофеи уже не для того, чтобы сделать ему подарок. Я совершал это в одиночку.
Ко мне возвращалась тревога. Мир самцов подавлял меня. Любая группа парней в сумраке была для меня загадкой, разгадку которой никто не приносил мне на блюдце. Неподвижные и молчаливые самцы обладали зарядом электронных частиц, вращающихся вокруг источника энергии – любви.
«Если бы, – говорил я себе, – мне удалось столкнуться с одним из них, какой распад, какой неожиданный взрыв это вызвало бы? Должно быть, – продолжал говорить я себе, – они смутно догадываются об этом, ибо каждый строго придерживается занятой позиции».
Обессилев от попытки сойтись с мужчинами лицом к лицу, я доверился силам мрака. Я становился ясновидящим. Меня охватывал страх, обращенный в прошлое. Я решил покончить с этим опасным занятием: по вечерам, едва лишь на меня оглядывался мужчина, как Стилитано незаметно вселялся в меня, увеличивая объем моих мускулов, делая мою походку более гибкой, а движения – более твердыми; он почти менял цвет моей масти. Стилитано не сидел сложа руки. Шагая по тротуару, я ощущал, как крокодиловая кожа его ботинок трещит под тяжестью его грузного тела – тела властелина окраин. Будучи одержимым, я понимал, что способен на любую жестокость. Мое зрение обострилось. Это превращение не напугало меня, а наделило мужественной прелестью. Я чувствовал, что становлюсь лихим и неудержимым. Однажды вечером меня охватило бешенство от спеси одного «голубого», и я сжал кулаки, словно собираясь ударить в невидимый барабан.
– Говнюк, – процедил я сквозь зубы, в то время как мой разум приходил в отчаяние от того, что я задевал, оскорблял одного из тех, кто был жалким олицетворением моего самого дорогого сокровища – педерастии.
Исключенный из общественного порядка по причине своего рождения и наклонностей, я не видел в нем разнообразия. Я восхищался его безупречной последовательностью, несовместимой со мной. Я замирал в изумлении перед столь бескомпромиссным строением, все детали которого ополчались против меня. Ничто в мире было не ново: ни звездочки на генеральских погонах, ни курсы на бирже, ни судебный стиль, ни сбор маслин, ни ягодный рынок, ни цветочные клумбы… ничто. Этот грозный, вызывающий страх порядок с тесно переплетенными деталями означал для меня одно – изгнание. До сих пор я наносил ему удары исподтишка, под покровом тьмы. Теперь же я осмелился к нему прикоснуться, показать, что я к нему прикасаюсь, оскорбляя тех, из кого он слагается. В то же время, признавая свое право на это, я понимал свое место. Мне казалось естественным, что официанты кафе называют меня «месье».
С помощью терпения и везения я бы мог усилить этот разрыв. Но меня удерживала застарелая привычка жить с опущенной головой наперекор морали, правящей этим миром. В довершение всего я боялся потерять преимущество моего тягостного и мучительного продвижения в противоположном вам направлении.
Я завидовал грубости, с которой Стилитано обращался со своей женщиной, и в то же время он терпел лукавые уколы Робера. В этих случаях он сладостно улыбался, показывая белые зубы. Иногда он и на меня смотрел с такой же улыбкой, но, быть может, оттого, что я никогда не заставал его врасплох, я не находил в ней той же свежести и понимания. Оленята вечно прыгали у ног Стилитано. Робер опутывал его своими гирляндами. Однорукий был колонной, а тот – глициниями. Меня смущало, что они так сильно любили друг друга, но никогда не занимались любовью. Стилитано казался мне все более недоступным. Я узнал, не помню каким образом, что он не крал у полицейского черный мотоцикл. Он вообще его не крал. Они заранее сговорились: полицейский ненадолго ушел, и Стилитано оставалось лишь вскочить в седло мотоцикла, а затем найти покупателя. Они поделили деньги поровну. Это открытие должно было отдалить меня от него, но именно благодаря ему Стилитано стал мне еще более дорог. Я любил фальшивого жулика, мухлюющего с сыщиком. Они оба были одним и тем же предателем и самозванцем из грязи и пара. Стилитано и вправду был божеством, которому я мог в очередной раз принести себя в жертву. Я был одержимым во всех смыслах этого слова.
Кроме того, что он служил в Иностранном легионе, о чем я узнал по довольно куцым воспоминаниям, которым он предавался время от времени, мне стало известно и то, чем он занимался после нашего разрыва. За эти, кажется, четыре-пять лет он исколесил всю Францию, продавая по баснословным ценам дешевые кружева. Вот что он рассказал мне с улыбкой. Один приятель снабдил Стилитано документом, дающим ему – лишь ему одному – право торговать кружевами, изготовленными детьми-туберкулезниками из санатория в Камбо.
– Камбо, я тебе говорю, потому что в Камбо нет никаких санаториев. Поэтому меня не могли обвинить в надувательстве. И вот, приехав в какую-нибудь дыру, я наведывался к кюре. Я предъявлял ему свой мандат, искалеченную руку и кружева. Я говорил, что покрывала для алтаря, связанные больными малышами, будут хорошо смотреться в его церкви. Сам кюре не клевал, но отправлял меня к бабам с деньгами. Так как я приходил от кюре, они не смели посылать меня к черту. Они не смели не покупать мой товар. Вот так я продавал за сотню франков маленькие квадратики фабричных кружев, те самые, за которые я платил на улице Мирра по сто су.
Стилитано говорил об этом бесстрастно, без прикрас. Он сказал, что заработал кучу денег, но я ему не поверил, так как он не был предприимчивым. Видимо, его прельстила сама идея мошенничества.
Однажды во время его отсутствия я обнаружил в одном из ящиков множество военных медалей и крестов Ниссам, Уиссам-Алауит и Белого Слона, потом он признался, что, надев французскую военную форму, вешал на грудь награды и просил подаяние в метро, выставляя свою культю.
– Я зарабатывал по десять ливров в день, – хвастался он. – Я гужевался от пуза, глядя на рожи парижских фраеров.
Он поведал мне и другие подробности, которые мне недосуг пересказывать. Я все так же его любил. Его свойства (как и свойства Жава) напоминают наркотики и запахи, о которых трудно сказать, что они приятны, но от них нельзя оторваться.
Между тем Арман вернулся, когда я его уже не ждал. Он встретил меня, лежа в постели и покуривая сигарету.
– Привет, парень, – сказал он и впервые протянул мне руку. – Ну что, все было нормально? Никаких проблем?
Я уже рассказывал о его голосе. Мне кажется, что он был таким же холодным, как и его голубые глаза. Поскольку он никогда не смотрел на вещи или людей в упор, его ирреальный голос почти не принимал участия в разговоре. Некоторые взгляды можно сравнить с лучами (взгляды Люсьена, Стилитано, Жава), но только не взгляд Армана. Его голос тоже ничего не излучал. В глубине его сердца обитали лишь крошечные человечки, которых он держал в тайне. В его голосе слышался легкий эльзасский акцент: его сердце было отдано фрицам.
– Да, все было нормально, – сказал я. – Ты видишь, я сберег твои вещи.
Даже сейчас я иногда мечтаю о том, чтобы меня арестовала полиция и была вынуждена сказать: «В самом деле, сударь, мы видим, что это не вы совершили кражу, виновные в которой задержаны». Мне хотелось быть ни в чем не повинным. Отвечая Арману, я был бы рад внушить ему мысль, что другой на моем месте – который был не кем иным, как мной, – его бы обчистил. Чуть ли не с трепетом я торжествовал свою верность.
– Я так и думал.
– А у тебя все в порядке?
– Ну да, дело сделано.
Я решился присесть на край кровати и положить руку на одеяло. В тот вечер, в тусклом свете, падавшем с потолка, он выглядел таким же сильным и мускулистым, как и днем. Внезапно передо мной открылась возможность избавиться от тягостного чувства тревоги, в которое ввергли меня необъяснимые отношения между Стилитано и Робером. Если бы Арман согласился, чтобы не он, а я его любил, то благодаря своему возрасту и большей силе он мог бы меня спасти. Уже приходя в восторг, я был готов нежно прижаться к его телу, заросшему бурым мехом. Я протянул руку. Он улыбнулся. Он улыбнулся мне в первый раз, и этого было достаточно, чтобы я его полюбил.
– Я провернул неплохие дела, – сказал он.
Он повернулся на бок. Мое легкое напряжение свидетельствовало о том, что я ждал, когда его грозная рука повелительным жестом пригнет мою голову и заставит меня наклониться ради его услады. Если бы это случилось сегодня, я бы слегка поломался, чтобы он понервничал и захотел меня сильнее.
– Мне хочется выпить. Я сейчас встану.
Он поднялся с кровати и оделся. Когда мы вышли на улицу, он похвалил меня за то, что мне так здорово удается облапошить гомиков. Я остолбенел.
– Кто тебе это сказал?
– Не все ли равно.
Он даже слышал о том, что я связал одного из них.
– Отличная работа. Я бы ни за что не поверил.
Он рассказал мне, что портовые рабочие узнали о моих подвигах.
Каждая из моих жертв предупреждала обо мне других «голубых» или докеров (они все связаны с педиками). Я стал известен как гроза гомиков. Арман прибыл вовремя, чтобы сообщить о моей славе, которая грозила мне опасностью. Сам он узнал об этом по возвращении. Если Робер и Стилитано еще не в курсе, их вскоре оповестят.
– Здорово, что ты это сделал, малыш. Мне это нравится.
– Ох, это было нетрудно. Все они дрейфили.
– Здорово, я тебе говорю. Я бы ни за что не поверил. Пошли выпьем.
Когда мы вернулись, он ничего от меня не хотел, и мы уснули. В следующие дни мы встретились со Стилитано. Арман познакомился с Робером и, лишь только его увидев, воспылал к нему страстью, но хитрый мальчишка от него увильнул. Как-то раз он бросил Арману со смехом:
– У тебя же есть Жанно, тебе этого мало?
– Он – это совсем другое дело.
В самом деле, с тех пор как он узнал о моих ночных шалостях, Арман обращался со мной как с товарищем. Он разговаривал со мной, давал мне советы. Его презрение ушло, уступив место немного умильной материнской опеке. Он советовал, как мне лучше одеваться. Вечером, как только мы выкуривали по сигарете, он желал мне спокойной ночи и засыпал. Полюбив его, я приходил в отчаяние от того, что был не в силах доказать ему свою любовь, придумывая самые изощренные ласки. Дружба, которой он меня пожаловал, налагала на меня строжайшие запреты. Хотя я и признавал, что в моих преступлениях не обходится без надувательства, в глазах Армана я старался казаться мужчиной. Героическим поступкам, говорил я себе, не должны сопутствовать жесты, условно сводящие их на нет. Чистосердечный Арман не допустил бы, чтобы я служил для его удовольствия. Уважение, которое он ко мне питал, не позволяло ему использовать мое тело как раньше, хотя это наполнило бы меня новой силой и дерзостью.
Стилитано и Робер жили за счет Сильвии. Выбросив из головы наши тайные проделки с гомиками, Робер делал вид, что презирает мою работу.
– И ты называешь это делом? Тоже мне работа, – сказал он однажды. – Ты нападаешь на стариков, которые держатся на ногах лишь благодаря своим палкам да пристежным воротничкам.
– Он прав, надо быть разборчивее.
Я не подозревал, что за этой репликой Армана кроется дерзновеннейший переворот в морали.
Не успел Робер ответить, как он продолжал чуть более значительным тоном:
– А я, по-твоему, чем занимаюсь? – Повернувшись к Стилитано: – Как ты думаешь? Когда мне надо, слышишь, я нападаю не на стариков, а на старух. Не на мужиков, а на баб. Я выбираю самых слабых. Ведь мне нужны башли. Классная работа – прежде всего успех. Когда ты поймешь, что благородство нам ни к чему, ты поумнеешь. Он, – Арман, никогда не звавший меня по имени, указал на меня рукой, – он вас в этом опередил, и он прав.
Его голос не дрожал, но мое волнение было так велико, что, обуреваемый чувствами, я боялся, как бы Арман не пустился в сногсшибательные признания. Однако его веские слова меня успокоили. Он замолчал. Я почувствовал, как во мне ожили (или расцвели среди моря сожалений) множество голосов, упрекавших меня в том, что я верен некоему подобию чести. Арман больше никогда не затрагивал этой темы (Стилитано с Робером не решались ее обсуждать), но его слова пустили ростки в моей душе. Своеобразный кодекс чести шпаны показался мне смехотворным. Мало-помалу Арман стал непререкаемым авторитетом в вопросах морали. Он не казался мне прежней глыбой, я подозревал, что у него позади – масса горестных испытаний. Однако его тело оставалось таким же мощным, и мне нравилось быть под его защитой. Найдя в человеке, в котором – как мне хочется думать – не было места страху, подобную власть, я почувствовал, что мои мысли охватило странное и неведомое ранее ликование. Безусловно, впоследствии я захочу развить в себе многообразие двойственных чувств и извлечь из них выгоду, когда со стыдом, примешивавшимся к моему удовольствию, я обнаружу в себе скопище и путаницу противоречий, но я уже предчувствовал, что нам надлежит заявить о том, что станет нашими принципами. Позже я применю свою волю, избавленную благодаря раздумьям и поступкам Армана от покровов морали, при оценке полиции.
Я повстречал Бернардини в Марселе. Узнав его ближе, я буду называть его Бернаром. Лишь французская полиция наделена в моих глазах столь чудовищной мифической властью. В ту пору мне было двадцать два года, Бернару же – тридцать. Я хотел бы досконально передать вам его портрет, но в моей памяти осталось лишь ощущение физической и нравственной силы, которое он у меня тогда вызывал. Это случилось в баре на улице Тюбано. Мне показал его молодой араб.
– Это законченный «кот», – сказал он мне. – У него всегда красивые девушки.
Та, что была с ним, показалась мне очень красивой. Если бы мне не сказали, что он – полицейский, я бы, возможно, не обратил на него внимания. Полиция других европейских стран внушала мне страх, как любому вору, французская же полиция вдобавок приводила меня в волнение неким ужасом, проистекающим скорее из моего врожденного и неистребимого чувства вины, нежели из опасности, которую навлекали на меня случайные промахи. Подобно миру шпаны, мир полицейских всегда останется для меня закрытым, ибо мой здравый смысл (сознание) не позволяет мне слиться с этим бесформенным, движущимся, туманным, беспрестанно воссоздающим себя, стихийным и неслыханным миром, полномочными представителями которого среди нас являются мотоциклисты в форме со всеми атрибутами силы. Французская полиция, как никакая другая, означала для меня именно это. Возможно, из-за ее языка, в котором открывались бездны. (Она была уже не просто общественным институтом, а священной силой, подавляющей мою душу, повергающей меня в смятение. Лишь немцы в эпоху Гитлера сумели воплотить себя в Полиции и Преступлении одновременно. Этот мастерский синтез противоречий, эта жуткая глыба истины были насыщены магнетизмом, который еще долго будет сводить нас с ума.)
Бернардини был земным, видимым для меня и, возможно, скоротечным проявлением дьявольской организации, столь же омерзительной, как похоронные ритуалы, траурные принадлежности, но и столь же влиятельной, как королевская власть. Зная, что под этой оболочкой, в этой плоти скрывается частица того, на что я никогда не смел уповать, я трепетал перед ним. Как некогда Рудольф Валентино, Бернардини прилизывал свои черные блестящие волосы, разделяя их слева ровным белым пробором. Он был сильным. Его лицо казалось мне неровным и твердым, словно гранит, и я втайне наделял его грубой и жестокой душой.
Мало-помалу я постигал его красоту. Мне даже кажется, что я эту красоту создавал, решил вдохнуть ее в это лицо и тело, отталкиваясь от идеи полиции, которую они должны были воплощать.
Народное название этой организации усугубляло мое смятение:
«Тайная полиция. Он – из тайной полиции».
В последующие дни я стал незаметно ходить за ним по пятам и высматривать его издали. Я устроил за ним тайную слежку. Он вошел в мою жизнь, не подозревая об этом. В конце концов я покинул Марсель, храня в душе мучительно нежное воспоминание о Бернардини. Два года спустя меня задержали на вокзале святого Карла. Сыщики грубо обращались со мной в надежде вырвать признание. Дверь комиссариата распахнулась, и я с изумлением узрел Бернардини. Я боялся, что он тоже примется меня бить, но он приказал прекратить допрос. Он ни разу не заметил меня, когда я крался за ним, охваченный страстью. Даже если он видел мое лицо пару раз, два года спустя он, скорее всего, его позабыл. Отнюдь не чувство симпатии и не доброта заставили его сжалиться надо мной. Он был такой же сволочью, как остальные. Я не могу объяснить, отчего он взял меня под защиту. Когда меня выпустили через два дня, я разыскал его, чтобы поблагодарить.
– Вы, по крайней мере, классно себя вели.
– О! Это нормально. Зачем же измываться над ребятами?
– Вы не откажетесь со мной выпить?
Он согласился. На следующий день мы снова встретились. Это он меня пригласил. Кроме нас, в баре не было ни души. Я сказал ему с замиранием сердца:
– А я уже давно вас знаю.
– Да? С каких же пор?
Изменившимся голосом, опасаясь, что он рассердится, я признался ему в любви и рассказал о своей хитроумной слежке. Он улыбнулся:
– Значит, ты тогда на меня глаз положил? Ну, а теперь?
– Есть немного.
Он еще больше развеселился, чувствуя себя, вероятно, польщенным. (Жава недавно признался мне, что любовь или восхищение мужчины заставляет его сильнее гордиться собой, чем любовь или восхищение девушки.) Я стоял рядом с ним и, немного паясничая, говорил ему о любви, опасаясь, что серьезность моего признания напомнит ему о его серьезных обязанностях. С улыбкой и не без доли бесстыдства я сказал:
– Что поделаешь, я обожаю красивых мужчин.
Он посмотрел на меня снисходительно. Его мужественность была броней, не позволявшей просочиться жестокости.
– А если бы я тебя тогда отдубасил?
– По правде говоря, я бы очень расстроился.
Больше я ему ничего не сказал. Если бы я таким тоном признался полицейскому не в глупом увлечении, а сильной любви, это покоробило бы его целомудрие.
– Это у тебя пройдет, – сказал он со смехом.
– Я надеюсь.
Однако он не догадывался, что, когда я сидел рядом с ним, подавленный его уверенностью и мощью, меня сильнее всего волновало незримое присутствие его инспекторской бляхи. Эта металлическая пластина обретала в моих глазах могущество зажигалки в руках рабочих, пряжки поясного ремня, деревянного молотка и орудия, в котором неистово скапливается доблесть самцов. Только наедине с ним, в каком-нибудь темном закутке, я, быть может, посмел бы притронуться к ткани и засунуть руку за лацкан, на котором сыщики обычно носят свои знаки отличия. Его мужественность была сосредоточена в этой бляхе так же, как в его члене. Если бы он возбудился от прикосновения моих пальцев, то этот орган извлек бы из нее силу, благодаря которой он бы еще сильнее разбух и приобрел чудовищные размеры.
– Можно мне вас снова увидеть?
– Да, конечно, заходи со мной поздороваться.
Я выждал несколько дней, чтобы не рассердить его своей поспешностью, и наконец мы стали любить друг друга. Он познакомил меня со своей женой. Я был на верху блаженства. Однажды вечером, когда мы шли вдоль набережной Жольетт, неожиданное безлюдье, близость форта Сен-Жан, кишевшего легионерами, да ужасающее уныние порта (что могло быть для меня безнадежнее, чем гулять с ним в подобном месте?) внезапно подтолкнули меня на неслыханную дерзость. Я заметил, что он замедляет шаг, когда я к нему приближаюсь. Дрожащей рукой я неловко коснулся его бедра; не зная, что делать дальше, я машинально задал вопрос, всегда помогавший мне знакомиться с робкими гомиками:
– Который час?
– Что? Смотри, на моих часах полдень.
Он засмеялся.
Мы часто встречались. На улице, когда мы шагали бок о бок, я подстраивался под его шаг. Если мы гуляли днем, я старался идти так, чтобы его тень падала на меня. Эта простая игра доставляла мне наслаждение.
Я продолжал заниматься своим воровским ремеслом, грабя по ночам педиков, которые ко мне приставали. Проститутки с улицы Бутри (этот квартал тогда еще не был разрушен) скупали у меня краденые вещи. Я был прежним. Вероятно, я слегка перебарщивал, не упуская случая достать и сунуть под нос легавым свое новенькое удостоверение личности, на котором Бернар собственноручно оттиснул печать префектуры. Он был в курсе моей жизни и никогда не упрекал меня. Впрочем, как-то раз он стал оправдываться передо мной в том, что он – полицейский, и завел со мной разговор о морали. Даже с точки зрения эстетики любого поступка, его речи не могли до меня дойти. Добрая воля всех моралистов разбивается о то, что они называют моей злонамеренностью. Если они могут мне доказать, что преступление отвратительно в силу зла, которое оно причиняет, то я один способен судить по песне, которую оно из меня исторгает, об изяществе и красоте преступления; я сам волен его отвергнуть либо признать. Никто не сумеет меня вернуть на правильный путь. Вы можете разве что попытаться перевоспитать меня эстетически, но для воспитателя это чревато риском дать себя убедить и перейти на мою сторону – в том случае, если обе стороны признают красоту как верховную власть.
– Ты же знаешь, я не виню тебя в том, что ты – легавый.
– Тебя от этого не тошнит?
Понимая, что ему нельзя растолковать, какое головокружительное чувство бросает меня к нему, я лукаво решил его немного поддеть:
– Это меня слегка задевает.
– Ты считаешь, что для службы в полиции не нужна смелость? Это ремесло опаснее, чем полагают.
Однако он говорил лишь о физической смелости и опасности, впрочем особенно не раздумывая. За исключением некоторых (Пилоржа, Жава и Соклая, лица которых выдают суровую мужественность, но умалчивают о тинистых топях, наподобие тропических районов, называемых трепещущими саваннами), у героев моих книг, а также мужчин, на которых падал мой выбор, была одна и та же кряжистая стать и бесстыднейшая безмятежность. Бернар не отличался от них. Одетый в костюм фабричного производства, он был вызывающе элегантен, подобно марсельцам, над которыми он посмеивался. Он носил сшитые на заказ желтые ботинки на довольно высоких каблуках, и от этого его тело приобретало царственную осанку. Это был самый смазливый из итальяшек, которых я знал. К счастью, я обнаружил в нем качества, несовместимые с честностью и неподкупностью киношных сыщиков. Он был мерзавцем. Но при всех своих недостатках, каким изумительным знатоком сердец, наделенным невиданной добротой, он мог бы стать, если бы поумнел!
Я представлял, как он гонится за опасным преступником и хватает его на полном ходу, – так некоторые регбисты бросаются на противника с мячом, обнимают его за талию и прижимаются головой к вражескому бедру или ширинке, пока он волочит их по земле. Вор будет цепляться за свою добычу и защищать ее, он немного попетушится; потом двое мужчин, понимая, что у них одинаково крепкие тела, готовые на любую дерзость, и одинаковые души, обменяются дружескими улыбками. Навязывая продолжение этой короткой драме, я сдавал бандита сыщику.
Настаивая (и как яростно!) на том, что у каждого из моих друзей есть двойник-полицейский, не подчинялся ли я некоему темному желанию? Я не собирался рядить преступника и полицейского в рыцарские доспехи, которыми награждают героев. Ни один из них никогда не был тенью другого, но, поскольку и тот, и другой, на мой взгляд, находятся за пределами общества, отвергнутые и проклятые им, я, должно быть, стремился слить их воедино, дабы четче выявить путаницу, в которую их ввергает людская молва, гласившая: «Полицейских вербуют среди певчих церковного хора».

![Книга За ш[т]орами автора Галина Шаульская](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-za-shtorami-351885.jpg)






