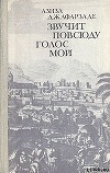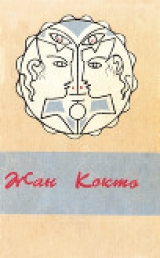
Текст книги "Проза. Поэзия. Сценарии"
Автор книги: Жан Кокто
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
IX
Каким бы классом мы ни ехали, всех нас вместе жизнь на той же огромной скорости, в одном и том же поезде мчит к смерти.
Мудрее всего было бы спать всю дорогу до этой конечной станции. Но увы, езда завораживает нас, и мы проникаемся столь неумеренным интересом к тому, что должно бы всего лишь помочь нам скоротать время, что в последний день нам трудно уложить свой чемодан.
Всего-то из-за коридора, который связывает разные классы, незаконно сближая и смешивая две души, сознание, что конец пути или высадка кого-то одного на промежуточной станции неминуемо разрушит идиллию, делает мысль о прибытии невыносимой. Хочется долгих остановок в чистом поле. Глядишь в окно, которое телеграфные провода превращают в неумелую арфистку, вновь и вновь разучивающую одно и то же арпеджио.
Пытаешься читать; все ближе конец пути. Завидуешь тем, кто за минуту до смерти, подобно Софоклу, не забывшему о парикмахере для Федона и о петухе для Эскулапа, без паники приводят в порядок свое хозяйство.
Жак, не снеся одиночества, выбрасывается из поезда на полном ходу. Или, быть может, водолаз, задыхающийся в скафандре человеческого тела, хочет снять его. Он нашаривает сигнальный трос.
Он разделся, написал несколько строчек на отрывном листке блокнота, положил его на видное место и распечатал пакетики с порошком.
Он аккуратно ссыпал их содержимое в пустую сигаретную пачку. Порошок искрился, как толченая слюда.
На полке у него всегда стояли – привычка, заимствованная у Стопвэла – бутылка виски, сифон и стакан. Он налил виски, размешал в нем порошок и залпом выпил. Потом лег.
Вторжение свершилось со всех сторон сразу. Лицо его отвердело. Ему вспомнилось подобное же ощущение, испытанное когда-то у дантиста. Он трогал онемевшим языком незнакомые зубы, торчащие в чем-то деревянном. Летучий холод хлорэтана сушил глаза и щеки. Волны мурашек пробегали по телу и останавливались вокруг бешено колотящегося сердца. Эти волны накатывались и откатывались от мизинцев ног до корней волос, подражая слишком тесному морю, которое все время забирает у одного пляжа то, чем наращивает другой. Место волн заступал смертный холод; он переливался, исчезал и возникал, как узоры муара.
Жак ощущал на себе груз веса пробки, веса мрамора, веса снега. Это ангел смерти совершал свою работу. Он ложится всем телом на того, кто сейчас умрет, и ловит его на малейшей рассеянности, чтобы обратить в статую.
Этот ангел – посланец смерти, вроде тех чрезвычайных посланников, что вступают в брак вместо принцев. Соответственно делают они это бесстрастно.
Массажиста не взволнует прикосновение к женскому телу. Ангел работает – холодно, жестоко, терпеливо – вплоть до спазма. Тогда он улетает.
Жертва чувствует, как он неумолим, подобный хирургу, дающему хлороформ, удаву, который, чтобы заглотать газель, медленно, постепенно расслабляется, словно рожающая женщина.
«Снежный человек… снежный человек…». Невнятный повтор завораживал его слух. Есть песочный человек, про которого говорят детям, когда они упрямо засиживаются вечером со взрослыми и оступаются в простодушный сон. Подбородок тычется в грудь и пробуждает их, и они, как встрепанные, выныривают на поверхность.
Жаку слышался какой-то голос, проговаривающий: «Снежный человек… снежный… снежный…» Не следовало на это попадаться, и Жак плыл на спине, запрокинув голову, лишь по оглохшие уши погруженный в неведомую субстанцию. Ибо в работе ангела ужасно было то, что, не подчиненная никакому порядку, она совершалась сверху, снизу, изнутри. Эта работа не была грубой; ангел делал передышку и возобновлял ее с прежним усердием.
Между решением утопиться, осуществлением его и сюрпризами, которые оно преподносит организму – пропасти, и какие! Сколько малодушных, едва вода зальет им ноздри, принимаются плыть или, если плавать не умеют, отчаянно изобретают способы удержаться на воде!
Жаком овладевал страх. Ему хотелось молиться, сложить руки как следует. Руки были неподъемные, нетранспортабельные.
Мертвая рука, отлежанная во сне, быстро наливается шипучей сельтерской; она пузырится и становится послушной. Руки Жака оставались безжизненными.
Движения, совершаемые аэропланом, не воспринимаешь, сидя внутри. Сам аппарат неподвижен. Пассажир, замурованный в шлеме и очках, видит домики, которые уменьшаются или растут, мертвый город, рассеченный рекой. Этот город качается или вертикально воздвигается настенной картой. Внезапно мы видим его у себя над головой. Этой игре вселенной вокруг пилота сопутствует страх. Сводит живот. Закладывает уши. Головокружение пронизывает грудь, как проволока – брусок масла. Бывает, что приземляются, думая, что летят на тысячеметровой высоте: пилот принял вереск за лес.
Жак, распростертый на кровати, начинал путать собственное состояние с явлениями внешнего мира. Стены дышали. Бой часов доносился то из чернильницы, то из шкафа. Окно было то ли закрыто, то ли распахнуто в звездное небо. Кровать плыла, кренилась, колебалась в неустойчивом равновесии. Он падал и медленно подымался.
В мозгу у Жака прояснилось, несмотря на пчелиный гул. Он увидел Тур, свою несчастную мать – она распечатывает телеграмму и каменеет; отца, собирающего чемодан.
«Вот и конец, – подумал он. – Смерть показывает нам всю нашу жизнь». Но больше он ничего не видел. Лицо матери изменилось. Теперь это была Жермена. Не то Жермена, не то мать. Потом одна Жермена, которую мучительно трудно было собрать в памяти. Он путал ее губы и глаза с глазами и губами какой-то англичанки, мельком виденной в казино Люцерна и привлекшей его желание. И все поглотил эдельвейс. Он рассматривал в лупу эту морскую звездочку из белого бархата, произрастающую в Альпах. Ему было девять лет. Пришлось пропустить поезд на Женеву, потому что он топал ногами и требовал, чтоб ему купили такой цветок.
– Воспоминания… – твердил он. Вот и воспоминания.
Но он ошибался. Эдельвейсом сеанс закончился.
Ночные звери прячутся днем; пожар выгоняет их из укрытий. Окончание корриды перемешивает публику с солнечной и теневой стороны; наркотическая буря перемешала в Жаке его темную и светлую стороны. Он смутно ощущал какую-то гнусность, какое-то бедствие, не относящееся к физической драме. Он не помнил ни о своем растраченном сердце, ни о беспутных ночах; он выблевывал их, как пьяный, не удержавший в желудке вино, которое сам не помнит, где пил.
Жак подымается. Он покидает собственные пределы. Он видит изнанку всех карт. Он не разбирается в системе, которую сейчас колеблет, но предчувствует, что понесет за это ответственность. В ночи человеческого тела есть свои туманности, свои солнца, земли, луны. Разум, уже не столь рабски зависящий от косной материи, догадывается, до чего же прост механизм мироздания. Будь это не так, его бы заедало. Он прост, как колесо. Наша смерть разрушает миры, которые в нас, а миры окружающего нас неба – внутри какого-то существа неимоверной величины. А что же Бог – в Нем вообще всё? Жак падает обратно.
Рассуждения такого масштаба не редкость при наркотических отравлениях. Многим посредственностям они внушают иллюзию великого ума. Те воображают, что разрешили мировые проблемы.
После недолгого затишья муаровые переливы, озноб, судороги возобновились. У Жака оставалось все меньше и меньше сил для борьбы. Родники пота пробились по всему его телу. Сердце еле билось. Он ощущал это биение тем слабее, чем неистовей оно было совсем недавно.
Ангел уложил его на лопатки. Он тонул. Вода поднялась выше ушей. Эта фаза длилась нескончаемо.
Жак больше не сопротивлялся.
– Вот так… вот так… – приговаривал ангел, – видите, совсем немножко осталось… не так уж это трудно…
Жак отвечал:
– Да… да… совсем не трудно… совсем… – и безропотно ждал.
Наконец, словно торпедированный корабль, который становится тяжелым, как дом, оседает и кособоко погружается в море, Жак пошел ко дну.
Он не умер.
Ангел получил неведомо какой контрприказ.
Дружок вернулся со студенческого бала (первого в его жизни) в пять утра и, отчасти чтобы занять спичек, отчасти – заручиться свидетелем своего подвига, заметив свет в щели под дверью, заглянул к Жаку.
Он увидел лжетруп, блокнот с запиской, разбудил Махеддина, Стопвэла, Берлинов, доктора с пятого этажа.
В ход пошли грелки, припарки. Жака растирали, вливали сквозь стиснутые зубы черный кофе. Открыли окно.
Г-жа Берлин, воображая себя причиной самоубийства, обливалась горючими слезами. Берлин кутался в одеяло.
Спасательные работы приняли организованный характер. Послали за сиделкой. В восемь часов доктор объявил, что Жак вне опасности.
И чему он обязан был жизнью? Жулику. Снова, но на этот раз не впрямую, его спасла темная сторона. Бармен продал ему какую-то довольно слабую смесь.
X
Выздоровление затянулось, ибо отравленная кровь наделила его желтухой. После желтухи в левой ноге обнаружились симптомы неврита, который затем стал рассеянным. Жаку нравились его пронзительные уколы, которые одни только и отвлекают от навязчивой идеи, а в медицине именуются пронизывающими.
Несмотря на благопристойное исчезновение чемпиона по прыжкам, улица Эстрапад усугубляла его изнеможение.
Наконец, когда его стало можно перевозить, г-жа Форестье, которая жила в гостинице и весь месяц ухаживала за сыном с помощью Дружка, забрала его в Турень.
Там-то и просыпается Жак за полдень февральского дня, уже оправившийся и от яда, и от лекарств.
Его комната оклеена обоями со сценами старинной псовой охоты. Жар в камине яркий, пушистый, полосатый, издали похожий на кошку, а если подойти вплотную – пугающий, как морда тигра. Мать сидит около шезлонга и вяжет.
Жак оттягивает пробуждение. Он притворяется все еще спящим. Он не пускает воспоминания детства мешать его новым воспоминаниям.
Он занят нескончаемой, неуклюжей перестановкой шахматных фигурок: Жермена, Стопвэл, Озирис, Жак Форестье. Он исправляет свои ошибки, просчитывает невыполнимые комбинации.
Эта игра изводит его и подрывает скудные силы выздоравливающего. Через несколько секунд на шахматной доске все перемешивается; Озирис, Стопвэл, Жермена зажимают его со всех сторон. Он проиграл, как всегда.
Жак задается вопросом: не обознался ли он, не была ли Жермена подделкой, заблуждением его желаний, обманутых случайным сходством. Но нет. Желание не ошибается. Она из той самой расы.
Ибо везде на земле это особая раса; раса тех, кто не оглядывается, не страдает, не любит, не болеет; раса-алмаз, которая режет расу-стекло.
Ее-то представителям Жак и поклонялся издали. На этот раз он впервые столкнулся с ними вплотную.
Что могут сделать друг другу такие вот Жермена и Стопвэл? Но Дружок может порезаться о Стопвэла до самой души.
То же и раса-река. Дружок и Жак – из расы утопленников. Жак легко отделался. Еще немного – и остался бы на дне. Впрочем, какой толк с того, что его выудили? Потечет мимо какая-нибудь из этих рек, сверкнет какой-нибудь из алмазов – и он неотвратимо кинется туда же.
Так нет же! Он будет бороться. Воля может изменить линии руки. Можно воздвигнуть плотину и повернуть судьбу по-своему. Улисс привязался к мачте; привяжется и он. У домашнего очага он спасется от сирен. Распознать их легко. Стоит решиться больше не преклонять к ним легковерного слуха – и сразу обнаружится пошлость их музыкального репертуара.
Что такое, собственно, алмаз? Разбогатевший сын угольщика. Не станем жертвовать ему своим будущим. Ни реке, ни алмазу. Не видать больше наших слез ни жидкой, ни твердой воде.
Так уговаривает себя Жак. Ему кажется, что он четко выделил враждебный тип, очертил его, видит как на ладони, накинул петлю на призрак, что он вооружен против опасности, о которой знает все.
Слова «река, алмаз, стекло, сирена» – всего лишь дикарские тотемы. Полезней был бы перечень примет. Но откуда ему взяться? У истинного чудовища несметное множество самых разных голов. Тело его скрыто за их бесчисленностью.
Жак потягивается, с улыбкой взглядывает на мать. Она встает. Сейчас она совершит трогательную бестактность – выдаст свою ревность.
– Жак, – говорит она, – сыночек, не мучь ты себя из-за скверной женщины.
Жак разом забывает свои решения. Он подбирается, готовый дать отпор. Г-жа Форестье снова садится. Он нашаривает на столе бумажник, демонстративно вынимает фотографию Жермены. И что же видит? Актрису. Он закрывает глаза. Потерянная было узда возникает вновь. Он хватается за нее. Мать все прощает и говорит, лишь бы не молчать:
– А помнишь Иджи д’Ибрео в Мюррене?
Она считает петли…
– В газете извещение о ее смерти. В Каире.
На этот раз г-жа Форестье роняет вязание. Жак валится на подушки. Слезы бегут по его лицу – глубинные слезы.
– Жак… ангел мой! – вскрикивает мать. – Что ты, что? Жак!
Она обнимает его, окутывает своей шалью.
Он рыдает и не дает ответа.
Ему видится кровать. У кровати стоит бог Анубис. У него собачья голова. Он лижет маленькое личико, такое застывшее, такое благородное, уже мумифицированное страданием.
Эпилог
К концу месяца Жак был здоровее, чем до болезни, ибо болезнь – отдых, целительный для нервных людей. Надо было возвращаться к учебе. Решили, что в Париж он поедет с матерью, что они устроятся там по-семейному, и г-жа Форестье наймет репетитора. Идею эту подал Жак. Он чувствовал, что еще недостаточно обрел равновесие, чтобы жить без поддержки. Он знал, что они с матерью будут неминуемо ушибаться друг о друга, но константа любви, уважения подаст ему сигнал при малейшем отклонении от курса. Собственная его природа была недостаточно прямой, чтобы одергивать его. Когда она клонилась и сбивалась с пути, это происходило плавно и незаметно.
Г-ну Форестье больше не нужно было свинцовое грузило. Он отдал свою жену сыну. В мае он их навестит.
В Париж прибыли утром, и по сожалению о том, что он сходит с поезда не один, Жак понял, насколько необходимым будет присутствие г-жи Форестье. У него перехватывало дыхание. Он никак не мог решиться нырнуть в толпу. Трудно было войти в море. Вновь обретенное, оно показалось ему холодным и бурным.
Г-же Форестье надо было проветрить квартиру, договориться с прислугой, убрать чехлы и камфару. В семь они с Жаком встретятся и пойдут куда-нибудь обедать.
Улица возбуждала его исцеленное тело. Он говорил себе: «У меня открылись глаза. Я смотрю на Париж, как смотрел на Венецию. Нужны драмы, чтобы разбудить меня».
Затем он вновь впадал в бессилие под хаосом домов, автобусов, вывесок, загородок, киосков, свистков, подземных рокотов. Он вспоминал молодых героев Бальзака, которые, попадая в Париж, ставят ногу на первую ступеньку золотой лестницы. Для себя он не находил никакой зацепки. Он тяжело всплывал поверх этого легкого Парижа. Он был пятном масла на воде; плавучим обломком. Ему стало тошно.
Надо было зайти к потенциальному преподавателю, знакомому его отца, на улицу Реомюр. По счастью, того не оказалось дома. Жак оставил свою карточку.
Когда он проходил мимо почты около биржи, какой-то человек вышел из-под земли. Он узнал Озириса. Озирис, выходящий из некрополя, зияющего под храмом, был богом Озирисом, воплощением прошлого. Сердце Жака неистово забилось. Он прибавил шагу.
– Эй! Жак! Жак!
Нестор окликал его. Скрыться было невозможно.
– Куда вы так бежите? Ну надо же! Вот не ожидал вас встретить. Жермена говорила, что родители заточили вас в деревне. Между нами говоря, я вас посчитал изменником. Вроде бы мы ничем вас не обидели. Что ж так исчезать, не попрощавшись?
Жак промямлил, что был очень болен, что только что приехал из Турени и всего на один день.
– В Париж – на один день? Нет, я вас так не отпущу. Пойдемте выпьем вермута.
Контора Озириса была в двух шагах, на улице Ришелье.
Между тем как Нестор открывал двери, разоблачался, доставал из стенного шкафа вермут и стаканы, Жак увидел на каминной полке совсем недавнюю фотографию Жермены. На глаза ему навернулись слезы.
– Вы хорошо выглядите, только бледноваты. Выпейте-ка, – говорил Нестор, – вермут хорошо действует на лимфатическую систему. Курите? Нет? И я больше не курю. Соблюдаю режим. Вот поглядите на мой живот.
Он развалился в кожаном кресле, закинув ногу на ногу, левая рука на щиколотке, в правой – стакан.
– Эх, Жак, чертяка! Сколько мне Жермена ни твердила, что родители вас затребовали в срочном порядке, я все гадал, не обида ли у вас какая. Поди знай, что Жермена могла учудить! Ей бы все дразниться. То-то она обрадуется, что я вас видел. А знаете нашу последнюю причуду – кто у нас нынче фаворит? Нет, конечно, откуда вам знать. Попробуйте-ка угадайте – Махеддин! Да-да, голубчик, Махеддин. Только и света в окошке, что Махеддин. Махеддин поэт, Махеддин красавец! Видите, она не меняется.
Жак не ожидал услышать имя араба. Его удивление развеселило Нестора. Он хлопал себя по коленям и хохотал.
– Мода есть мода. Пройдет в свой черед. Было уже, видали. Было и прошло, было и прошло… Жермена у нас нынче курит сигареты с амброй, ест рахат-лукум, жжет гаремные благовония. Все, от чего меня воротит. Я старый дурак. Махеддин всегда прав. Заметьте, если бы это я навязывал ей такой восточный базар, не приняла бы ни за что на свете. Вот вам женщина. Вот вам Жермена. Я не вмешиваюсь. Такая уж она есть, не нам менять.
– А Луиза?
– Луиза? Жермена с ней больше не видится. Тут своя история. Представьте себе, Махеддин вовсе не спал с Луизой. Это была платоническая любовь. А Жермена, видите ли, Махеддина у нее увела, и прочая, и прочая. Украли ее поэта! В общем-то меня не слишком огорчает, что она раздружилась с Луизой. Тоже штучка. Тут, видите ли, до Махеддина свет клином сошелся на Англии. Мы и спортом-то занимались, и в гольф играли, и верхом ездили, ели порридж, читали «Таймс». Помереть можно было со смеху. Ну, раз на повестке дня Англия, нужен англичанин. Обзавелись англичанином; симпатичный, впрочем, парнишка. Да вы его знаете: Стопвэл. Как раз после вашего отъезда Стопвэл и попал в любимчики. Жак нас покинул – подавай нам обновку. Улавливаете? Бах – и готово. Англия продержалась тридцать семь дней. Через неделю после первого приступа англомании она находит этого вашего Стопвэла. Через месяц после находки я получаю анонимку. Жермена вам изменяет… (стиль вам известен), у нее холостяцкая квартирка на улице Лобиньи. Ладно. Допустим. Я клюю. С охоты мчусь прямо на улицу Добиньи. Звоню. Открывают. И знаете, кого я там накрыл? Стопвэла. Стопвэла с Луизой. Ни больше, ни меньше. Бедняга Стопвэл был красный, как помидор. Луиза хохотала до слез. Квартирка-то ее – чтобы прятаться от Высочества, который проживает в Париже инкогнито. Видите, как все переврали! По дороге домой я все не мог решить, рассказывать ли Жермене? С ней ведь не знаешь, как обернется. В этот раз восприняла все трагически. Она-то считала Стопвэла девственником. Плакала. Как же, разбилась ее игрушка, ее конек, ее Англия. Я уж и заступался за Стопа, и объяснял, что плоть слаба, что Луиза… «Не надо. Он скотина. Все мужчины подлецы», и т. д., и т. п. Заявила, что ноги его больше здесь не будет. Кричала, что ее дом не дансинг, что она уедет жить одна на ферму. Уверяю вас, было что послушать.
Жак слушал, и ему было довольно-таки неловко. Квинт Курций [27]27
Квинт Курций – древнеримский историк и ритор I века н. э., предположительно автор многотомной «Истории Александра Македонского».
[Закрыть] пишет, что Александр, имея дело с варварами, мало-помалу заражался их недостатками. Но Жак если и подцепил от Жермены толику надувательской ловкости, успел уже ее утратить. Он больше не был Жаком из «Вокруг света». У него в голове не укладывалась такая слепота. Сейчас он был похож на детектива, который, угадав вора под усами банкира, нащупывает рукоятку револьвера. Он старался понять, не издевается ли над ним Озирис – может быть, он все знает и готовит какой-нибудь подвох?
Нестор продолжал:
– Чего ж вы хотите, дружок, она дьявол, сущий дьявол. Я ее такой и люблю, а поскольку она мне верна, остальное неважно.
Вермут Жака выплеснулся на кресло.
– Оставьте, ничего, – сказал Озирис. – Ей надо как-то развлекаться. Я-то ее развлекать не могу. Я снимаю ей квартиру, одеваю ее, балую, но у меня ведь банк. Голова забита расчетами. Будь я таким вот Стопвэлом или Махеддином – по сей день пас бы ослов в Египте.
Он встал. Побарабанил по оконному стеклу.
Последние слова придали этому человеку такое величие, что Жак чуть отступил, чтобы охватить его взглядом. Быть может, то, что он в состоянии разглядеть – лишь подножие? Ему почудилось, что некий гранитный Озирис, восседающий на пяти ярусах мертвецов, улыбается с неизмеримой высоты, а вокруг него – небосвод в созвездиях цифр.
Озирис прервал молчание.
– Вот так, – сказал он, – такие-то у нас дела. А вот и сводка биржевых курсов. Мне надо идти. Вы со мной? Вам сейчас куда? Могу подвезти.
Нестор взял свое пальто и цилиндр. Нет. Перед Жаком был знакомый Нестор-простофиля. Его рога не были рогами быка Аписа.
В приемной молоденький телефонист наклеивал на конверты марки.
– Что вы делаете, Жюль? – спросил Озирис. – Вы наклеиваете марки по пятьдесят сантимов на городские письма?
– Других под рукой не оказалось, г-н Озирис, и я подумал…
– Зря подумали, вы уволены.
Лик Озириса был воплощением непреклонности. Служащий пошатнулся.
– Без возражений, – прикрикнул Озирис, – пройдите в кассу. Вы уволены.
Хлопнула дверь.
На лестнице Жак все еще видел перед собой искаженное лицо человека, потерявшего работу. Под сводом парадного он решился. На тротуаре заговорил.
– Г-н Озирис, – сказал он, – извините, мне надо бежать. Но окажите мне одну милость. Это насчет Жюля. Вы были несправедливы. Вы потеряли из-за него всего один франк. Почему вы его увольняете?
– Почему? – Озирис помолчал. – Потому что ЭТОГО, милый мой Жак, ЭТОГО я могу избежать.
Затем, уже с обычным своим выражением, благодушно распрощался. Автомобиль отъехал.
Жак остался один на площади биржи. В ушах у него продолжало звучать заглавное ЭТО Озириса; он так и видел, как египтянин, произнося это слово, треплет его за отворот пальто, словно за ухо.
Фраза казалась гуманной, высокой и таинственной. В ней ему вновь почудилось что-то от улыбки колоссов.
Скорее всего, никакого смысла, кроме финансового, в ней не таилось; то была лишь наглядная демонстрация метода, обеспечившего могущество Озирисов, способных снести самые тяжелые потери, глазом не моргнув – если только потери эти неизбежны. Но мысль Жака забегала вперед, обобщала.
Он решил на основе этой фразы, чего бы то ни стоило, выстроить себе характер, подковаться свинцом, облечься в какую-нибудь униформу.
Я болтаюсь неприкаянно в самом себе, думал он, и ЭТОГО я могу избежать. Остальное – Божья воля.
Обходя биржу по четвертому кругу, он увидел за воротами уволенного служащего Озириса. Жюль выглядел на диво веселым. Он играл в салки с велосипедистами из агентства «Гавас» [28]28
Агентство «Гавас» – крупнейшее французское информационное агентство, основанное в 1835 году и просуществовавшее до 1940 года. Позднее на его основе было создано агентство «Франс Пресс».
[Закрыть].
– Странная страна, – пробормотал Жак.
Именно так выразился бы ангел, сошедший посетить этот мир, спрятав крылья под заплечным ящиком стекольщика.
Он добавил:
– Под какой униформой сумею я спрятать мое слишком громоздкое сердце? Его все равно будет видно.
Настроение Жака вновь омрачилось. Он прекрасно знал: чтобы жить на земле, надо следовать ее изменчивой моде, а сердце здесь нынче не носят.