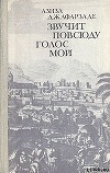Проза. Поэзия. Сценарии
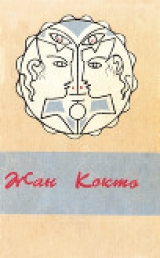
Текст книги "Проза. Поэзия. Сценарии"
Автор книги: Жан Кокто
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Распятие
1
Светлейший. Плетево
древес. И лестница
на дереве сухом, стоящем круто.
Крутая лестница на дереве
сухом. Крутое стеклышко,
сводящее в пучок все слезы.
Итак, им виделся кусок колючей
проволоки. Мнился тени груз. Им виделся
каштан гвозденосный. Прожилки
в древесине. И жилы человека.
Тропинки в крошеве скрещений. Белье,
что завязало все пути
в громадный узел, и ветер недвижимый,
и ставень, с корнем вырванный.
Им виделось, как вьются и крошатся
сплетенья. Тени груз. И остриё стропил.
Окно отверстое. Распоротая рана. Избранник сердца.
Взвихренный ужас крыл.
Отвратной розы куст. И лестница
бедняги бочара.
2
Се – плетево. Крутая изгородь
шипов. Кашица
сна. И солнышко дробится
в обломках лодки.
Вот устрицы, вот мидии и ракушки иные,
уснувшие на дереве —
обломке утлом катастрофы.
Кто, я рискну спросить, приклеил
к стеклам,
кто эту белую труху,
разбухший иней, хранящий форму
того, с кого живьем
содрали кожу?
3
Светлейший. На месте мандрагоры растет
корень внутренностей.
О, что за форма! Как бы пожар
окаменел, водой залитый.
Какой водой! Слипшейся
слизью, шумными шутихами
шутов, шипом падения
ставень в лавках ввечеру.
Из острых игл и воска спелого.
Криками, вбитыми молотом
в дробящиеся жилы
иудейского древа.
4
Кровоточащее белье, развешанное по
колючей изгороди, по купам
злостной ежевики,
по шелковицам, чьи яростные ягоды
язвят столы пугающими
пятнами. Пятная простыни,
что сохнут на шипах
колючей проволоки. На солнце
сохнут пелены, извалянные
в грязи и тлене. Висят
покровы, одеждой некогда служившие гримасе
одной китайской тени
какой-то мнимой прачки с немнимыми руками.
5
Скажите, разве может благом стать
нам ноша? Я стану нежить рану
холодными устами, открытыми донельзя шире
и в крик кричащими.
Я вслушаюсь во флейту мозга костного,
столь нежную, что сам костяк
не держит больше малой жилки, а все из-за
пузыря крови, пузыря
слюны, желчного пузыря,
пузырей, едва притороченных к осиной талии,
разрубленной пополам.
Скажите, разве ноша благом может стать?
А приложу-ка я газовую вату
и крестик розовый,
приклеенный поверх.
6
Древо с прямоугольными краями,
трудноузнаваемое в таком виде
странном, выбросило
две ветви,
две ветви с прямоугольными краями,
в которых бьются, сигналя пораженье,
трепещущие жилки,
так бьются, что туннели тела
битком набиты
текучей толкотней
толпы, гонимой в бег кошмаром.
7
Все было: отмывали помыкали
сквернили свежевали рушили
кололи раздробляли
травили гнули трахали пихали
вертели прибивали отрывали
сращивали колесовали
рассеивали плавили рубили
вешали длинили коротили
мозжили подымали украшали
провозглашали заушали бичевали
и вечности черты мерцали
на всем – от искореженной дощечки
до золотарничьих сапог
8
Машина адская в движенье приводилась
согласно формулам, закрытым
рассудку немудрящей машинерии,
согласно положению стремянки,
на кою трубочист не может стать
под страхом смерти. И вечности
черты негодной обнажились
в самом сердце драмы, машина с какой-то
обессмысливающей точностью
следила, кроме прочего,
за канделябром светочей небесных.
9
Видели когда-нибудь столько лестниц сразу?
Видели когда-нибудь на высоком пространстве
подобный частокол, такую странную
дождевую клетку, подобное
устройство для возведения лесов? Видели
когда-нибудь столько летучих
паутинок вокруг огромных балок?
Столько лестниц? Настоящая
военная машина против
оборонительных валов.
Этот воздушный беспорядок
балконов и решеток водосточных
перил и прочих заграждений
и пекарей и мясников
и узников, украдкой подающих знаки
прелестным девам. Не разберу,
написано уж точно на иврите, но я открою смысл:
ступени сплошь ступени а меж ними
карабкается вверх на цыпочках
на кончиках тончайших пальцев
на шипиках дрожащих крыл
цепочка ласточкиных зовов.
10
По лестнице пунцовой шли
босые ноги, что несли незримых
пожарников чудовищно нескромных.
Взад и вперед, толкаясь и грубя,
то сверху вниз, то снизу вверх,
то вбок,
к ошметкам остролиста, к ажурным кружевам
крапивной злобы.
О, что я говорю? О, твердь небесная,
которую мы как пространство чтили,
вся, вся она ютится на кончике булавки,
уколотой там, где-то, руками
инакими, инакодушными.
Нашлось бы там и то, с чего, нашлось
бы (между нами) там и то, с чего
от хохота помрешь.
11
Там были и удары. Удары
металла о металл. Древняя роза
ветров. Удары. Ржавчина
ударов по вееру из косточек
ножных. По ржавленой циновке из костей.
По крашеным подмосткам. По
миленькой миниатюре из молитвенника,
чьи буквы – нервы, в чьих строках
боль движется быстрей, чем боль
в застенках пыток.
Ударов отголоски. Ордена
ударов. Ушные раковины
ударов. Душа древесная. Душа
ударов сплошь бездушных.
Удары бедняги бочара. Удары
бедняги плотника. Свищи
в синюшном мясе. Дверные косяки,
где линии от рук
запечатлелись. И шея,
и шея лебединая.
12
Вот славная работа. О, что за странная
прогулка. О, что за похороны
дивные! О, что за купы
шиповника! Что за жара! О, что за мена
в убыток ловкачам!
О, что за день
обманов и прельщений! Я прошу
слова, которого меня лишили.
Его связали. Его
бичом стегали. В него плевали
сверху вниз. О, всюду столько швали!
13
На мосту в этом крайнем
раздрае пираты – жертвы
наважденья – организовали
сносное существованье эмигрантов на основе
многокрасочного сна, не забывая
о том, что остается от лесов,
сведенных злоупотребленьем власти
под ураганом бешеным рубах.
Палец ноги поставлен в центр
циклона, и вровень с ним
верхушка знамени. Приметы,
которые нельзя прочесть: рога
быков, хвосты коней, козлы,
орлы, истерзанные вдрызг.
14
На слишком знаменитом
сукне зеленом сплошь толпятся
крошечные косточки скелета,
проворно испещренные пометом
пещерных мух. Солдаты —
по группам, как в борьбе
греко-римской. Конная статуя —
один лишь чих коня пятнает
ужасной пеной все приспособленья
для пригородных фейерверков,
в которых намертво пригвождены
светила мертвые.
15
Военачальник в дурном
расположенье духа из-за
свиданья неудачного взмывает ввысь
над толпами на рьяном скакуне, чьи доблестные
ноги свисают до земли.
Он – при помощи гривастых оплеух —
зеленых мух гоняет, не ведающих боле,
куда главу им, бедным, приклонить.
Вот церемония, что заставляет вспомнить
театр мясных рядов, что изукрашен полотнищами отбивных
и золотыми листьями
кокард.
16
Гордиев. Так назову я узел
из мышц, из жил
стервятника, что только и мечтал
о ранах и наростах
на острие воображаемого
майского шеста. Он дурно
жил, он проглядел бездарно
пролеты лестницы из палочных ударов,
по коей перла вверх орда белоколпачных
поваров с гусями щипаными в пол обхвата.
Тут и петух фанфарой затрубил.
Высь вдруг сравнялась с низом.
Ложись! Ложись! – ему кричали
из ближних кухонь.
17
Несчастный случай
так быстро подоспел. А пугало одно
воззрилось жадно
на метаморфозу веток
древесных, гнезд древесных, косточек
древесных, всю внешнюю кору
вырванной с корнем ели, кровоточащей,
хрустящей горько в полузабытье
бесчувственном, а пугало стращало
ангелов, а те вопили: Скорей! Скорей!
Нельзя вам медлить
ни минуты! А эти простофили
вокруг порхали,
орали во все горло и роняли перья,
которые ему в глаза летели и липли
к разверстым ранам.
18
Светлейший. Звездный образ
убийств.
Все звери
коленопреклоненные рыдают. Ключей
семерка.
Три грани колеса чудес.
Длань,
которая при этом и не длань. И око,
которое при этом и не око.
Смертельное, как в грезе,
отвращенье. Простая
трудность бытия. Цыганка
уснувшая. Тура
из шахматной игры. И слон ее —
он вне удара.
19
За черной школьной партой,
где она пестовала
своих дурацких вертопрахов, смерть
морит ногти ей и морит ей пенал,
лижет златого скарабея чернил
лиловых, морит, линует лист и льстит
помаркам, вытягивает строки,
морит бумагу, и бювара пегий бок,
вытягивает строки, тянет, тянет
язык туманный, лижет скарабея
в присутствии аббата (вот геройство).
Но как же мог он, зоркий,
не заметить,
что вознамерилась она переписать
всю вереницу строк?
20
Все тело разом извергает
наружу жидкости свои,
чтоб прочь бежать по месиву дорог,
утративших достойный облик.
Все начинается
в углублениях подмышек, идет в обход,
теряется, вновь сходится – и создает
речную сеть для анатомии.
Ледоход пошел с проржавленных гвоздей,
дробя предельно хрупкие устройства
завода, привыкшего работать без освещенья ночью.
Вот потому-то все нутро
наружу вывалилось
в поисках исхода.
Вода тоски цепляла за угол
карнизов, держащихся на честном слове,
свои от страха обезумевшие капли, удерживая
их от прыжка шального в пустоту.
21
То, что никак не назовет себя (и в то же время
чего я не могу назвать с моей манерой
заставлять слова
молчать), то, что никак
не назовет себя, – не что иное, как мед
пчел смертной муки. Он
изливается из улья, он крутит
из одуряюще отвратной сетки
неполный профиль в основанье
кадуцея. И можно лишь гадать,
из чего же он состоит.
22
И вот ведь что: с лица здесь проступает профиль,
а с изнанки он связан с кистью
руки посредством
гардины синей, по виду как бы красной,
и посредине лба,
в завидном равновесье, стоит столп
соляной. И вот – лицо иное,
что в профиле сквозит бесформенном
от стеклышка крутого слез,
безвольно вдавливает щеку в ужасную,
ужасную смолу.
23
Гром колесниц, увитых лентами
гром царственных кистей акации
гром ложа брачного со свадьбы,
справляемой на верхнем этаже
гром баррикад
гром канонады
гром криков: Все туда,
туда! Гром
из флагами украшенных домов выстреливает в небо
струею крови,
что превращается в вино. И ангелу Сежесту
пришла пора трубить в фанфару. И тень
объекта, воспрянув, превращается
в объект.
24
Оно разодрало с восхода до заката
ткань тишины. И все услышали:
вдруг тишина вскричала столь
истошно, что вынесть не достало сил
слуховищу сердца. Гроздь
чернильных брызг из мастерской руки,
исполненная ценностей нетленных,
чернящая полет тлетворный
позорящих бумаг, сожженных впопыхах.
А в это время прямо бьющий ливень
штыков настиг,
верша неистовство, дрожащих жертв.
25
Коленопреклоненный справа
и слева. Всего один
моей породы (нечем здесь
гордиться) в кольчуге,
сделанной из цифр,
в доспехах из грохочущего шума,
один коленопреклоненный слева,
и справа тоже (снег на руках слепого —
как стол накрытый), я преклоняю
колена – один моей породы,
увы, в покоях этих, где бесчестье
свершилось, и желтый
рот увечья моего
всеведущего оказался
способен произнесть хоть горстку слов.
Разные стихотворения
От своего лица1
Несуразности тайн и ошибки в расчетах
Небесных – признаюсь, они мне на пользу.
Все стихи мои в этом: в переносе на кальку
Незримого (незримого только для вас).
Я сказал: «Бесполезно кричать, руки вверх!» —
Преступленью одетому бесчеловечностью.
Я чертил горизонт для бесформенной дали,
Был у смерти секрет – мне его передали.
Я его проявил реактивами синих чернил,
Потаенные тени в синеющий лес превратил.
Заявить, что задача была безопасной, —
Безумье. Ловушка для ангелов!
Проверяя удачу, крапленым тузом заходить
И шпионить за статуей, что научилась ходить.
На аркадах дворцов, привлекающих глаз
Пустотой, под которыми слышится глас
Петухов, пастухов или автомобилей
(Эти звуки окраины так полюбили).
Из небесных кварталов спускаются клики веселья
Неземная молва, будто крики иного Марселя.
2
ГРЕЦИЯ:
Там, где море и мрамор овечьим руном завивались
Там, где змеи узлами на посохе крепко свивались
Там, где злобные птицы прохожих пытали загадкой
Там, где парус вздымался не ветром, но песнею сладкой.
Там, где пастуший посох гнал надменного орла
Там, где слепой инцест преследовал тела
Царей, цариц, богов, подъятых на котурны,
Сковав безумный крик личиною скульптурной…
Вот таков, как мне кажется, эллинский лад.
Каждый бог (он же дьявол), как птица ночная, пернат,
И увенчанный шляпой, что мы в путешествии носим,
Выступает Меркурий, сжимая в руке цифру «восемь».
3
Увечная молитва
Стало детство. В моем проносились жокеи,
Обнимая ветров воспаленные шеи.
Птицы в окнах, что гвозди в сплетении рам.
И любовь. Магдалина скосила чарующий зрак,
Шаловливые пальцы моих не отпустят никак…
Столько зла принесла мне, что не пожелаешь врагам.
А потом я к резцу потихоньку привык
И скульптурам, читающим птичий язык.
Обнаружили дети, играя, что эти скульптуры
Под перчатками черными скрыли мерцание мускулатуры.
А прелестная смерть, как воздушный лихой акробат,
Скоро мне показала все сложные трюки подряд.
Небосвод подымается дымною сенью
Между пальцев трагических вашей весны;
Носят ангелы тяжкие звезды-поленья,
И летают громами влюбленные сны.
Безумной дамы, над звездой восставшей,
Пророческое слышим бормотанье;
И Божий лик, внезапно засиявший,
Несется ввысь, не зная пропитанья.
Тягучий сон, чудовищно нагой,
Выходит за пределы сонной ночи;
Господних роз цветут земные очи
На солнечной короне золотой.
И ангел преодолевает вал
Так медленно, подол подъявши кроткий:
Невероятное изящество походки
Сияет в странной тесноте зеркал.
Небесная рука распахивает шторы,
Дверями хлопая, пугает нас во сне.
Стекольщик на спине несет похмельный город,
Созвездия матрос рисует на спине.
Поет нам соловей, конец времен вещая, —
Так добродушный Бог нам шлет приветный свист,
Но в сердце метит он, пращу свою вращая,
И камнем соловья сбивает сверху вниз.
Спешите мне помочь, судьбы моей светила,
По линиям руки я не могу гадать;
Лукаво нас раздел перун господней силы,
Но прежнею тропой ступает благодать.
Остановим же смех, наносящий увечье,
Отберем у разящего радия нож,
Станем птиц сторожить, как горящие печи,
И постигнем благую Господнюю ложь.
Забылся сном петух на аспидной ловушке
(Такой уловке только птицы поддаются);
А велогонщики, морковные веснушки
Упрятавши в цифирь, над петухом смеются.
В лунатичной звезде, в огневом перевиве,
Океанского гнева печатном курсиве,
Под жестокого ветра ласкающий вой
Я погибну, но смерти не сдамся живой.
Вставай, матрос, ты география!
Ты пенье птиц на звездах многоярусных,
Иуда, узнанный по фотографии,
И ангел, пойманный в тенётах парусных.
И в целом эти громкие разоблаченья
Пугают смерть, прижатую к стене.
А я хватаю гриву звездных завихрений —
Опля! Лечу во праздничном огне,
В гуденье поездов, назад бегущих нот,
Охотничьих рогов, леса клонящих мощью,
А ночь (твердыня и поток) вправляет мощи
Моей семьи в хрустальный небосвод.
Три мельницы твои, Иисус, стоят без сил,
Небесный гнев в ночи склонил центуриона;
Уснули до смерти измученные жены
И род еврейский, что тебе искусно мстил.
Сомненья, все ко мне, чтоб отвратить сомненье
Порвите занавес о тернии Христа;
Луна взошла тайком, и меловою тенью
Как знаком каббалы пометила врата.
Но я неграмотный – и в том мое несчастье.
О школы Франции, что вы мне преподали?
Копилки, барабаны, сласти —
Вот жалкий реквизит моей печали.
И все начнем с начала сей же час.
И все начнем с начала мы, о Боже.
Осел и бык теплом хранят алмаз
Невиданный. Смотрите. Посмотрите на него же!
Смотрите, светит он земле и всей Вселенной
В луче таит он многоцветный строй
Пронзает Бога радугой мгновенной
И этот луч – медвяный шумный рой.
Дарители соломенных пеленок
Сон окружили, на коленях – справа, слева;
Пусть подождут немного, ведь спросонок
Не станешь снова как Адам и Ева.
Бежавший змей укрылся за подпругой
Седлающих угольник тьмы упругой,
Когда в Сен-Клу рассветный тихий гость
В небесный свод земной вбивает гвоздь.
Вот манием руки гребец вздымает своды
Ковчег несущей тьмы пирамидальной;
Он часто пресные пересекает воды,
И тени для него не так печальны
Тенета вьет паук меж пальцев острова
И правит курс по линиям руки.
Мне карты не нужны и маяки
В чертах намеченных морского остова.
Мне тошно от актеров и актрис,
Стоящих по углам картонных зданий.
На сонмище раскрашенных созданий
В последний раз смотрю из-за кулис.
Боже мой, я не сын полуночного мира;
Аполлон задремал, позови… я приду,
Хоть натянуты нервы помешанной лиры,
Так беспомощно ноги воздевшей в бреду.