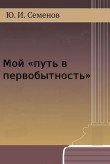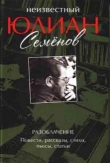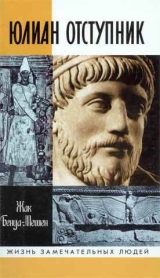
Текст книги "Юлиан Отступник"
Автор книги: Жак Бенуа-Мешен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЕЛИОС-ЦАРЬ, ПОБЕЖДЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СТРАДАНИЕМ
Согласно одному из писем Юлиана, однажды ночью во время его пребывания в Лютеции ему приснился странный сон, который он следующим образом пересказал своему врачу Орибасию 1:
«Я видел очень высокое дерево, растущее в просторном триклинии. Оно склонялось к земле. От его корней поднимался другой росток, пока еще маленький, но весь цветущий и покрытый почками. С грустью и страхом я подумал, что это слабое деревце может быть вырвано из земли вместе с большим. И когда я подошел ближе, то увидел, что большое дерево уже лежит на земле, в то время как маленькое все еще стоит, хотя и слегка вытащено из земли. При виде этого моя тревога возросла. „Как жаль это прекрасное дерево! – воскликнул я. – Даже его отпрыску грозит смерть!“ И тут незнакомый голос сказал мне: „Посмотри получше и успокойся. Корни маленького деревца остались в земле, оно цело и невредимо и теперь только будет крепнуть“».
На вопрос Юлиана о значении этого сна Орибасий ответил:
«Его смысл ясен: старое дерево – это Констанций, молодой росток – это ты».
Представим себе на минуту, что подобный сон приснился святому Афанасию Александрийскому или святому Григорию Назианзину, современникам Юлиана. Если бы они спросили кого-нибудь из своего окружения о значении этого сна, то, без сомнения, получили бы такой ответ:
«Обреченное на смерть старое дерево – это Римская империя; молодой росток, которому суждено крепнуть, – это христианская Церковь».
Сегодня у нас есть достаточно оснований считать, что именно такой ответ был бы правильным.
Ибо, несмотря на все усилия Юлиана по воскрешению язычества – пусть даже в виде синтеза митраизма и александрийского неоплатонизма, – ни у него, ни у кого бы то ни было другого не хватило сил для того, чтобы спасти большое дерево от гибели или помешать молодому побегу расти с неимоверной быстротой. На деле такой ход развития был неизбежен. Он был естественным следствием особенностей структуры римского общества III–IV веков. Сколь бы пылкими и искренними ни были убеждения Юлиана и его сторонников, они не могли ничего изменить. Хотя внешне и может показаться, что это не так, приверженцы «Непобедимого Солнца» были изначально обречены на поражение.
Конечно, Юлиана отталкивали бесконечные потасовки между различными христианскими сектами. Ведь монофизиты, ариане, донатисты, циркумцеллионы, энкратиты и монтанисты (мы упомянули лишь основные течения) постоянно грызлись между собой. Можно понять, почему он испытывал явное отвращениие к неопрятности адептов этих течений и к зачастую недостойному поведению их священнослужителей; к их всклокоченным бородам и покрытым вшами телам; к их преклонению перед сыном галилейского плотника, который оказался даже не в состоянии сам сойти с креста, чтобы доказать свою божественность; к мрачной приверженности христиан к костям и черепам, которые они превращали в реликвии; к их узким и темным церквям-склепам, где они упорно повторяли заунывные гимны; к их болезненной привязанности к смерти и той извращенной радости, с которой они ожидали конца света. Разве и впрямь не кажется все это зловещим по сравнению со светлой религией Зевса и Аполлона, с возвышенными ритуалами, которые совершались солнцепоклонниками? Если рассматривать только эти черты христианства, то вполне можно поверить, что ему не могло быть суждено великое будущее и что оно представляло собой некую преходящую болезнь, от которой следовало избавить мир.
Тем не менее Юлиан ошибался. Если исход событий часто бывает трагическим, то начало их зачастую обманчиво. То, что Юлиан принимал за торжество смерти, со временем должно было стать олицетворением победы жизни. Как же стало возможным подобное превращение?
Верующим легко ответить на этот вопрос. Разве не сказал Иисус: «Аз есмь Воскрешение и Жизнь»? Разве не заверил он, что каждое его слово приведет в движение землю, «как прорастающее горчичное зерно»? Для верующих неодолимый взлет христианства – это исполнение пророчеств, проявление божественной воли. Однако помимо этого чисто богословского подхода существует и другой подход, исторический, позволяющий нам глубже рассмотреть социальные структуры Римской империи в период ее заката и лучше понять глубокие причины ее распада. И становится ясно, что приход христианства представлял собой не просто появление новой религии в конкретный исторический период: он стал беспрецедентным революционным преобразованием в истории человеческого общества.
В мечтах, в тревогах, во время бессонных ночей, когда он с отчаянным пылом старался услышать не просто «эхо собственного голоса», но «ответ Другого», Юлиан явно искал веру, способную противостоять возвышению христианства, которое сам святой Павел называл не иначе как «безумием». Утверждение типа «Credo quia absurdum» [24]24
«Верую, ибо это непостижимо» (лат.).
[Закрыть]не могло увлечь его проникнутую идеями эллинизма душу, ведь он считал главными атрибутами Истины логичность и ясность. Он также не мог понять, почему люди придают значение туманным пророчествам галилейского рыбака, которого к тому же никто из них не видел и не знал лично, и при этом остаются невосприимчивы к неопровержимому свидетельству истины, которое видят каждый день: к всемогуществу и божественности Солнца, которое заливает их своим светом с самого начала мира и будет светить до конца времен. Ему казалось необходимым избавить людей от своего рода бельм души и заставить осознать, что все народы мира являются солнцепоклонниками, даже если они сами не понимают этого и взывают к Солнцу под различными именами.
Однако солнечный культ Юлиана не был плодом Озарения, каковым было учение Иисуса; этот культ был результатом длинной цепи абстрактных рассуждений, выведенных из чтения Плотина, Порфирия и Ямвлиха. Несмотря на все усилия императора, принципы, на которых он основывался, не были религией.Хотел он того или нет, они были просто «способом мышления», интеллектуальным синтезом.
Такой синтез мог удовлетворить лишь небольшое число людей. Хотя он и тяготел к монотеизму и имел целью ввести некий языческий мистицизм, он не только отталкивал от себя адептов христианства, но и был абсолютно не по вкусу сторонникам традиционного язычества, изобиловавшего множеством различных полиморфных и обособленных божеств.
Нам могут возразить: «Какое это имеет значение? То, что солнечную религию Юлиана разделяло лишь малое число людей, ничего не доказывает. Христианство поначалу также распространяла лишь небольшая группа апостолов и пророков. Значение имеет не только количество, а качество приверженцев религии. Дело в том, что те, кто разделял воззрения Юлиана, несомненно, относились к элите. Это были философы, учителя, высокопоставленные имперские чиновники; почти все они принадлежали к правящей касте. Разве это не лучше, чем религия, последователи которой в основном набирались из нищих и рабов? К тому же число „гелио-поклонников“ было не так уж мало, поскольку этот культ поддерживали многие военачальники и легионеры, открыто или втайне исповедовавшие религию Митры».
Все это верно. Но следует также добавить – и, по нашему мнению, именно это и явилось решающим фактором, – что небольшая правящая каста людей, окружавшая Юлиана, была обречена на исчезновение, а вслед за ней должна была исчезнуть и религия языческих богов, и это было так же неизбежно, как то, что рана, нанесенная Юлиану дротиком в долине Маранды, должна была повлечь за собой его смерть. Числу же адептов христианства предстояло расти и в конечном счете христианству предстояло смести с лица земли все проявления язычества. Как стало возможно такое развитие событий? Как удалось маленькому ростку пережить падение вырванного с корнем старого дерева? В первую очередь это произошло потому, что росток «цвел и был покрыт почками», а старое дерево уже представляло собой один лишь сухой ствол, мертвый остов, соки которого иссякли. И кроме того, у христианства обнаружился всесильный союзник в лице того пробуждающего к сопротивлению состояния, силу которого Юлиан недооценивал: это было страдание.
Дело в том, что люди, жившие в ту эпоху, в подавляющем большинстве были несчастны. И они стремились отнюдь не к «интеллектуальному синтезу», сколь бы великолепным и убедительным ни представлялся он для ума. Что могло смягчить тяготы их жизни? Что им было делать с «гиперкосмическим Солнцем»? Не от него ожидали они спасения от своих крестных мук… Им нужен был близкий бог, способный проникнуть в глубину их сердец и дать им слова утешения и надежды; бог, спустившийся на землю, чтобы врачевать их раны, облегчить их нищенское существование, а более всего – для того, чтобы напомнить им о том, что у них есть бессмертная душа и что, хотя в этом мире они всего лишь «проклятые жители земли», существует другой мир, в котором Бог очистит их от грехов и воздаст им за страдания, позволив вечно разделять радости удела избранных. Именно это было нужно, чтобы возродить и поддержать в них силу надежды.
Мы знаем, что Юлиан видел в христианстве воплощение анархии и деградации, гангрену, от которой вели начало все бедствия государства. В то же время он не сумел увидеть, что Государство порождало и множило вокруг себя все больше страданий и таким образом само давало начало тем силам, под ударом которых должно было погибнуть.Ибо, несмотря на все его усилия, государство оставалось всего лишь инструментом в руках очень малой группы людей и его власть все больше и больше принимала характер подавления.
Это изменение наиболее ярко прослеживается не в трудах философов и писателей. Оно яснее видно в статуях и барельефах той эпохи, ибо в них лучше всего отражается всеобщее настроение. Что же именно можно в них увидеть?
Появляется новое чувство, которое не было присуще изображениям предыдущих веков: тревога и боль жизни. В течение всего классического периода, эстетические представления которого были почерпнуты у греков, скульптуры как бы иллюстрировали принцип, согласно которому душа подобна телу.Считалось, что любой человек, обладающий здоровым и хорошо сложенным телом, пребывает в состоянии душевного равновесия. Mens sana in corpore sano [25]25
«В здоровом теле – здоровый рассудок» (лат.).
[Закрыть]– вот девиз, вдохновлявший воспитателей и художников. Они не допускали мысли о том, что прекрасная душа может обитать в негармоничном и, тем более, уродливом теле. Результатом такого преобладания физического над духовным стала традиция изображать человечество, счастливо живущее в соответствии с природой и не мучимое изнурительными проблемами. Конечно, то здесь, то там появлялись изображения боли: Гекуба, Лаокоон, Медея, Титаны Пергама. Но строго говоря, это были не образы страдания,а трагические образы, —а это совсем не одно и то же. Судорожные спазмы их мышц и искажение черт лица вызывались не раздиравшими их внутренними противоречиями, а ударами жестокой судьбы, наносимыми извне.
Начиная с III века н. э. можно видеть, что положение в корне меняется: душа больше не зависит от тела; теперь тело отражает душу.
Плотин (205–270), бывший учеником Оригена и оказавший огромное влияние на своих современников, записал следующую мысль, которая возмутила бы Аристотеля и Платона: «Человеку следует презирать и ослаблять свое тело, чтобы доказать, что сам человек отличен от внешних вещей, которые его окружают… Потому мудрый не может не знать болезней; он даже сам захочет испытать страдание» 2. «Отсюда весьма далеко до атлетического идеала, преобладавшего в классической Греции, – замечает Р. Б. Бандинелли, – того идеала, который заложил основы канона красоты форм». И далее он добавляет:
«Думаю, было бы ошибкой утверждать, будто учение Плотина повлияло на все современное ему искусство. Однако некоторые из его утверждений помогают лучше понять, каковы были распространенные в обществе III века идеи, выражавшиеся посредством художественных форм той эпохи. Характерным для них является именно ослабление органической связи духа и тела, перенесение акцента на экспрессию, вместо анатомического совершенства. Плотин пишет также: „Чем более материя утрачивает форму, тем более она становится похожей на изначальную модель, на идею… Когда художник придает форму тому, что находит внутри себя, то его творение можно назвать прекрасным. Глаз видит в творении то, что находится в душе (nous)человека“ 3. Имитация, мимесис,по древней платоновской терминологии, продолжает существовать; но теперь уже тело имитирует душу, оно становится образом (eidolon), мимемойдуши. Исходя из таких принципов, к концу века создается идеал духовного человека (homo spiritualis, pneumatikos),который явно оказал влияние на портреты начиная с конца III и вплоть до V века. Нельзя не заметить, насколько эти идеи в приложении к изображению внутреннего мира человека посредством ощутимой материальной формы близки к словам, приписываемым апостолу Павлу: „Видимое есть лишь покров, наброшенный поверх невидимого“» 4.
Как только этот принцип был принят за основу при изображении тела, то наиболее наглядно он сразу отразился на изображении лиц. «Если мы рассмотрим скульптуру, созданную в основных центрах Римской империи начиная с III века н. э., – продолжает Бандинелли, – то нас более всего поразит выражение боли на лицах и те изменения, которые художники вносили в принятые каноны, чтобы суметь передать эту боль. Речь здесь идет не о физической боли, которую уже изображали в ряде произведений эллинистического искусства. Здесь речь идет о чем-то новом: о томлении духа.Оно очень ярко отражено в портретах и в декоративных масках, в изображениях молодых людей и в лицах стариков, и даже – в портретах императоров. Достаточно вглядеться в статую Клавдия Готского, хранящуюся в Национальном музее в Риме 5. При жизни предыдущих поколений император изображался в виде идеализированного героя либо в виде олицетворения мужества, осознающего свою силу; позднее его стали изображать в ореоле божественного величия, которое, как считалось, нисходит на императора. И только начиная с III века в чертах лиц правителей начинает появляться отражение тревоги и неуверенности» 6. И это касается не только изображения Клавдия. Достаточно взглянуть на изображение Александра Севера в Музее терм или на портрет Деция в Музее Капитолия: в них явно чувствуется то же выражение беспокойства и тревоги, доводящих до изнеможения. И это главы государства пребывали в такой печали, несмотря на все преимущества, которые давала им власть! Так что же говорить о других! На всех лицах этой эпохи глаза становятся большими, расширяются, превышая нормальные пропорции, и устремляются к небу, как бы желая призвать Бога в свидетели сокрушающих их несчастий; губы их приоткрыты, как бы в молении или крике отчаяния. Зачастую сам наклон головы подчеркивает это патетическое выражение. Все эти мрачные страдальческие лица с надрезами на зрачках, сделанными для того, чтобы усилить впечатление, передают выражение удивленной подавленности перед тяготами существования. Похоже, они созерцают конец света, и это действительно так, потому что «любая художественная форма является непосредственным отражением особенностей условий жизни человека».
Что видели эти люди с тревожными, а иногда испуганными лицами? Если верить большинству барельефов и других памятников эпохи, они видели жестокие, даже чудовищные картины: груды тел, в беспорядке разбросанные по земле и попираемые копытами римских коней; бесконечные вереницы закованных в цепи пленных, лица и жесты которых передают глубочайшее отчаяние; варваров, пронзаемых мечами центурионов; коленопреклоненных рабов, молящих хозяев о милости. Короче, истерзанную плоть, издающую стоны и попираемую ногами. Именно такой образ являла клонящаяся к закату империя тем, кто бессильно наблюдал за ее упадком: погрязшему в роскоши и блистающему драгоценными камнями двору, постоянно переезжавшему в зависимости от обстоятельств из Византия в Равенну, из Равенны в Милан (Юлиан, хотя и был императором, и дня не провел в Риме); армии, все еще полнокровной, но все менее и менее дисциплинированной, всасывающей в себя все живые силы завоеванных стран; пустеющим из-за нехватки рабочей силы деревням; Риму, утратившему моральную силу и дух государственности. В конечном счете римское государство уже представляло собой не что иное, как гигантскую машину для перемалывания рода человеческого. Стоит ли в этом случае удивляться, что все большее и большее число людей желало ему гибели и обращалось к религии, предсказывающей эту гибель? Сейчас трудно представить себе, какую отчаянную надежду воплощала собой Церковь и какую освободительную силу большинство задавленных жизнью людей того времени приписывали христианству.
В I веке до н. э. Цезарь хотел улучшить положение завоеванных Римом народов, отменив их подчиненное положение и предоставив им права гражданства. Он успел ввести этот закон в части Транспаданской Галлии [26]26
Часть Галлии, расположенная по другую сторону реки Пад (По).
[Закрыть]и, несомненно, со временем распространил бы его на все народы, вошедшие в пределы Римского мира. Однако его убийцы не дали ему на это времени, а после него подобное равенство вводилось весьма неохотно, то есть в зависимости от произвола власти и очень ограниченно. Более того, это равенство не несло освобождение, оно скорее ограничивало права. Ибо отмена подчиненного положения и возведение в гражданство обязывали людей исполнять воинскую повинность, становившуюся все более тяжелой, так что положение солдата стало хуже положения раба: в конце концов императоры уже командовали колоннами каторжников в шлемах.
Мы видели, что во времена Юлиана галльских легионеров нельзя было призвать на войну за пределами их страны, если они не давали на это согласия; и делать это можно было только в летнее время. Они имели право с приближением зимы вернуться к своим очагам. То, что Констанций попытался нарушить этот обычай, привело к бурному восстанию 7.
Однако со временем гайки закручивались все туже. Галльских солдат стали не только набирать в армию сроком на двадцать лет – то есть практически на всю жизнь, учитывая, что в ту эпоху средняя продолжительность жизни не превышала сорока лет, – но и по первому приказу императора посылать куда угодно: в Британию, в Иллирию, в Испанию, на Восток; и везде с ними обращались столь же жестоко, как со всеми солдатами, набиравшимися среди «варварских племен» (галлов, германцев, персов, сарматов, иберов, нумидийцев и т. п.). Официальные историки восхваляют их смелость и выносливость, и до сего дня невозможно не испытывать гордости при мысли об этих солдатах из числа паризиев, аллоброгов, сикамбров или нервиенов, которые захватили Александрию, прошли мимо стен Вавилона и с песнями на устах вошли в сады Селевкии.
Но не стоит заблуждаться: их существование было весьма жалким, потому что у императоров вошло в привычку обращаться с ними, как с животными, и только накануне сражений говорить с ними, как с людьми. Вся остальная жизнь была для них сплошной цепью мучений и испытаний. Не странно ли, что эти несчастные с восторгом бежали за колесницей Цезаря, переносили на руках свои галеры, чтобы миновать пороги Нила, и сожженные солнцем погибали в месопотамской пустыне, подчиняясь военачальнику, вбившему себе в голову идею о достижении истоков Солнца? А ведь кроме этого они постоянно жили вдали от своих близких, жалованье им платили нерегулярно и заставляли выполнять бесконечные земляные работы: строить укрепления, рыть каналы, восстанавливать дороги, и в перерывах между кровопролитиями это становилось их повседневным занятием 8.
Поэтому из всех статуй, сохранившихся от той эпохи, наиболее патетическими, несомненно, являются изображения легионеров-«варваров», умирающих от истощения или убивающих себя в последнем порыве сопротивления и уязвленной гордости. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на «Умирающего галла» в Музее Капитолия или на «Убивающего себя галла» в Национальном музее в Риме.
Символом империи были теперь уже не триумфальные арки Тита и Севера и не залитые солнечным светом портики Лепты Магны; этим символом стал исполненный силы обвинения барельеф, который можно видеть во Дворце правосудия в Карпентре 9. Он изображает двоих пленников, прикованных к подножию трофея – памятника в честь победы.
Похоже, что пленники опутаны цепями, хотя об этом трудно судить из-за плохой сохранности барельефа. Их рты приоткрыты то ли в жалобе, то ли в мольбе. Их страдания слишком очевидны, и здесь нельзя ошибиться. А над ними возвышается подавляющий монумент-трофей. Он составлен из ликторских связок прутьев, императорской туники и перекрещенных щитов, повешенных крестообразно на ветвях большого дерева. Но это мертвое дерево. Сам же памятниктрофей стирается и распадается на части, как и символизируемая им слава. По правде говоря, он выглядит мрачно; можно сказать, он похож на огромную виселицу.
Глядя на него, нельзя не задать себе вопрос: стоило ли множить бедствия и подавлять столько народов, чтобы достичь вот этого? Очевидно, не стоило. Единственным утешением для нас может служить то, что потомки этих попранных людей, подвергавшихся столь страшным увечьям, в один прекрасный день преобразились и породили из своего унижения эпоху расцвета великолепных соборов.
Но этого не мог предвидеть ни Юлиан, ни кто бы то ни было из его современников. Они также не могли предвидеть, что Гелиос-Царь, Непобедимый и Блистающий, будет в конце концов сброшен со своего трона силой, превышающей его собственную силу: новой религией, родившейся из человеческого страдания.