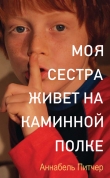Текст книги "Босой"
Автор книги: Захария Станку
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
И опять не померла тетка. Тогда вспомнила про меня. Как ругала, как гонялась за мной по улицам, а случалось, и прутом по спине огреет.
– Позовите Дарие, прощенья попросить. Один он меня еще не простил.
– Да он спит. Завтра утром позовем.
– Сейчас позовите…
Разбудили меня, одели, вошел я в дом дяди Войку; дом через забор от нашего, а я в нем до той поры ни разу не был. Тетка Лавочница, бледная как воск, с желтыми, потухшими глазами, лежала, укрытая одеялом. Дети брата Василе, уложенные на полу, томились от усталости. Под кроватью стоял вонючий ночной горшок больной старухи.
– Прости меня, Дарие, прости за то, что ругала тебя, обижала зазря, оскорбляла, била порой. Прости, племянник…
Я поцеловал ее руку. Тетка заплакала.
Я уронил голову ей на грудь, услышал частые хрипы. Она погладила меня по голове и по лицу своими холодными руками, от которых уже исходил запах тлена.
К утру она затихла. Успокоилась навсегда.
– Умерла твоя тетка, Дарие, поди, отзвони по ней в колокол.
Дневной свет рассеял мое умиление и растроганность. Я звонил резким, быстрым, крикливо-отрывистым звоном – так ругалась тетка Лавочница, стоя у забора и проклиная меня: «Чтоб отсохли у тебя ноги, Дарие, чтоб света тебе белого не видеть!»
Свет белый я вижу по-прежнему. Не померк. А вот ноги! Одну и впрямь потерял, отсохла нога. Вот, смотри! Отмерла, болтается, как тряпка, от самого колена… Бом! Бом! Бом! – откликаются покрытые пуховым покрывалом снегов окрестные холмы.
Так бывало и прежде, и теперь, с тех пор как я стал калекой: стоит кому-нибудь в селе помереть, кличут одного меня, я уже с улицы от ворот слышу:
– Эй, Дарие, ты дома?
– Дома, – отвечаю.
– У Белиту с хутора ребенок помер. Поди, отзвони в колокол!
Вот и хорошо, что еще кто-то помер! Иду и звоню. Какие теперь у меня могут быть дела?.. А тут мне платят: круглую продырявленную монетку в десять банов. Десять покойников – вот уже лея и пятьдесят банов. Мне ведь еще и на похоронах перепадает – белый платок и в уголке завязана узелком монетка в пять банов. Четыре платка, если их скроить да сметать, – вот тебе и кальсоны. В кальсонах удобно. Наденешь – и штаны уже не трут кожу, да и теплее.
– Чего это нынче все меня одного кличут по их покойникам звонить?
– Жалеют тебя. Пособить хотят, чтоб и ты, убогий, мог подработать. В поле на работу тебя ведь не наймешь.
Такое объяснение услышал я от сестры Рицы.
Над селом сгустились облака, и нет ветра, чтоб их разогнать.
– Давай-ка, Дарие, еще раз ударим в колокол по моему отцу!
Я бью в большой колокол, Туртурикэ звонит в маленький.
Тучи над колокольней рвутся и рассеиваются. На село льется ясный солнечный свет.
– Хорошо бы погода до завтра продержалась, – говорит Туртурикэ, – отца бы при солнце похоронить. Пусть на солнечный свет посмотрит… Потом небось вечно в темноте лежать…
Вышла наконец замуж и моя двоюродная сестра Дица из Секары. Тетушка Уцупэр передала, чтоб мы обязательно приехали на свадьбу.
– Бери коня, Дарие, и поезжай в Секару. Скажи, чтоб не серчали. Больно много у нас несчастий, не сможем мы на свадьбу Дицы приехать. Пожелай всем здоровья, а молодым – счастья.
Отправляясь в путь, да еще за три села, на свадьбу к родственникам, надо хотя бы одеться как все люди. А у нас дома теперь ни у кого нет целой одежды. Мама стирает наши заплатанные рубахи. А мы ходим по дому голые. Если теперь к нам заходит чужой человек, мама или отец разговаривают с ним в сенях. А мы запираемся в комнате. Прячемся за печку. Пошел бы со мной на свадьбу мой брат Ион. Да выжал из него все соки Шоавэ, кулак, к которому мой брат давно уже, в голодный год, нанялся в работники. Ион вытянулся. Худой стал – кожа да кости. Скулы на лице заострились. Вроде бы даже и шея тоньше стала. Кадык так и торчит.
– Измучил меня Шоавэ, – рассказывает брат, забегая раз в две-три недели навестить нас. – Чувствую, дольше не выдержать. Зарежу я его.
– Припрячь нож, парень. Не горячись. Придет время, пригодится не одно брюхо вспороть…
Не прочь бы погулять на свадьбе сестры и Рица. Да не в чем. Стоптались опорки. О маме и говорить не приходится. Тем более об отце.
– Скажи тетушке, пусть уж простит нас.
Меня укачивает в седле. Спешить некуда. Плюх-плюх. Плюх-плюх… Неподкованные копыта мягко шлепают по пыльной земле. Как-то дед Бурдуля сказал мне:
– Люди, сынок, жили в этих местах испокон веку. Возьми вот пригоршню земли. Это все прах тех, кто жил тут в давние времена. Люди приходят и уходят. Только земля вечна, не ведает смерти…
Мягко шлепают по земле копыта. Словно жалея ее. Плюх да плюх. Плюх да плюх… А то и совсем остановится лошадь. Ущипнет пучок травы с обочины, пожует.
– Н-но-о!..
Тетушку Уцупэр в девятьсот седьмом тоже держали на барже. И в тюрьме она сидела. И под судом побывала. Во время пыток ей из ягодиц мясо вырезали. Все стерпела. До сих пор на теле знаки сохранились. И в памяти след остался. Возила она Дицу к доктору, сшил доктор ее дочке губу. Теперь уже не заячья. Только маленький белый шрамчик остался.
Замуж Дица выходит за парня из своего села, и теперь зять будет жить в их доме.
– Хоть один мужик в доме будет, – объясняет мне тетка. – Не повезло мне с сыновьями. Душа болит, как о Пантилие подумаю…
– Ой, мама, хоть ты бы не вспоминала, – просит ее Дица.
– Как же не вспоминать-то? Забудешься иногда. А пройдет немного времени, и опять вспоминается…
– Тетушка Уцупэр, отец просил передать, что наши не смогут приехать на свадьбу…
– Я так и думала. Столько на вас несчастий свалилось. А с тобой-то что? С лица постарел. Словно уже и не маленький…
– Охромел он, мама. Я видела, как он с коня слезал и к дому шел.
Я показываю ногу. Тетушка долго ощупывает ее.
– Тут никакое лечение не поможет, – заключает она. – Трудно тебе придется. Нужно какому ни то ремеслу выучиться.
– Выучусь, тетушка.
На обратном пути я завернул к Кырломану навестить бабку. Мой дедушка уже покоится в могиле. Лежат на окне оставшиеся после него часословы. Никто уже не листает их. Дядя Думитраке так и не сподобился выучиться грамоте.
Я ввожу коня во двор. Бабка стоит на пороге, опираясь на свой гладкий посох. Держится прямо, на ней синий платок, белоснежная накрахмаленная кофта и цветастый передник, на ногах домашние туфли.
– А ну, выведи свою клячу со двора! – кричит она. – Нечего мне траву портить.
Я собираюсь привязать лошадь к забору с улицы.
– Не смей к забору привязывать! – снова кричит бабка. – Сломаешь забор, отец небось чинить не придет. Отведи на луг и привяжи к акации.
Я веду Буланого подальше на луг и привязываю к акации. Бабкин сад – врата рая. Яблони сгибаются под тяжестью созревших плодов. Поспели и сливы. Ветки ломятся от их обилия. Широкий, полноводный ручей журчит прямо посреди двора…
– Ну что, убогий, за яблоками явился?.. Яблочек поесть захотелось!.. Залез на свою клячу и думает – а не съездить ли мне к бабке брюхо набить!.. Так вот нет же!.. Не удастся тебе набить брюхо!.. Даже отведать не дам. Так и передай своему отцу – пусть сам яблони сажает…
– Ладно, бабушка, так и передам…
Тропинка к станции идет вдоль обширных виноградников колченогого барина из Бэнясы. Забор вокруг высокий. Через забор разве что птица перелетит. А под ним лишь букашке проползти впору. И все-таки виноградник неусыпно сторожит албанец с двустволкой, всегда заряженной на волка. Зовут албанца Исмаил Медин. На нем красная феска с кисточкой, спадающей на ухо. В селе Медина называют просто турком. Он приятель отца. Повстречавшись, они, коли выдастся свободная минута, усаживаются поболтать. Турок стережет барский виноградник. Раз в два года он отправляется за Дунай. Добирается до гор, навещает жену и детей – четырех дочерей в шароварах, – проводит там зиму и весной возвращается назад. Заработанные деньги оставляет семье на жизнь.
– Добрый день, Исмаил.
– Добрый день… Э, да вы есть сын Тудор, кхе…
– Да, сын Тудора.
– Тот маленький, который больной…
– Да.
– Подождать, кхе, я вам что-то дашь…
Он шмыгает в виноградник через одному ему известную калитку. Его долго нет. Наконец возвращается, сжимая в руках целую груду виноградных гроздьев.
– Этот зрелый раньше время. Сладкий ягода. Бери же. Кушай. У Исмаила есть дети – четыре девочка. Девочка Исмаил не кушай виноград. У нас много бедность, голый камень, кхе…
– Спасибо, Исмаил.
– Вы был больной, кхе… Скажи ваш отец привет. Приходи еще к Исмаил…
Он долго стоит у края тропинки, глядя мне вслед. Феска у него съехала на затылок…
Туртурикэ определился в работники к попу Бульбуку. Ездит мимо нашего дома верхом на поповской лошади, гоня перед собой хворостиной поповских волов, поповских коров. Вот какое занятие нашлось для Туртурикэ.
Поп дает ему за работу еду и три пола в год. Деньги эти мать взяла вперед – купить детям кукурузной муки.
– А ты куда думаешь наняться, Дарие?
– Не знаю еще.
Я написал письмо старшему брату. Он назначен священником в одном прикарпатском селе. Ответ не заставил себя долго ждать:
«Вот уже двоих детей родила мне жена, дорогой братишка. Скоро появится и третий. Жизнь тяжела до крайности. Помочь тебе ничем не смогу. Помоги себе сам. Советую поступить к сапожнику или к скорняку учеником. Обучись ремеслу. В наше время с образованием ничего не добьешься. Я столько лет учился – и то еле свожу концы с концами. Жители в моем приходе беднее церковных крыс».
Я прочел его письмо. Запомнил. И говорю отцу:
– Что со мной делать будете? Устроили бы куда-нибудь на работу.
Отец пошел со мной к Ницу, механику. Попросил взять учеником, чтобы я научился владеть молотом и мог заработать себе на хлеб.
– Бегать ему не придется, – объяснял отец. – А так он парень здоровый. Толк из него выйдет, господин Ницу…
От механика несло ракией. Он был не в духе.
– Ну подумай сам, человече, можно ли из калеки кузнеца сделать? В кузнице люди здоровые нужны, это тебе не шутка… Стал бы кто из собачьего хвоста решето делать, а?..
Рядом со своим отцом – Орзу Маргарет, нарядная, в туфельках, с лентами в косицах. А я хорош – оборванный, босой, бледный, под нестрижеными ногтями на руках и ногах грязь, пальцы на больной ноге в запекшейся крови.
Заходили мы и к сапожнику, человек он грамотный, газеты выписывает. Дома у него и книги водятся. Жандарм Никулае Мьелушел не спускает с него глаз. То и дело вызывает в участок и орет:
– Не вздумай людей против власти подстрекать, колодник, в порошок сотру!
А ежели к тому же выпивши, то и плетью по лицу хлестнет.
Сапожник приехал из города. Прижился в селе среди мужиков и честно чинил им сапоги, когда было что чинить.
– Я бы взял твоего сына, – отвечает отцу сапожник, – и обучил сапожному ремеслу, да совесть не велит. Я ведь мастер неважный. Раньше – другое дело. А теперь почти все позабыл. Только мелкой починкой занимаюсь. Ну, обучится парень каблуки прибивать. Разве это ремесло? Свези его лучше в город, Тудор…
Отец повез меня в город. На телеге. Дорога известная. Сколько раз мы по ней колесили!.. Сначала мимо кургана, потом через лес в низине; теперь, когда лес свели, на его месте поднялась молодая роща. Потом дорога шла возле старой крепости. Крепостные валы поднимались на восточной окраине Руши. Мы спускались в ров, оттуда поднимались на холмы, где когда-то стояли крепостные стены, въезжали во двор крепости. А во дворе, стоит ткнуть в землю палкой, непременно выковырнешь либо наконечник копья, либо старинный кинжал, пуговицу или еще что-нибудь. Когда-то тут происходили сражения, и плуги рушанцев то и дело выворачивают из земли полуистлевшие кости павших.
Всю эту ночь родители мои, сидя в телеге на ящике, клевали носом. Лошади плелись шагом. Я, скорчившись и завернувшись в одеяло, зарылся по пояс в солому. Впереди и позади нас тянулись в город, на ярмарку, другие телеги. Было слышно, как там кричали, разговаривали, свистели. Ночью разговоры кажутся громче и отчетливее. Должно быть, воздух по ночам чище и прозрачней. Полная луна поднималась все выше по небу, а звезды становились все бледнее. Ни облачка на небе. И вдруг край луны начал темнеть. Темное пятно быстро увеличивалось, густела мгла.
– Тятя, кто это луну грызет?
Отец оборачивается, останавливает коней.
– Черт возьми! Упырь луну жрет!
Мама тоже оборачивается, и я вижу, что они оба крестятся. Крестятся испуганно и торопливо.
На поля опустилась глубокая тишина. Только что был слышен в ночи грохот телег и повозок. А теперь ни звука. Воздух вдруг окаменел. Окаменел в один миг.
Отец слезает с телеги и отводит лошадей на обочину.
– Иди сюда, Дарие…
Я спускаюсь следом. Отец берет охапку соломы и сминает ее в комок. Бьет кресалом – трут загорается. Высокое пламя взмывает в воздух – это на обочине дороги вспыхивает солома. И тотчас впереди и позади нас загорается множество костров. У наших лошадей нет на шее колокольцев. Это плохо. И все-таки все обошлось: колокольчики есть у соседских.
Мы слышим, как звенят колокольцы, такие же, какие привязывают коровам. Люди распрягли волов, сняли с лошадей хомуты, разожгли костры и подняли страшный шум.
На поле гвалт и суматоха. Все выше взлетают языки пламени, шум сотрясает воздух до самого неба. Но упырь не боится. Его пасть все глубже вгрызается в тело луны. Смотри, от луны осталась лишь половина… Вот уже одна четверть… Уже меньше четверти… Тонкий язычок, изогнутый серпом, желтый с черной каемкой, висит в воздухе. И это… луна. Людей возле телег охватывает дрожь. Они дрожат не от холода. И костры разожгли не затем, чтоб согреться. Луна померкла совсем. Люди трясутся от страха. Удивительно, но я вовсе не чувствую страха. Из книг, попадавшихся мне в руки, я вычитал кое-что о тайнах неба. И знаю, что все это значит. Пытаюсь объяснить маме:
– Мам, никаких упырей нет. Дело в том…
– Может, и нет, Дарие…
– Может, и нет, – повторяет за мамой отец. – Но кто луну слопал?
Я вижу, что они волнуются. И успокаиваются только тогда, когда тонкая узкая полоска месяца снова становится шире.
– Испугался упырь, – слышу я голос отца. – Оставил луну в покое. Сейчас она срастется. Рассвет скоро. Упырю обратно в тело пора.
Отец запрягает лошадей, щелкает кнутом. И рассказывает маме про одного нашего родственника, давно умершего дядю, слывшего упырем.
– Я тогда мальчишкой был, – начинает отец, – вокруг еще леса шумели, а на полянах трава подымалась в человеческий рост, зайдешь – тебя и не видно. Холмы еще не распахивали. Пасли мы как-то овец возле Сайеле, а в траве неподалеку отдыхал Бэдой Гэбуня – один из отцовских двоюродных братьев. Уже немолодой был. Возле загона и другие люди были. Мы знали, что Гэбуня – упырь. Да и сам он знал. На небе полная луна сияла. Светло от нее, как днем. Для Гэбуни самое время. Поднимался он, брал свою палку и уходил. Прятался в зарослях. И засыпал глубоким сном. А из него упырь вылезал и жрал луну. Через час-другой упырь возвращался обратно в тело Бэдоя Гэбуни, а тело у того все в поту, усталое, никаких сил нет – словно после долгой дороги. Проснувшись, Бэдой возвращался к загону.
«Видел, дядюшка, как упырь луну сожрал?»
«Может, и сожрал», – ответит, бывало, а сам разговор на другое поворачивает. Ничего толком не помнил. Признается только, что устал, будто во время сна долгий путь по небу проделал.
«Замерз я. Там, над землей, воздух-то холодный. Только это из всего сна и помню…» Ложился к костру поближе, грел старые кости…
Лошади ускорили шаг. В долине светились огни просыпавшегося города.
XVI
ПОЛЫНЬ
Мы отправились к маминому брату, дяде Тоне, хозяину мясной лавки на рыночной площади. Но дядя спозаранку ушел по своим делам. В лавку. Встретила нас у калитки тетя Финика, его жена, – смуглая, маленького росточка женщина с черными продолговатыми глазами. Ни много ни мало – девятерых детей подарила она дяде Тоне. Детишки – мои двоюродные братья и сестры – облепили телегу. Карабкаются на колеса, на оглобли, на борта.
– Дядя Тудор, а чего ты нам из деревни привез?
Кое-что отец привез, любимое их лакомство – целую корзину зеленых початков, хоть вари, хоть пеки… Ребятишки хватают початки, очищают от листьев, складывают в котел, ставят на огонь. Самая младшая из сестренок – Вастя – заботливо собирает очистки, чтоб ни одно волоконце не пропало.
– Что это ты, Вастя, с очистками делать собираешься?
– Нужно мне. У меня куклы совсем без волос остались. Я их часто за волосы таскала, не слушались меня. Теперь я им из кукурузных волосиков новые косы приклею…
У дяди Тоне в одном дворе два дома: один большой – окнами на улицу выходит, другой – маленький, совсем крошечный, – стоит в глубине. Между домами – насос, воду качать, яблоня с кривыми уродливыми ветвями и… отхожее место, от которого воняет – страсть. Дома вокруг высокие, и солнце во двор к дядюшке Тоне заглядывает только в полдень, на какой-нибудь час.
Позже, примерно через год, когда тетка Финика понесла в десятый раз, ей так осточертел ее выводок, так она устала мыть их, выкармливать, не спать ночами, если у кого заболит живот, что пошла она в предместье и нашла там бабку, которая поставила ей на живот горшок и сделала выкидыш.
Когда-то давным-давно из города пришло и к нам, в деревню, такое поветрие: не хочешь родить – идешь к повитухе, чтоб та вытянула плод или поставила на живот горшок, будет выкидыш.
Встретишь порой такую бабу на улице – брюхо разнесло так, будто повыше пояса под кофтой арбуз спрятан. Ступает медленно, выбирает дорогу. Через плетень прыгать поостережется. Присаживается осторожно, чтобы живот лишний раз не тряхнуть, не потревожить.
– На третьем месяце уже, родненькая…
На девятом месяце живот еще больше раздует. Но женщина по-прежнему таскается на работу. Так сама все и делает, раз кроме нее некому.
Особенно боятся многодетности зажиточные крестьяне, у которых и земли чуть побольше, и тяжким трудом кое-какое состояние сколочено. Один-два – и хватит! К чему лишние рты за столом? Жены таких крестьян устраивают себе выкидыш уже на третьей или четвертой беременности. Петря и Диоайка давно набили на этом деле руку. Согреют на огне котел воды. Разденут женщину – словно той в речку лезть, положат на кровать. Сполоснут в котле руки, намылят женщине живот. И давай его давить.
– Погодь, сей момент отцепим…
Женщине больно. Вот-вот закричит. В животе словно острый нож поворачивают.
Диоайка кладет свои толстые лапы чуть ниже грудей. Резко надавливает пальцами и медленно соскальзывает вниз, к животу – раз, другой, сотый. Стиснет женщина зубы, до боли сожмет губы и язык до крови искусает. Но не издаст ни звука. Улица-то рядом. Нельзя, чтоб крик услышали. Да все равно ничего не скроешь. Где там. Вчера только видели эту женщину с огромным пузом, и вдруг на тебе – талия как у стрекозы, а лицо желтое, изможденное, сама еле ноги волочит.
Раскалят на печи перевернутый вверх дном горшок с горячими угольями. После растирания ставят его на живот и, плотно прижимая к коже, обматывают мокрыми тряпками. Живот сразу всасывается внутрь. Некоторое время горшок не снимают. Потом Диоайка осторожно отделяет его, подсунув под горловину большой палец.
Боже, что за живот! Круглый как шар! Синий! Распухший!
И растирание повторяется.
Вот все кончено, женщина плетется домой. Как побитая. Через день-два глядишь – и выкидыш.
Часто бывает так, что, скинув ребенка, женщина теряет и жизнь. Так произошло и с женой дяди Тоне. После выкидыша тетушка Финика умерла.
Расставшись с мертвым плодом, она вскоре распрощалась и с жизнью. Тоже выкинула ее в могилу. «Прах еси и в прах обратишься», – пропели над ее гробом, обтянутым черным крепом, три бородатых священника, облаченные в блестящие черные рясы. На лицах у них благолепие, дядя-мясник заплатил хорошо, вот и служили они службу старательно, даже слезу обронили. Год назад, когда родители ходили со мной, больным, по церквам в надежде исцелить мою ногу молитвой, эти же служители из церкви святой Пятницы надевали мне на голову епитрахиль и мазали елеем. Но у отца не нашлось тогда двух лей расплатиться. Я лежал без сил на циновке, разостланной прямо на плитах пола. Возле меня плакала мама, которая не перенесла бы моей смерти. А попы, развлекаясь, поносили отца – пришел, дескать, за исцелением, а кошелек пуст. И оставили меня лежать в церкви заложником, пока отец не занял у кого-то двух лей и, вернувшись с двумя монетами, зажатыми в кулаке, не расплатился с попами за их труды… А здесь, на похоронах моей тетушки, они были на людях, на виду у всего города. Лица этих жадюг светились кротостью и благочестием. Возле гроба шмыгали носами девятеро детей, навзрыд рыдали старшие девочки. Пришла проститься с покойницей и бабка из Кырломана. После похорон дядя Тоне упрашивал ее:
– Останься у меня, мама, помоги детей поднять. Хоть бы старшенькие чуть подросли…
– В ногах валяйся – не останусь. Тошно мне в городе. И в доме твоем противно. Смотри, где воду качаешь, там же и отхожее место устроил. У меня дома рай. А здесь даже воздух вонючий.
– Ну хоть на недельку, мама, пока какую тетку подыщу…
Дядя Тоне побежал в свою лавчонку. А бабка, не дожидаясь его возвращения, взяла свой посох и пешком ушла к себе домой – верст этак за пятнадцать, это с девятью-то десятками годов за плечами. Стройная, как девица, упрямая, прошагала она, подобрав передник, весь этот путь, ни разу не присев на траву отдохнуть. «До чего суровая старуха, – говорил про нее отец, – вот уж проклятое семя…»
По той дороге, которую бабка, возвращаясь к себе в Кырломан, проделала одна, я шел однажды вместе с мамой. Я был тогда совсем еще маленьким. Но не настолько, чтоб мелкими своими шажками не поспевать за мамой и нашими соседками, которые отправились на базар.
Всего за несколько недель до этого путешествия мама родила сестру мою Елизабету… И выглядела очень молодой, очень красивой. Несмотря на пропасть забот, лежавших на ее плечах, она умудрялась выкроить время и, прихватив завязанную в уголочек платка скопленную мелочь, спешила в город – купить несколько локтей ситцу на сборчатую юбку и цветастую кофту себе и Евангелине.
Тогда я еще бегал, цепляясь за ее юбку. И один раз подслушал, как она разговаривала с двумя женщинами – одна была из-за реки, другая – с окраины села, что ближе к хутору.
– Завтра, как рассветет, пойдем в Рушь.
– Мам, а меня возьмешь?
– Нет. Не возьму. Я пойду пешком. Мне тебя в этакую даль на руках не дотащить. Ты уже большой. И тяжелый.
– А я, мама, ногами пойду.
– Не сможешь. Это далеко. Верст десять!
Наступил вечер, потом ночь, и мы легли спать. Уснули все домашние, кроме меня. Я лежал с открытыми глазами, глядя в темноту, и размышлял обо всем, что может прийти в голову ребенку. Желание увидеть город и боязнь проспать рассвет не давали мне покоя. Вот уже побледнело окно – близился рассвет. Я не шевелился, чтоб никого не разбудить. И услышал, как кто-то стучит по ограде. Первым проснулся отец. Разбудил маму.
– Вставай, жена. Бабы пришли, пора в город собираться!
Поднялся с постели и я.
– Мам, я тоже пойду.
– Ты уже не спишь?
– Нет. Я вовсе глаз не закрывал.
– Почему?
– Боялся, что просплю и ты не возьмешь меня с собой.
– Ах ты, дурачок!
Пришлось меня взять. Сначала я шел сам. Потом меня немного понесла мама. Потом я снова шел ногами. А потом все женщины несли меня по очереди.
Уже рассвело. Всходило солнце.
Как раз посередине пути между селом и городом раскинулась роща. В ту пору здесь стоял дремучий лес.
По тропе через лес шло много народу. В лесу мама сделала остановку. Вместе с ней решили передохнуть и другие женщины. Сошли с тропы. Углубились в лес, за кусты, и расположились на травке среди красных пионов. Отдохнули немножко. Насобирали цветов. С охапками пионов в руках путь до города показался им гораздо короче.
Когда теперь мне случается видеть пионы, я всегда вспоминаю это ярко-голубое утро раннего лета, и перед моим взором возникает покрытая пылью дорога. По этой дороге шагают молодые женщины. Между их юбками путается мальчуган с веснушчатым курносым лицом и растрепанными вихрами; он изо всех сил старается не отстать. А теплая дорожная пыль щекочет подошвы…
У моих городских двоюродных братьев и сестер лица желтей, чем у меня. Те, что постарше, родились еще в деревне, в Омиде. Но тетушка Финика не захотела оставаться в селе, перетащила дядю в город. В Омиде у них было всего вдоволь. А здесь бедность преследует на каждом шагу. Что выручил, то и проел – разве это жизнь? Но, как говорится, в городе и бедность благодать!..
Мой двоюродный брат Мишу подбивает меня:
– Пошли, рынок покажу!
Мишу водит меня по всему базару: лавки, лавчонки, корчмы, а вот и мясной ряд.
– Это вот наше заведение…
В голосе Мишу звучит гордость. Перед нами – тесная будка, сколоченная из досок, сверху донизу забрызганная кровью. Кажется, будто ларек выкрашен этой кровью, как краской. К балкам на гвоздях подвешены крючья, на которых висят разделанные туши волов, баранов, телят.
Дядя Тоне отрезает мясо большим резаком, взвешивает, заворачивает в бумагу и протягивает покупателю. Деньги бросает на стойку. Руки его выше локтей вымазаны кровью и жиром. На нем длинный кожаный фартук, бывший когда-то желтым…
Дядя Тоне лицом похож на моего деда, но голос и душа у него – бабки из Кырломана. Он смотрит на меня, как злой пес. И рычит. Оскаливает клыки.
– Ну, а тебе чего? Уж не хочешь ли меня осчастливить?
– Не бойся, дядюшка. Хочу в работники наняться.
– Только тебя в этом городе и не хватало!.. Чтоб духу твоего здесь не было, еще раз попадешься – ноги переломаю!
– Больше не попадусь, дядюшка!
– Проваливай!
Пока мы так нежно, по-родственному обмениваемся любезностями, Мишу прокрадывается в лавку, сдирает со свиной ноги кожу. Дядя Тоне спохватывается и куском мяса, который оказался у него в руке, отвешивает сыну здоровый подзатыльник… Мишу опрометью бросается вон. Я спешу следом, но куда мне за ним. Мы уже вне опасности. Двоюродный брат делится со мной добычей…
Отец и мать советуются с тетушкой Финикой, куда меня вести, к какому хозяину пристроить… Наконец останавливают свой выбор. Тетушка Финика облачается в выходное платье.
На плите – горшок с фасолью. Сегодня ведь пятница! Базарный и постный день…
С тетушкой и отцом мы идем в ту часть города, где размещаются общественный сад и рыночная площадь, на которой крестьяне торгуют скотом…
– Ну и вонища, хуже во всем городе нет…
– Тут дубильные и скорняжные мастерские, – объясняет мне тетушка.
Меня вталкивают в узкое, длинное и темное помещение, забитое высохшими и вычищенными шкурами. Тетушка и отец входят следом. Хозяин сидит на стуле у стойки, листает расчетные книги. В помещении полно крестьян. Присесть негде, приходится стоять. Я слышу, как хозяин спорит с крестьянами, торгуется о цене.
В задней половине мастерской суматоха. Снуют взад-вперед парнишки чуть постарше меня. Хозяин командует. Парни спускаются в подвал, волокут оттуда груду шкур. Крестьяне отдают дубильщику деньги, забирают шкуры и направляются к скорнякам.
Хозяин замечает наконец мою тетку.
– Чем могу служить, госпожа Брэтеску?
Тетушка подходит ближе, показывает на меня.
– Окажите мне услугу, господин Моцату.
– Какую именно?
– Возьмите моего племянника. В ученики…
Отец, стащив с головы кэчулу, озирается по сторонам. Морщит нос. Не нравится ему хозяин, не нравится и мастерская. Впору взять меня за руку и увести. Но куда?!
Хозяин оглядел меня оценивающе:
– Слабоват вроде…
– И все же прошу вас, возьмите, – настаивает тетушка. – Пусть и он ремеслу выучится…
– Придется взять, коли вы просите. Парнишки мне нужны…
– Только не сердитесь, сразу-то я не сказала, – добавляет тетушка, – парень-то хромой…
– Хромой? А ну-ка, парень, пройдись-ка…
Я делаю несколько шагов. Хозяин смотрит.
– Ничего страшного, госпожа Финика, бегать ведь у меня ему не придется. Лишь бы работящий был и на первых порах вони не боялся. Наше ремесло ведь не… не парфюмерия…
– За это мы вам ручаемся – я и Тоне. А это его отец…
– У него и отец есть?
– Есть.
Тетушка Финика уходит. Уходит и мой отец.
– Как зовут-то тебя, цыпленок?
– Дарие…
– Редкое имя… Ну-ка, подойди поближе…
Я подхожу ближе.
Хозяин закатывает мне две крепкие оплеухи. Ой-ёй-ёй!.. В ушах звенит!..
Он передает меня какому-то усачу.
– Примите этого хромого цыпленка. Желает дубильному делу выучиться. Подубите его слегка. Вы знаете как. Только смотрите, до смерти не укокошьте…
Усач взял меня за шиворот. Мы очутились во дворе, позади мастерской. Усач созвал подмастерьев. Десять верзил, хозяйский сын одиннадцатый.
Из общественного сада слышалась музыка. Кто-то грустно пел под звуки пианино. Пение доносилось из белого двухэтажного дома, где были раскрыты окна. Звуки лились плавно и задумчиво, обволакивая и завораживая меня…
– Хозяин приказал отдубить его, – произносит усатый.
Отец покидал дубильню в подавленном настроении. Он легонько потрепал меня своей жесткой рукой по затылку, точно хотел погладить, и шепнул:
– Будь умником, сынок…
У мамы не хватило духу прийти взглянуть, где я буду в услужении. Если бы она вошла со мной сюда, то, наверно, не оставила бы меня здесь. Когда мы уходили от дяди Тоне, она долго смотрела мне вслед. Потом вдруг отвернулась, чтобы я не видел ее глаз. Я не видел, но чувствовал, что в них стояли слезы.
Хозяин Моцату велел своим подмастерьям подубить мне кожу, но не до смерти. Усатый подмастерье неожиданным ударом столкнул меня с самого верха лестницы. Я кубарем полетел прямо во двор. Поднялся на ноги. Одиннадцать парней окружили меня. Тесным кольцом. Кольцо сжималось все плотнее. Через такое не пробьешься. Да если даже и пробьешься и вырвешься наружу, разве убежишь?.. Двор с трех сторон обнесен высокой глухой стеной. С четвертой стороны дощатый забор отделяет его от узкой улочки, которая, как я скоро узнал, кончалась тупиком, где находились публичные дома. Поверх забора протянута колючая проволока, оберегавшая мастерскую и подвал от ночных воров. Я посмотрел в глаза обступивших меня парней – может, они просто шутят. Нет. У собак – и то глаза бывают ласковей. Я пожал плечами. Закрыл руками щеки. «Только бы лицо не изуродовали», – мелькнула мысль. Услышал голос усатого:
– Ну, кто начнет?
– Как всегда, я, – ответил Минаке, сын хозяина.
– Всыпь-ка ему!
Град оплеух хлестнул по щекам. Град тычков ударил по ребрам. По щиколоткам пинали обутые ноги.
– Довольно, – произнес усатый. – Почин сделан. Теперь дай поработать и нам…
– Можно еще разок вдарю, а, Гогу?..
Усатого звали Гогу.
Я валялся на земле. Голова горела. Горело все тело. «Теперь, – молнией пронеслось в мозгу, – я корчусь на земле, как корчились в судорогах одряхлевшие деревенские собаки, потерявшие нюх, зрение и слух; от них уже не было никакого проку, они не могли даже лаять, и мы, мальчишки, безжалостно добивали их палками. Неужели и меня они добьют? Да нет же! Дадут взбучку, и все». Я стиснул зубы, чтоб не закричать, не издать стона. Несколько раз они ставили меня на ноги, подхватив под мышки, хотели свернуть челюсть. Когда отпускали, я снова валился наземь. Как куча тряпья.