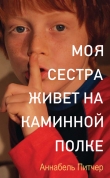Текст книги "Босой"
Автор книги: Захария Станку
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
Мы молчали, было грустно. Исхудалые лица, высохшие, прикрытые полуистлевшими лохмотьями тела тридцати двух больных пленных солдат, что остались под навесом, не давали нам покоя; мы чувствовали на себе их тусклый, почти угасший взгляд.
Давно, когда мне хотелось как можно больше узнать о земле и ее обитателях, я прочел множество книжек, где говорилось про солнце и луну, про планеты и бесконечные миры раскаленных звезд, блуждающих в беспредельном пространстве. Один ученый – он так и состарился, глядя в небо, – утверждал, будто жизнь есть только на Земле, дескать, только на этой планете, слегка приплюснутой у полюсов, живут люди. Ученый старец, каждую ночь погружавшийся взглядом в красоты неба, в порыве восторга заявил, что Земля и Луна, Солнце и звезды – все, что доступно или пока не доступно нашему зрению, сотворено невероятно могущественной силой на благо человека, чтобы он жил, радовался и был счастлив. Тот ученый утверждал вдобавок, что Земля есть цветущий сад Вселенной и в этом чудесном саду человек – самый прекрасный цветок. Люди – это цветы земли, заключал он. Чья-то рука – я так и не узнал чья, хотя книгу я взял с полки моего двоюродного брата Янку Брэтеску, художника и кузнеца, погибшего на фронте в первые дни войны, – оставила на полях карандашную пометку: «Люди могли бы сделаться цветами земли. И когда-нибудь обязательно станут ими. Но когда…» Я уже успел забыть об этой пометке. А тут она снова припомнилась мне.
Люди – цветы земли.
Цветком земли был Павел, сидевший сейчас рядом со мной на веслах. Бледный цветок, который мог завянуть, не успев дать завязь!..
Цветами земли были босые, полураздетые крестьяне, которых мы оставили на мокром от дождя причале, возле барж, которые увезут их в Германию.
Цветами земли были пленные, что валялись сейчас под крышей наполовину сожженного и разрушенного сарая и с безмолвной отрешенностью дожидались свершения своей печальной и горькой судьбы.
Цветами земли были и те оборванные и голодные болгарские солдаты, которым было приказано их стеречь.
Цветами земли были и немцы, которые великодушно поили из своих серых жестяных кружек ослабших и больных пленников горячим цикорием, подслащенным последними кусками сахара.
Цветком земли был и сам я, Дарие, курносый веснушчатый парнишка с вечно растрепанными и взъерошенными волосами, который теперь плыл в утлой лодке по Дунаю навстречу широкому миру.
– Нет. Все это неправда.
Мы были людьми.
И страдали.
Нам было больно.
Цветы не ведают ни боли, ни страданий.
Цветам знакомы лишь цветение и смерть.
– Откуда тебе это известно?
– Ничего мне не известно. Так только, догадываюсь.
– А знаешь что? Люди, могли бы стать цветами земли. Но этого еще очень долго ждать.
– Это вот правда. Еще очень долго. А все-таки, сколько?
– Кто же знает. Все зависит от людей. Они могут поторопить время…
Ветер, что свирепствовал в вышине, разогнал тучи.
Бескрайние просторы были залиты солнцем. По временам слышался гул, приглушенный расстоянием.
– Слышь, дядюшка Опришор? Илья-пророк все еще гоняется за дьяволом с огненными стрелами…
– Это не Илья-пророк. Не раскаты грома. Прислушайся… Не такой звук. То бухают пушки на фронте в Балканах. После дождя их всегда слыхать. Глухо, но слыхать…
С грехом пополам, то выгребая на середину Дуная, то держась ближе к берегу, вечером третьего дня мы добрались до цели. Опасаясь неприятностей с немецкой портовой охраной, сделав вид, что мы из местных, и приняв все меры предосторожности, прошмыгнули к берегу. Возле зарослей тростника тихо вытащили лодку на песок. Каких-нибудь сто шагов – и вот окраина крохотного, полусожженного городка. Все заросло белой акацией. Каких только мерзостей не прикрывают деревья своею зеленой листвой!
На болгарской стороне, прилепившись к высокому берегу, дремал городок Русчук, пощаженный войной. У его подножия виднелось несколько черных, обветшалых барж да два пароходика, сердито выплевывавших из своих пепельно-серых труб клубы дыма. На красные черепичные крыши ложились голубовато-розовые отблески заката. В синей воде отражались редкие клочки рыжеватых облаков, затерявшихся на величаво неподвижном небосводе.
– Вот мы наконец и добрались до Джурджу, парень. Сейчас попросимся к кому-нибудь на ночлег, а завтра под утро отправимся вверх, обратно домой. А ты ступай в город, там переночуешь. Может, и хлеба кусок у хозяев найдется. У нас в котомке уже почти пусто.
– Знаю, дядюшка Опришор…
– Постарайся скорей добраться до Бухареста и выполнить приказ барина. Он вроде велел дня через три обратно быть. А у нас только дорога сюда три дня заняла. Ты ведь, я слышал, у барина недавно служишь?
– Да, дядюшка Опришор, совсем недавно. С этой весны.
– Ты не гляди, что он с виду добрый. Он крутенько обходится с тем, кто не исполняет его повелений, да и злопамятен к тому же. Ничего не прощает. И мстит, когда меньше всего ждешь.
– Неужели? А я-то считал его добрым, медом-медовичем.
Мы расхохотались.
– Коли не скоро доберешься до Бухареста и на обратном пути задержка выйдет, все с нас спросит.
– Не спросит. Я постараюсь управиться поскорее и письмо по адресу передам.
– Можешь попытаться поездом доехать, коли ходят поезда, или пешком, коли иначе не получится. До Бухареста отсюда недалеко, всего верст тридцать будет. От села к селу на попутных телегах подъедешь или на возах. Паренек ты большой, смышленый. Сумеешь, поди, из трудного положения выпутаться. Ну а коли не сумеешь – пеняй на себя…
Дядюшка Лайош Опришор смотрит на меня ласково, с отеческой любовью. У всякого, даже у самого угрюмого человека – а кто в этой жизни не сделался угрюм, не замкнулся в себе? – наступает такой час или мгновение, когда у него вдруг оттаивает душа. И тогда вся доброта, которую он так долго в себе скрывал, подступает к глазам. И в глазах вспыхивает искра, и лучится свет, нежный и кроткий. Размыкаются уста, и с них слетают ласковые слова, и голос, прежде суровый и грубый, становится нежным и бархатным…
– Иногда и небеса разверзаются, не только душа у человека.
– Как это – разверзаются небеса?
– А вот как: от востока до запада ясный свод небес вдруг разламывается надвое. Щель делается все шире и шире, и тогда те люди, на ком нет грехов, видят ангелов, порхающих в райских кущах, и слышат, как поют их золотые трубы. А среди серебристых облаков на золотом троне восседает сама матерь божья. Только длится это недолго. И небеса смыкаются снова.
– А разве на свете есть люди без грехов?
– Есть, Дарие, только немного.
– А ты, бабушка, видела хоть раз, как разверзается небо?
– Я женщина злая, грехов на мне – что гусениц на иве. Одного тебя, к примеру, сколько ругала да прутом порола…
На ивах, что росли у дедушки в большом саду, никаких гусениц и в помине не было. А много их было на старой иве перед нашим домом, в Омиде, – больших, зеленых, на спине пятнышки с булавочную головку – красные, коричневые, синеватые. Если б у моей суровой бабки из Кырломана я пожил подольше, то, может, в ее больших сердитых глазах мне и довелось бы заметить светлое сияние, а то и почувствовать хоть на миг ласку в ее голосе… И все же хорошо, что я не жил там долго… Ведь потом случались там и страшные вещи…
Когда мне кажется, что я вот-вот разнежусь, растрогаюсь, во мне просыпается бабушкин характер: я становлюсь надменным и стараюсь выглядеть твердокаменным.
– Не позволяй, чтоб злые люди лезли тебе в душу…
– Нужно время, чтоб разобраться, кто из людей хороший, а кто злой. Бывает, что и за всю жизнь не разберешься…
Добрыми глазами смотрит на меня и Павел. Я чуть не рассиропился. И чтобы они не подумали, будто я не умею собой владеть, выпрямился, поднял голову и, избегая их взглядов, проговорил:
– Счастливо оставаться…
– Счастливого пути, Дарие, парнишечка…
Павел, раздосадованный моей холодностью, не промолвил ни слова.
И я – шкандыб-шкандыб – заковылял к городу, к его черным обожженным стенам.
Дунай остался справа. Уже не слышно было его тихого журчания, к которому слух мой привык за три прошедших дня, и я почувствовал себя одиноким – я ведь и впрямь был одинок!.. Глубокая печаль охватила меня. Я видел, как умиравший закат бросал на мутные воды большие кроваво-красные пятна. О, если бы глазам нашим, пока мы живы, являлся только тот кроваво-красный свет, который оставляет на воде солнце в минуты восхода или заката! А то ведь перед нашим взором снова и снова струится настоящая человеческая кровь! Войны, сколько и где бы они ни шли, всегда мешали кровь с землею, а сколько войн вели люди на всем течении Дуная, старого, как мир! А сколько было восстаний!
– Одному из восстаний я тоже был свидетель, а окажись я постарше – и сам участвовал бы в нем, может, и кровь бы проливал.
– И не пожалел бы?
– Нет, не пожалел. Когда тебе плюют в лицо и бьют морду, гоняют на работу и издеваются, неужто ты так и будешь терпеть, не подымешь дубину и не огреешь злодея по голове? Не схватишь нож и не вонзишь его в оплывшее жиром и скрытое под дорогими одеяниями брюхо помещика, которому неведомы ни человеческие чувства, ни сострадание? Не тому надо удивляться, что порою босой люд, подавив в себе всякий страх, с топорами да вилами отважно подымается против господ, громит и жжет помещичьи усадьбы, а тому, что эти взрывы скопившегося в сердце гнева случаются лишь время от времени и слишком редко.
Сельская и городская беднота была настроена против войны, которую в девятьсот тринадцатом году вели мы с нашими задунайскими соседями – болгарами. И все же склонила голову под жандармским кулаком и пошла воевать, выполнять скрепя сердце приказ властей.
– Что же нам понадобилось в Болгарии?
– Захватить Силистру.
– А что это – Силистра?
– Город такой.
– Там что, румыны живут?
– Нет, болгары.
– Тогда зачем его брать?
– Таков приказ властей.
– Стало быть, бояр.
– Стало быть…
Не хотела беднота и этой войны с венграми, немцами, турками и болгарами! И все-таки пошла воевать. И все еще воюет на южной границе Молдовы, наполовину захваченной врагом, воюет и в карпатских горах. И неплохо воюет! А все же больше чем полстраны, захваченной немцами, работает, склонив голову под ударами кнута, чтоб прокормить вражеские армии и глубокий немецкий тыл.
Война требует мяса и крови, и люди отдают войне себя и свою кровь.
Может, из той крови, которой люди окропили, напоили, но еще не насытили землю, взойдут красные маки, кровавые цветы, проглядывающие там и сям сквозь желтизну пшеничного поля в самом начале лета?
Может, эти маки всходят и цветут для того, чтоб сказать нам:
– Довольно проливать кровь!
Может, и так… Кто из людей постиг все тайны мира?
У кого слух настолько остер, чтоб услышать,
о чем говорят цветы,
о чем шелестят деревья,
о чем шепчет трава,
о чем дают знак звезды, когда мигают в ночи своими круглыми глазами?..
Пока я узкой и пыльной тропинкой шагал по городу, разоренному и спаленному войной, в памяти моей ожили старые страницы, читанные порой в спешке, порой исподволь в те годы, что обратились в прах…
Джурджу! Давнишнее человеческое поселение, основанное в незапамятные времена грубыми существами в косматых шкурах.
Когда из Малой Азии вторглись полчища турок, здесь была исмаильская провинция. В мутных водах Дуная отразились высокие белые минареты. Здесь со всей своей свитой переправлялись через Дунай бояре, получившие в Высокой Порте фирман на владычество по всему господарству Румынскому, и отсюда направлялись в Бухарест, сопровождаемые спагами[18][18]
Спаги – кавалеристы, туземцы из Алжира.
[Закрыть], гарцевавшими на гордых белых конях. По этой же дороге головы многих из них какой-нибудь булук-бей увозил в своей суме обратно в Стамбул…
– А что ты, Дарие, ищешь на этой дороге?
– Только не владычества! Разве не видишь? У меня нет никакой свиты…
Я говорил неправду. Нескончаемая свита мошкары гудела вокруг, неотступно следуя за мной. В закатном свете мошки походили на мелкие крупинки золота… А вокруг желтела пшеница, высоко взметнув спелые колосья.
И легонько покачивалась на ветру.
В конце тропинки я увидел бледную сухопарую девушку, она держала за веревку лошадь рыжей масти, у которой кости так и выпирали наружу. Лошадь щипала редкую травку у обочины дороги. Девушка пристально смотрела на меня. У нее были голубые глаза и волосы цвета спелой ржи. Кожа на лице ее отдавала желтизной и слегка облупилась на носу, руки шелушились тоже. Мне знакомы эти приметы пеллагры, болезни бедных, недоедающих людей, болезни, от которой нет лекарства.
В стране пшеничного рая от пеллагры страдали не только села, но и городские окраины, где жили поденщики.
Городское предместье представляло собой, как я понял, кучку маленьких покосившихся домишек со сгоревшими крышами и рухнувшими заборами. Жители, одно время покинувшие их, вернулись и вновь связали порванную было нить жизни.
Я поздоровался с сухопарой девушкой и спросил, как пройти к станции.
– Что ты сказал?
– Как можно пройти к станции?
– По всему видать, что ты нездешний.
– Я издалека.
– Издалека… А зачем тебе на станцию?
– На поезд, до Бухареста доехать.
– А аусвайс от немцев есть?
– Нет.
– Тогда на станцию лучше не ходить. На поезд пускают только тех, у кого есть аусвайс из немецкой комендатуры. Ты этого не знал?
– Знать-то знал, да в большой спешке из усадьбы выехал.
Девушка нагнулась и сорвала тоненький стебелек с голубым цветочком. И стала наматывать его колечком на палец. Я ждал – не скажет ли она еще чего.
– Плохо, что ты уехал из дому, не взяв у немцев желтой бумажки. Если хочешь добраться до Бухареста, придется идти пешком, от села к селу.
– Пешком так пешком. У меня никакого нет желания связываться с немцами. Только сначала я хотел бы устроиться переночевать.
– Переспать ты можешь у нас, в тесноте, да не в обиде. Тятя расскажет тебе, как добраться до Бухареста, чтоб побыстрее и без приключений. Н-но-о-о, хвороба…
Тощая лошадь, которую потянули за веревку, подняла морду и поплелась за нами. Я слышал, как она шлепала копытами по мягкой дорожной пыли.
Скоро мы оказались на месте. Дом – крошечная лачужка, припавшая на один бок, – хранил следы пожара, который задел его лишь краем. Не хватало и забора.
– Город немцы и болгары заняли сразу, как через Дунай перешли. В ту пору холода стояли. Вот солдаты и ломали заборы на костры, грелись. Да и наши тоже ломали, сколько их тут оставалось.
Прислонясь к косяку, в дверях стоял пожилой мужчина. Тоже сухопарый. И тоже с облупившейся кожей.
Из-за того, что не было заборов, из-за того, что дома были повреждены огнем и чинились в спешке, предместье выглядело заброшенным и печальным, и немногие акации, покрытые пылью и сникшие на солнцепеке, не могли оживить картину.
Девушка привязала лошадь к одной из акаций и подошла ко мне. Во дворе стояла старая извозчичья телега с покосившимся колесом.
– Что, Иванка? Гостя мне привела?
Иванка махнула в мою сторону рукой.
– Он, кажется, с верховий Дуная. По реке приплыл. Течением принесло. Теперь река и живых приносит… – Наверное, на моем лице изобразилось удивление. Иванка повторила: – Да. Теперь течение и живых приносит. А всю прошлую осень и зиму одних мертвецов приносило – трупы распухшие, уже загнивать начинали. Вот парень до Бухареста дойти хочет. Переночевать ему негде, дороги не знает, да и голодный, наверно…
Правду говорят, что сытый голодного не разумеет, но правда и то, что голодный голодного узнаёт по глазам.
– Что ж, дело обычное. Переночевать пусть у нас переночует; еду, что на двоих все равно мало, и на троих поделить можно, а насчет дороги, то, по старой пословице, и слепой до Брэйлы дошел. Так и ты мимо Бухареста не промахнешь, коли тебе непременно в Бухарест понадобилось. Входи в дом, приятель, милости просим.
Мне пришлось еще раз выдержать борьбу с чувством умиления, которое уже едва не овладело мной на берегу, когда я расставался с Лайошем Опришором и Павлом. Я вспомнил, как хмурый, сердитый барин отправил меня к старику лодочнику, швырнув всего несколько лей. Не подумал, что до Бухареста водой и сушей путь не близкий, не дал времени даже куском хлеба запастись. Хотя в усадьбе, где жили Илонка, Амос и много другого народа, хлеба было вдосталь… А вот Лайош Опришор с Павлом делились со мной тем немногим, что у них было. И теперь чужой человек, к которому я свалился как снег на голову, говорит: «Входи в дом, приятель, милости просим…» Повсюду, как и у нас в Омиде, встречались люди, которые были рады гостю… Распахивали перед тобой двери дома, а вместе с домом и сердца… Сколько самых разных людей – горшечников, ложечников, продавцов яблок и керосина и прочих мелочных торговцев – останавливалось на ночлег в нашем домишке, в котором даже нам самим не хватало места… Летом гости затаскивали к нам во двор и свои телеги. Так возле телег и отдыхали, в то время как сами мы укладывались на завалинке, под окнами, под старыми шелковицами… Зимой в маленькой нашей комнате с покосившимся окном и низким, облупившимся потолком, мы спали вповалку. И все равно в любой момент готовы были разделить скудную нашу трапезу с незнакомым путником.
«Как можно, мать, чужого человека, горемыку-странника, такого же бедняка и мученика, как мы, оставить ночевать середь дороги? Все мы люди…»
«Разве я чего говорю, Тудор?»
«Мне почудилось, Марие, будто ты расстроена…»
«Из-за Дарие расстроилась. Жар у него…»
Жар у меня бывал частенько. В огромном, вздувшемся животе скапливалась ядовитая желто-зеленая слизь, которую иногда мне удавалось выбросить из себя – со рвотой. Тогда становилось полегче. Потом начинали ныть зубы – из-за болезни десен. А то я простужался, и в горле вскакивали нарывы.
«Ляг, полежи… И все пройдет…»
Порой проходило. А порой и нет… В конце концов проходило. Меня излечивало солнце, зелень акаций и шелковиц…
Такие же распахнутые двери и сердца встретились мне и в предместье Джурджу.
– Откуда родом-то?
– Из Омиды.
– А где это?
– Возле Турну.
– Далеко…
– Далековато…
Я рассказал, где работал, кто и как послал меня в Бухарест отвезти письмо.
Живя все время с одной дочкой в предместье заброшенного и сожженного города, хозяин был рад, что нашлось, с кем поговорить… А уж я ли не был рад! Не говоря уж о том, что в этот вечер меня еще и накормили.
– Меня зовут Ницэ Олинт. Кто-то из моих предков, должно быть грек, нашел пристанище в этом жалком порту – город стал уже турецкой провинцией и потерял былой блеск. А ведь прежде сюда заходили с товарами генуэзские купцы и увозили отсюда на своих парусных кораблях пшеницу, воск, мед…
Девушка давно уже улеглась спать в комнате. Я растянулся на охапке сена в сенях, у которых не было крыши. Надо мной сверкали летние звезды. Я любовался одиноким, блиставшим чуть в стороне Стрельцом и величественным – из одного конца неба к другому – движением Млечного Пути.
– Жена моя, Петрица – болгарка с того берега, из Русчука. Здесь, на Дунае, народ смешанный, не то что в других местах страны. Одних Дунай приносит, других забирает. Многие прибиваются к берегу да тут и оседают. Так остался тут и мой далекий предок, грек, и многие турки после распада их империи. Внуки их еще и теперь, среди нас, носят широкие шаровары и красные фески. Да что там! Человек прирастает к тому клочку земли, где находит для себя и для своей семьи кусочек хлеба да глоток воды, ему уже трудно от него оторваться, уехать в другие края. Мы промышляли в порту извозом, тем и кормились. А три года назад эта большая война началась. Порт захирел. Мало стало пароходов. Все зерно, что прибыло поездом и подводами из Илфова, Влашки и Яломицы, свалили в зернохранилища, чтобы сберечь для англичан. Тут как раз и война приспела. Хотели наши поджечь зерно, когда узнали, что немцы возле Зимничи Дунай перешли. Да зерно горит плохо. Немцы это зерно с прошлой осени на баржах вывозят и все никак не вывезут. А в городе и в окрестных деревнях люди с голоду мрут. Враги все забрали. Нам только пепел в печи оставили да глаза, чтоб плакать, и на том спасибо.
– А что, много немцы народу постреляли?
– Кого постреляли, кого порезали. Такую бойню устроили, когда через Дунай перешли!.. Озлобились крепко. А много и в огне погибло…
– Как в огне?
– Когда дома горели, во время пожара…
– Зато теперь тихо…
– Не всегда.
И правда, со стороны Дуная послышались частые выстрелы. Коротко прострекотал пулемет.
– Вот какая у нас тишина…
Растревоженные и испуганные выстрелами, на разных концах окраины залаяли собаки. Через открытую дверь прошмыгнула одуревшая от страха кошка и забилась к нам под ноги.
По-прежнему невозмутимо сиял Млечный Путь.
– Это немцы воюют? В кого же стреляют?
– Здесь им воевать уже не с кем. Боев хватает на фронтах… А выстрелы слышны из порта… Там каждую ночь палят. Это из окрестных сел приходят оголодавшие мужики и тайком пробираются в порт – надеются стащить мешок-другой пшеницы. В темные ночи даже с той стороны болгары на лодках приплывают – до складам пошарить. У них там тоже голод свирепый.
– И удается?
– Когда удается, когда нет. Немцы стреляют без всякой жалости…
– Бои здесь тяжелые были?
– Тяжелые. Но город разрушили еще раньше, до высадки немцев. Дальнобойными пушками с болгарского берега. А самые большие разрушения принесли эти проклятущие австрийские мониторы. Они шныряли туда-сюда по реке и прятались за островами.
– А потопить их нельзя было?
– Да чем топить-то? Камнем из рогатки? На всю береговую линию только две пушки и было. А когда немцы, болгары и турки пришли, город был подожжен. Тогда и жену мою убили…
– Кто убил?
– Турки… Немцы город туркам да болгарам оставили на разграбление, убивать тоже не запрещали. Какое там! И сами грабили, убивали налево и направо, ровно взбесились. Я-то еще до войны из города подался. Потом уж и в Бухарест двинул. Тут-то война меня и нагнала. Куда еще бежать? Подождал, пока немного поулеглось, и домой воротился…
– Через вас из Болгарии румынские пленные возвращаются?
– Возвращаются иногда – по Дунаю, маленькими горстками. Бояре для своих имений выписывают, землю обрабатывать. Иные села совсем опустели, ни живой души не осталось, а заброшенная земля кустарником зарастает, помещику с нее никакого доходу нет. Хотя пленные, что назад возвращаются, уже и на людей-то непохожи. Кожа да кости. Несчастные, у кого душа никак с телом расстаться не может…
Несчастные, у кого души не могут расстаться с телом!..
Это, наверно, и есть великая тайна жизни. И ее великая красота. Сколько бы ни мучилось тело, как бы ни страдала сама душа, тело и душа пребывают в объятьях друг друга. Тело не хочет лишиться души, и душа не желает добровольно расстаться с телом. Молчи и терпи, кормись затхлой кукурузной мукой, вареными кукурузными зернами или просом, жуй и глотай молочные семена конопли – горьковато-сладкие на вкус, – грызи кору с деревьев или корешки трав, как те слепые твари, что живут под землей и не знают солнечного света, и тверди себе: переживем и это, настанут и лучшие дни, лишь бы до них дотянуть…
На мир опустилась тишина. Тяжелая и горькая, словно пепел.
Невозмутимо сияет Млечный Путь.
Или Дорога Рабов…
Как рассказывают старики, в те времена, когда запорожские казаки – они жили к северу от нас – схватились с надменными, разряженными в пух и прах польскими панами, из Крыма, с дозволения Высокой Порты, которой они платили дань, на Румынское господарство обрушились татары. Начали грабить и жечь, убивать и уводить в рабство. Случалось, после долгих лет страданий рабам удавалось бежать. По ночам тайком пробирались они через безлюдные, бурьяном заросшие степи, направляясь в родные края. И дорогу им указывали крохотные светящиеся звездочки Млечного Пути, который в народе был прозван да и по сей день зовется Дорогой Рабов…
Иссякла татарская сила. Вот теперь на народы обрушились немцы, и опять появились рабы.
Полно рабов в самой Германии, где их держат за колючей проволокой.
– Война есть война…
– А зачем война нужна?..
На подернутом дымкой небосводе невозмутимо сияет Дорога Рабов.
Там, на востоке, пала власть великого царя-самодержца – кончилась династия, правившая много веков. Народ взял царя за шиворот и сбросил с трона – это свершили рабочие, знающие, как действовать молотом и винтовкой, крестьяне, умеющие не только сеять и жать, но и стрелять из ружья…
Великий народ, оборванный и голодный…
Революция пойдет вширь и вглубь, раскинет свою огненную сеть на весь мир.
Уснул на соломенной подстилке Ницэ Олинт. Но сон его мало походил на отдых. Он ворочался, скрипел зубами, и из горла его вырывались нечленораздельные звуки, словно рычал обложенный зверь. Я видел, как он вскидывал вверх руки, будто защищаясь от разбойничьих дубин. Отбивался ногами. Успокаиваясь, стонал и вздыхал. Потом снова начинал скрежетать зубами и в отчаянии махал кулаками. Война, подумал я, со всеми ее ужасами и последствиями лишила людей даже сна, даже ночного покоя. О тех, кому послала сон без конца, успокоив навеки, я не говорю.
Я успел немного познакомиться с войной. Вернее, мне так показалось после того, как через наше село прошел полк баварской кавалерии, после бедствий, которые мы вынесли от немецких и австро-венгерских тыловых частей, после обстрела Турну, где сгорело несколько домов, после того, как я увидел сожженные придунайские города и множество солдатских могил на всем пути, где ждешь и не ждешь…
Но лишь теперь, шагая одиноким путником по опустевшему и опустошенному краю между Джурджу и Бухарестом, спустя восемь месяцев после того, как по этим местам прокатился губительный вал огня и крови, я начал по-настоящему понимать, что такое война. Здешняя равнина, насколько я успел узнать по своим прежним скитаниям, представлялась мне обширным краем разбросанных повсюду курганов и акациевых зарослей, сел, где с ранней весны до поздней осени сажали лес, и колодцев с задранными в небо журавлями, которые уже издали зовут тебя утолить жажду. А теперь эта равнина, пересеченная изредка пологими лощинками, являла собой картину разорения и смерти. Если бы эти места оставались дикими с сотворения мира или пришли в запустение много веков назад, они могли бы быть красивы своей особой красотой, чарующей взор и греющей душу. Но здесь ведь только что жили люди, они радовались жизни и убогому своему добру. Война безжалостно разметала в пыль их жизнь и хозяйство и равнодушно прошла мимо, оставив после себя лишь остывшие трупы да остатки разграбленного и рассеянного добра. Край снова стал добычей запустения, зарос кустарником и сорной травой. Люди погибают, а земля остается вечно молодой. Может ли земля постареть? Она продолжает жить собственной жизнью. Какой клочок ни вспаши, где ни посей, где ни начни копать, тотчас стеной встанет бурьян и заглушит собой все.
Такое же дикое запустение, а может, и пострашнее, являли собой, наверно, эти плоские равнины и в прошлом, во времена бесчисленных грабительских набегов на стольный город Бухарест и обратного беспорядочного бегства исмаильтянских армий, спасавшихся от вил и дреколья туземного люда…
И вот – высокие кусты шиповника на меже отделяют одно море бурьяна от другого. Не облетели еще бледно-розовые цветки, мелкие, как медная мелочь. Осенью кусты заалеют круглыми ягодами, словно бесчисленные открытые раны на живом теле земли. Я знал – давно уже исчезла на полях скабиоза. Близость человека с его плугом не пошла ей на пользу. А теперь – взгляни! – то ли из глубинных слоев, то ли принесенный неведомым ветром, но ведь явился же откуда-то ее род и снова укоренился в земле! И вымахал выше пшеницы, выше ржи!
Гордо покачивает своими бархатными голубыми головками чертополох, подставляя их солнцу, которое равнодушно отдает свое тепло притихшему полю.
Из травы прямо на дорогу выскакивает жирный пепельно-желтый заяц и замирает, насторожив длинные уши. Вроде и не боится меня, так редко попадаются теперь ему люди… Я вкладываю в рот согнутый указательный палец. Свищу… Пустыня отзывается эхом. Заяц бросается прочь. Прячется.
Немного дальше, разлегшись в дорожной пыли, греют на солнце свои красивые кольца большие черные змеи с желтыми, как песок, глазами. Рядом с ними ползают кофейного цвета сороконожки, толстые, жирные, налившиеся ядом, двигая десятками ног и шевеля тонкими длинными усиками.
Крупный, величиной с кошку, барсук стоит, опершись на хвост, посреди большака и удивленно смотрит на меня своими огромными круглыми глазами, обведенными желтой каемкой; только когда между нами остается не больше шага, одним прыжком скрывается он в траве, путая след.
В пустынном раскаленном небе кружат ястребы и суматошно каркают вороны. Такой обильной пищи они не видывали за всю свою жизнь! На разбитом, накренившемся телеграфном столбе отдыхает птица, воистину редкая для этих прибрежных мест, – орел-беркут с большим, крючковатым, как у попугая, клювом.
Село, раскинувшееся по обеим сторонам большака, тоже пустынно. А как же иначе? Дома сожжены до основания. Вместо них – кучи пепла, на которые сперва ложился снег, а потом чередою пошли дожди, размывшие их и унесшие в землю. Заборы не иначе как взлетели в воздух! От них не видно даже следов. Вдоль большака тянется гряда щебня и пепла, доходящая мне чуть не до колена. Это все, что осталось от самого большого в селе здания – наверно, здесь еще прошлой осенью стояла школа.
Акации и сливы, ивы и тополя срезаны или разнесены снарядами в щепы. Рядом с обгоревшими обрубками стволов, словно по приказу земли и солнца, пробились наружу молодые ростки и, лишенные человеческого присмотра, теснятся, как колючий чертополох, готовые заглушить друг друга. Разбит и колодезный журавль. Накренилась расколотая бочка. Откатилась в сторону и валяется колода с желобом. Ветер забросал мусором колодезный сруб, вода едва мерцает на дне, издавая смрадный запах. Хорошо, что меня не мучит жажда!
Из сплошных зарослей колючего кустарника, которые заглушили то, что когда-то было селом, выбирается, устремляясь ко мне, худющая кошка, желтая с белыми полосками. Я готов поднять ее, взять на руки и нести с собой, пока нам не попадется навстречу хоть некое подобие человека. Лишь бы не чувствовать себя одиноким, заброшенным и покинутым всеми. Зову, протягиваю руку. Кошка смотрит на меня миндалевидными глазами. Словно бы и хочет подойти. Но мнется в нерешительности. И убегает, как будто я огрел ее прутом. Забыла уже, как выглядит человек.
Я ускоряю шаг. Насколько позволяет нога.
Пока я не встретился с войной, меня часто терзали горькие сожаления, причиной которых была моя больная нога. Но, увидев безногих солдат, я перестал думать о своем пустяковом увечье. Ты злишься, порезав палец? У безруких уже нет оснований для такой злости.