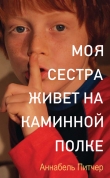Текст книги "Босой"
Автор книги: Захария Станку
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
VI
ТРАВА
Ветер с Дуная пригнал облака, а облака пролились обильным весенним дождем.
И земли, которые были засеяны семенами, политы слезами и удобрены кровью, сразу зазеленели.
И села за одну ночь оделись во все новое.
А там, где не была посеяна пшеница, где не были посеяны ни просо, ни ячмень, ни брюква, – там взошла трава.
Трава остролистая.
Яркая.
Блестящая.
Вернулся кое-кто из тех, кого угоняли в города, скрутив за спиной руки, привязав к жерди – по восемь, десять, а то и двенадцать человек на одну жердь.
Они вернулись развязанными.
Развязанные возвратились в свои дома.
С раздробленными костями, с истерзанной кожей.
Они бродят по улицам, будто ступают по колючкам.
Но на улицах нет колючек.
Это оттого, что ступни их ног покрыты язвами.
Ступни ног разбиты.
Они ходят, держась руками за живот.
У них ноют кости.
Ломит поясницу.
В каждом селе встретишь женщин, повязанных черными платками.
Однако не все овдовевшие женщины носят черный платок.
На что им купить черный платок и где взять столько черных платков сразу!..
С Дуная повеяло теплым ветром.
И ветер пригнал облака.
А облака пролились дождем – обильным, теплым, весенним.
И добрый дождь возродил землю к жизни.
Ожили бескрайние поля.
Всюду разносятся запахи свежей, новой травы, новых листьев и пшеницы, которая уже на две ладони поднялась от земли.
Над погубленными людьми, лежащими в глубоких могилах, взошла новая, свежая трава.
VII
МЕДВЕДИ
– Куда ты, сестрица?
– Во дворец…
– Возьмешь меня с собой?
– Не возьму…
– А я пойду…
– Попробуй только, уши оборву…
Моя родная сестра!.. И оборвет мне уши!.. Не оборвет. Разве что оттаскает та уши. Да я и сам сумею защититься – как вдарю! Дома я дерусь со всеми, кто не хочет меня слушаться. Не дерусь только с тятей и мамой. Еще бы!.. Если ребенок подымет руку на отца или на мать, рука у него отсохнет вся – от плеча и до кончиков пальцев…
Правда, моя задиристость мне же выходит боком. Но это даже хорошо. Умеешь нападать – умей и получать сдачу. У меня вся голова расцвечена синяками: от палочных ударов, которыми меня потчуют приятели. Но и сами они разукрашены не меньше моего. Это мы пощекотали друг друга дубинками. Удобнее всего колотить по спине – не остается следов, разве что вздуются рубцы, да и то через неделю опадают. С головой дело хуже… Кожа тонкая – рвется, кровь хлещет потоком. Раны мы присыпаем землей. Те, что поглубже, залепляем мукой – пшеничной или кукурузной. Других снадобий у нас не водится.
Евангелина уходит нарядная: в волосах за ушами у нее красуется сухая веточка базилика…
Миновало рождество… Прошло и крещение…
Да и весна уже на подходе…
Идешь по дороге, снег под ногами оседает. Надавишь посильнее – и под пятками проступает вода. Обувка промокает насквозь…
Еще год назад сестра Евангелина была толстушкой. Этой осенью ей исполнилось пятнадцать лет, и она вдруг сразу вытянулась, постройнела. Стала выше ростом и тоньше в талии. В удлиненных глазах ее вспыхнул ослепительный свет. У сестры густые брови, как у мамы, и длинные ресницы.
– Так возьмешь меня во дворец?
– Я тебе уже сказала – нет…
Евангелина красит румянами щеки, будто цыганка, глядится в осколок зеркала – и где только она его раздобыла?
До этой поры в нашем доме зеркал не водилось. Мама в зеркало никогда не смотрится. Да и зачем?.. Замечать, как увядает кожа? Довольно и того, что это видим мы…
– Мама, Евангелина не берет меня во дворец.
– Оставь ее, пусть уж идет одна.
– А я не хочу, чтоб одна.
– Ну, раз не хочешь…
Сестра отправляется во дворец. Но на каждом шагу останавливается, захватывает руками снег и швыряет в меня снежком.
– А ну, поворачивай домой, Дарие!
– Не пойду!
– Иди, говорю!
– Не хочу!
Евангелина припускается за мной. Догонит, повалит в снег и поколотит. Но я бегаю быстрее всех мальчишек в селе. Тогда она пытается уговорить меня по-хорошему.
– Шел бы ты домой, Дарие. Хоть сегодня не бегай за мной. Ведь побью, коли во дворец зайдешь.
– А вот не побьешь, постыдишься!
– Вернешься домой, куплю тебе… баранок.
– Врешь. У тебя и денег-то на баранки нет.
Сестра направляется ко дворцу, я – за ней.
Дворец – это заброшенная землянка, без окон, без дверей – на самой окраине села, за домом моего дяди Пэуне Вакэ.
Сестра уже у дворца. Я тоже. Она входит внутрь. Я следом. Но мы не самые первые, кое-кто проявил больше прыти.
Во дворец ходят молодые люди и девушки постарше, которых весной должны принять в хору. Они учатся там танцам и играм. Музыкантов у них нет. Играет кто-нибудь из парней – на свирели или на кларнете.
Мы, младшие, держимся возле старших братьев или сестер. Рассаживаемся вдоль стен и глазеем на танцующих – одни пляшут ловко, другие просто увальни, едва переставляют ноги, ровно к ним чурбаки привязаны.
Парни и девушки, уже принятые в хору, во дворец не ходят. Чего они там забыли? Свои хороводы они водят перед корчмой. Таких питейных заведений в селе целых семь, и корчмари передрались между собой. Каждый хочет, чтобы хору водили перед его корчмой. Ради этого сами нанимают музыкантов и платят им. Расчет простой – молодежь непременно зайдет в корчму выпить, а за выпивку надо платить…
У какой корчмы устроить танцы, решают парни, которые в хоре верховодят. За это они получают в дар от корчмаря ведро цуйки, вина, связку баранок и решето яблок, доставленных с гор чабанами.
Во дворце стоит дикий шум и гам.
Когда танец приостанавливается – а такое бывает, только когда юнец музыкант устает дудеть на своей свирели, – ребята затаскивают девчонок в угол, щиплют их, целуют, лапают. Мы же изнываем от зависти. А то и сами начинаем приставать к девчонкам – нашим ровесницам. Кто-нибудь из старших, с пушком на губе, порой цыкает на нас:
– Эй, постыдились бы, сопляки!
– А самому-то небось не стыдно?
– Я уж… это… парень…
– И мы скоро будем…
– Вот то-то и оно, что скоро, а покамест сопляки.
Опустился вечер. Стелется туман. Словно где-то под землей горят невидимые огни. Туман подымается из низин, а может, опускается сверху. Никто не знает, откуда берется туман – вроде бы отовсюду, и оттого еще короче становится сумрачный день.
Вечеринка расходится. Ушел юнец со свирелью. Ушел насвистывая. За ним стайкой выпархиваем и мы.
Перед дворцом на улице – повозка, запряженная четверкой лошадей. В повозке – трое парней. Это Авендря, приятель моего брата Иона. Второй – Верде. А это – Альвицэ…
Мы проходим мимо повозки. Альвицэ сидит, откинувшись к боковой стенке. В углу рта зажата сигарета. Он кричит:
– Евангелина, подойди-ка, я хочу тебя кой о чем спросить.
Сестра останавливается, оборачивается к нему.
– Мне надо шепнуть тебе на ушко…
Сестра подходит ближе. Я, как жеребенок за кобылой, плетусь следом.
Не успела сестра подойти, как Альвицэ бросается к ней, хватает поперек тела, поднимает над собой. И, подняв, как сноп, швыряет в повозку. Авендря подхватывает ее на руки. Сестра вскрикивает. И умолкает: Авендря зажал ей рот ладонью.
– Черт возьми! Зачем так орать?..
Альвицэ вскакивает на подножку. Верде хлещет кнутом лошадей. Мелькают копыта. Повозка, скользя по хрустящему снегу, взлетает на холм. Альвицэ выхватывает из кармана пистолет и стреляет в воздух. Повозка исчезает за холмом.
– Украли! – слышу я вокруг. – Украли! Айда к Альвицэ! То-то там сегодня шабаш будет!..
Я мчусь домой.
– Мама, сестру украли…
– Кто украл-то?
– Альвицэ украл…
Мать натягивает постолы, набрасывает на плечи шаль.
– Бежим за отцом, Дарие.
Отец сидит в корчме Томы Окы.
Лицо у него красное. Стоит ему выпить стопку цуйки или стакан вина, лицо и уши у него краснеют…
Мать незаметно подзывает его, отец выходит, слегка обеспокоенный. Мама никогда не заходила за ним в корчму.
– Что случилось?
– Евангелину с вечеринки украли.
– Кто?
– Альвицэ…
Отец прикусывает кончик уса.
Сестра Евангелина и брат Ион – мамины дети. На холме, что между Стэникуцем и Большим оврагом, у мамы есть собственный клочок земли, наследство от первого мужа. Земля там бедная, родит плохо. И все же земля есть земля. Она может давать и больше, коли есть плуг и добрые волы, чтоб плуг тянуть. А на самом деле земля эта вовсе не мамина собственность. Ее придется делить: одна половина отойдет Евангелине, другая – брату Иону, когда они подрастут.
Сестра Евангелина совсем девчонка еще, могла бы не торопиться с замужеством. Но Альвицэ торопился. Вот и украл. Такое в селах случалось нередко. Так повелось исстари.
Родители сходятся на совет, досада понемногу тает.
Ион Сучу – его в селе прозвали Альвицэ – парень видный и ловкий. Живет с матерью на другом конце села, через дорогу от попа Бульбука. Если приданое сестры сложить с тем, что есть у Альвицэ, то можно еще сводить концы с концами.
Склонить отца оказалось труднее, чем мать. Не то ему досадно, что Евангелину украли. Его огорчает другое – что не знал об этом заранее, даже не подозревал. Мама утешает его:
– Теперь с нас взятки гладки. Жених приданого не потребует.
– Как это так? Ты хочешь, чтоб я дочь нагишом отпустил?! Нет, справим ей все, как полагается…
Прикидывают. Ситцу на платье купят в долг у Щербу, свечного заводчика. Младшие сестры сошьют свадебные рубахи для жениха, посаженых и дружек… Придется занять деньжат у окрестных богатеев, у тех, на кого мы работаем. Скосим им летом на две-три полосы пшеницы больше, в счет долга… За обувью надо съездить в город… Трудненько будет летом раздавать долги, да уж коли нужно, так нужно…
С другого конца села доносятся выстрелы из ружей, из пистолетов. Слышится музыка. Я лечу туда.
На дворе у Альвицэ народу полным-полно. Из-за забора, что через дорогу, выглядывает поп Бульбук со своей попадьей. Поп ухмыляется в бороду. Смеется над тятиным несчастьем. Не знает, что отец уже утешился.
Я пробираюсь меж ногами взрослых, захожу в сени и спрашиваю у женщин, которые ощипывают кур:
– А где моя сестра?
Мне отвечает Флоаря, жена Тицэ Уйе:
– В комнате она. С Альвицэ…
Из комнаты слышен звонкий смех. Значит, все хорошо, раз сестра смеется… Но я все равно сердит на Альвицэ – ведь теперь мне придется называть его дядей. Дядя Ион… Я сердит на дядю Иона – не мог уж вместе с сестрой взять в повозку и меня. Вот бы я прокатился…
Ах, как это здорово – мчаться в повозке, которую несут лихие кони, а парни стреляют из пистолетов. Здорово…
Свадьбу Евангелины ждали недолго – всего три недели. Иначе ее пришлось бы справлять как раз после пасхи. А тогда крестьянам не до свадеб.
Сразу за околицей начинаются поля, которые тянутся далеко-далеко, и поля эти ждут рабочих рук.
В селе свадьбы справляют между рождеством и днем святого Тоадера – первым днем сырной недели перед весенним постом. День сырного святого, ох, какой это день!.. А особенно вечер!
В этот вечер люди собираются вокруг стола и угощаются. Брынзой. А если брынзы нет, сойдет все, что найдется в доме: лук-порей, лук репчатый, капуста… Лишь бы набить пузо. И пьют цуйку – допьяна.
Упаси тебя бог оставить дома девушку, если ей уже пора замуж. Ведь до следующей зимы уже никто не женится: подходит время работ, людям не до того. И если ты не выдал дочь – берегись! Уж и поиздеваются над тобой! Издеваться будут парни, поднявшись на холм.
Мы ждем начала таких издевок, как веселого развлечения.
Парни разбиваются на группы. Одни подымаются на холм, что с восточной стороны села, другие – на тот, что с западной.
Вот раздается голос Раду Тэнасе:
– Э-э-э-й! Эге-ей!
С другого холма ему отвечает писклявый голосок Гини Ротару:
– Что такое, эй, что содеялось?
– Да во-о-от, есть у Томы Окы дочь, дома ей сидеть невмочь, у нее уже живот, замуж девка все нейдет…
– Отчего это нейде-о-о-т?
– Батька землю не да-е-о-о-т!
– Я мог бы и про другие издевки рассказать. Хочешь?
– А тебе не стыдно, Дарие?
– Пожалуй, стыдно.
– А коли стыдно…
Мы слушаем эти непристойности. И радуемся. Повсюду повылазили на порог крестьяне с женами и детьми. Растопырили уши, слушают и хохочут. Но кое-кому уже не до смеха. Неосмеянным никто не останется. Иной хмыкнет, ругнется сквозь зубы. Уйдет в дом и больше не высовывается. Другие, что посварливей, хватают палку и кидаются на холм в погоню за парнями. Кто попадется, того и изобьют. Парни когда удерут, а когда и отпор дадут… И наутро можно повстречать молодого парня или пожилого мужика с головой, обвязанной полотенцем. Тем и кончается…
Про сестру Евангелину не успели сложить ни одной песенки. Она вышла замуж прежде, чем погуляла, прежде, чем вступить в хору…
Неженатых парней молодежь ловит вечером на святого Тоадера, хватает и лупит по спине бурдюком. И не совестно тебе до сих пор холостым ходить да неженатым?.. Вот тебе, старый холостяк!.. Вот тебе! Только бурдюк гремит…
– А что такое бурдюк, знаешь, Дарие?
– Чего ж тут не знать – баранья шкура, зашитая, заклеенная и воздухом надутая. Ударишь – как барабан гудит…
В сырный вечер и не такое случается. Например, есть у тебя дочь, вековуха… Так парни про тебя не только издевку на холме разыграют, они еще и собаку твою подманят, к хвосту жестянку привяжут и палкой благословят. Собака, не получившая в день святого Тоадера такого благословения, может взбеситься. Хочешь держать на дворе бешеную собаку? Нет? Тогда не серчай из-за жестянки…
На селе не встретишь собаки, которую бы ни разу не били, не благословляли палкой! И все-таки не проходит весны, чтоб какая-нибудь не взбесилась. Бесятся весной собаки…
И каждую весну несколько человек со связанными за спиной руками отправляют под конвоем в городскую больницу. Кожа у них на руках облупилась: пеллагра. Поели испорченной кукурузной муки…
Каждую весну пеллагрой заболевает несколько человек. Жандарм связывает их и отправляет в город, в больницу. Спустя немного времени приходит бумага, извещающая, что больные умерли и похоронены…
А жизнь продолжается и без них.
Заболели пеллагрой два брата, живущие по соседству с нами. Есть у них и третий брат – дядя Санду, полоумный. Однажды поп Томицэ Бульбук увидел, как обоих братьев со связанными руками жандарм Жувете вел на станцию, чтоб отвезти в город.
– Что с ними, господин начальник?
– С ума спятили, батюшка, из-за пеллагры.
– Нет, милок. Пеллагра тут ни при чем. Жестянку им надо было привязать, милок, да благословить палкой, вот что…
– Да ведь людям жестянки не привяжешь, батюшка, не собаки все же, – возразил жандарм Дырыйялэ.
– Вот эти как раз собаки, милок, истинно собаки, в церковь и не заглядывали… Жестянку им следовало привязать, жестянку…
Через неделю после похищения моей сестры Альвицэ пришел с ней к нам.
Сестра словно бы еще больше вытянулась, побледнела, под глазами легли синие круги. У Альвицэ на верхней губе усики, из-под усов торчит сигарета. Он дымит беспрестанно, прикуривая новую сигарету о старую. Маме это не очень нравится.
– Добрый вечер, тятя. Добрый вечер, мама.
– Добрый вечер, Ион. Украл у меня дочку-то…
– А что, дурак бы я был, если б другому отдал! По сердцу она мне…
– Еще бы! А не подумал, что она слишком молода?
– А мне как раз такую и нужно – молодую.
– Ну ладно, Ион, ладно…
– Вот и я говорю – ладно…
Евангелина стоит рядом. И глаз с него не сводит, никого не замечает – ни братьев, ни сестер, ни мамы, ни отца, – только своего муженька и видит.
– Тятя, я пришла о свадьбе договориться.
– Что ж, давай договоримся. Когда же?
– Через две недели…
– У нас еще приданое не готово…
– Это ничего. За две недели успеете…
– А посаженым отцом кто будет?
– Гэйнэ…
Гэйнэ – сосед Альвицэ.
– Что ж, посаженого ты выбрала хорошего. Мужик деловой. А… сколько земли ты от меня хочешь, Ион?
– Да я думаю, тятя, хватит половины того, что положено Евангелине. Другая половина – ваша. А коли детей много будет, тогда и вторую заберем.
Такого родители не ожидали.
Начинают уговариваться насчет приданого.
– Тебе, тятя, – говорит Ион, – я куплю сапоги. Иону подарю постолы. Подумал я и о шурине Георге: куплю ему ботинки и отправлю по почте. Девушкам по паре туфель. А этой малышке, – он показал на мою сестру Елизабету, – платьице и туфельки.
Альвицэ пощипывает усы и обнажает в улыбке белые, как молоко, зубы. Парень он красивый. Глаза у него как угли, светящиеся изнутри.
– Благодарствую, – говорит отец. – Мы даем за дочерью ее землю и одежду, подвенечное платье, рубашку для жениха, для посаженых отца и матери. Подарим рубаху и старухе матери, что тебя вырастила, так-то вот…
Старуха – это бабка Рада, мать Альвицэ, она будет Евангелине свекровью; бабка низенького роста, толстая и с усиками, на селе ее прозвали Толстухой. Толстухой называет ее и Евангелина, разговаривая с нами.
– Надо говорить ей «мама», доченька!
– Какая она мне мама? Что, она меня растила? Да ну ее совсем! Немая какая-то, слова не вытянешь. А живет больше у дочери, у Никиши, чем дома.
Подошел день свадьбы.
Родственники начинают съезжаться еще с вечера в пятницу. Едут отовсюду. Первыми прикатили, разумеется, тетушка Уцупэр с Дицей. Прямо из Секары. Парни, как повелось, всей ватагой ухлестывают за Дицей: она еще немного подросла, а в тюрьме чуть похудела.
Из Кырломана прибыли дед с бабкой и мамин младший брат – дядя Думитраке с теткой Аникой, своей женой. Дядя Думитраке два года как женился. В жены взял белобрысую круглолицую женщину с голубыми глазами. Жена родила ему сына. Аника показывает маме завернутого в пеленки младенца.
– Скажи, Марие, ведь правда похож мой Ионикэ на Думитраке?
Дядя Думитраке долгоносый и рыжий. А младенец курносенький, личико у него такое смугленькое, будто его натерли сажей. Мама разглядывает ребеночка. Хотя она рассмотрела его еще в прошлый приезд.
– Ну как же, милочка, точь-в-точь мой брат, вылитый Думитраке…
Она хитро подмигивает нам. А у дяди Думитраке от радости спирает дыхание.
– Сестрица, мой Ионикэ – вылитый я, это папин сыночек, папин…
Он берет его на руки, пестует. Младенец – вылитый Ницэ Лицэ по прозвищу Цыган, сосед кырломанской бабушки… Все, кроме Думитраке, уже заметили это сходство.
Приехала из Кырломана и мамина родня – семейство Чуря. У тетушки Сики Чуря на одном глазу бельмо. Восемь сыновей родила она – и все живы. Все женились. Возле старого дома еще три дома в ряд поднялись, один – у самого озера. Протяни из окна руку – и достанешь до прибрежного камыша. Озеро широкое и сплошь камышом поросло. Есть в их семействе и лодка – баркас, в нем можно переправиться на противоположный берег, где разбиты виноградники. Кырломанцы развели виноградники на дальнем берегу озера, там красноземные почвы и приживается только красный сорт, у которого ягоды мелкие, сморщенные, зато сладкие как мед!
Прошлый год тетушка Чуря попала в городскую больницу. Сидя на трехногом стульчике и ощипывая над котлом с кипящей водой ошпаренную курицу, она рассказывает о своих злоключениях:
– Слышь, Марие? У меня в голове будто поезд идет – и гудит, и свистит. И так день и ночь – гудел и свистел. И по лекарям-то я ходила, и снадобий перепила разных – все без пользы… А вот как-то мой старшой взял да повез меня в Турну, к дохтуру. Бородатый такой дохтур. Не то чтоб борода как борода, а так, клинышком. Уложил он меня на столе и усыпил. Не знаю уж, чего он там мне в нос накапал, только сделалось мне тошно. А перед тем, значит, как усыпить-то меня, велел ни о чем не тревожиться. Он, дескать, только надрез на голове сделает, чтоб поезд-от вынуть. Не знаю, сколько я проспала, по-моему, целый век. Так мне показалось. Просыпаюсь – голова у меня вся завязана, а подле меня, на подушке – паровозик лежит жестяный. Берет дохтур-от паровозик в руки, показывает мне.
«Смотри, – говорит, – бабуся, что в голове-то у тебя было. Это я голову тебе раскрыл и паровозик вытащил. А потом голову снова зашил. Болит?»
«Нет, милок, не болит…»
«И не должно болеть, бабуся. Гудит в голове-то?»
«Да нет, милок…»
Продержал меня в больнице немного. Потом выпустил, и воротилась я домой здоровехонька… У дохтура-то золотые руки…
– А где паровозик, тетушка Чуря? – спрашиваю я. – Вот бы мне с ним поиграть…
– Паровозик-то? У дохтура остался. Он сказывал, в музей его сдаст.
Сыновья тетушки Чури прибыли на свадьбу с женами и старшими детьми. На четырех телегах приехали. И хорошо, что приехали!..
Ох и здоровы они есть, только подавай!..
На свадьбе как на свадьбе… Коли пригласил – угощай, не скупись.
С Олта гостей мало – только дядя Гэбуня с женой, тетей Аретией. С Кэлмэцуя прикатили сестры и племянники отца. Где только мы их спать уложим? Придется по соседям размещать, у односельчан… Один ведь раз Евангелина замуж выходит!.. Один раз ей свадьбу справляем!..
Вот и суббота. Вечер. Все родственники собрались у нас. Поесть и выпить. И повеселиться…
Музыканты остались в доме жениха. Я лечу туда вместе с сестренками Рицей и Елизабетой. Елизабета совсем еще малышка, семенит ножонками, зато Рица впереди всех.
У дяди Альвицэ собрались самые близкие родственники, двоюродные братья и сестры. Нет пока еще посаженой матери. Приглашения к свадьбе составил Верде, которого Альвицэ назначил дружкой. Прошелся дружка по селу с полной бутылью, мигом созвал родственников.
Ночь прошла. И до самого рассвета в доме жениха играли музыканты.
Как и все, я задремал лишь на заре.
Свадьба начинается в воскресенье утром. Но настоящее разгулье – только с обеда и особенно к вечеру. Я держусь поближе к сестре Евангелине. Никогда прежде она не казалась мне такой красавицей. У нее собрались подружки. Верде явился с большой веткой черешни – срезал в роще верхушку дерева. Девушки украшают деревце веточками базилика, цветными лентами, обвязывают базилик ниточками канители. Канитель блестит, словно серебряная. Но никакое это не серебро.
– Ишь как украсили невестину елочку, – слышу я голосок Рицы. – Когда я подрасту, тоже замуж выйду. Тогда и для меня нарядят деревце.
Вот невестино деревце уже наряжено… Наряжали его в сенях… И теперь выносят и ставят перед домом. Все село, собравшееся на улице, смотрит и одобряет:
– Красивое у невесты деревце!..
Евангелину ведут в комнату. Я верчусь среди девушек как чертенок. Облепив мою сестру, они галдят, ну чисто сороки, раздевают ее догола, щекочут, щиплют, надевают извлеченную из сундука рубаху. Поверх рубахи – белое подвенечное платье из тонкого полотна. На ноги натягивают белые чулки и белые туфли; расчесывают волосы и заплетают косы. Втыкают в косы веточки базилика, прикрепляют к волосам купленную на базаре подвенечную фату, белую и прозрачную. Невеста походит теперь на фею. Фея – да и только…
Сестра встает. Туфли жмут. Всем девушкам в нашем селе, когда они выходят замуж, туфли жмут ноги… Туфли узкие, на высоких каблуках. А ноги толстые, в стопе широкие. Еще бы – вечно ходишь босиком, вот ноги и грубеют, пальцы становятся толстыми и уродливыми.
Фата Евангелины спускается до самой земли. Лоб невесты украшает белый венок из бумажных цветов – красных, желтых, зеленых, синих… Теперь ей и на стул не присесть. Так до самого вечера, как на постель идти, придется в этом убранстве на ногах маяться – ни тебе сесть, ни нагнуться – словно аршин проглотила.
Невеста готова. Стоит перед домом убранное деревце. Приходит Верде – женихов дружка, берет Евангелину за руку, ведет к колодцу, что перед примарией, из которого отныне она будет брать воду для своего дома.
И верно – со дня своей свадьбы Евангелина каждый день носила воду только из этого колодца.
К колодцу и ведет ее теперь дружка. Несет высоко над головой убранное деревце невесты. Впереди музыканты, их четверо, они наяривают не переставая. Музыка разносится по всему селу. Я еще ни на чьей свадьбе не видел городских музыкантов. Нынче – в первый раз. На свадьбе у сестры Евангелины…
– Этот шельмец Альвицэ совсем возгордился, ишь свадьбу отгрохал – попову сыну не угнаться!
– Коли есть на что, отчего же не отгрохать!..
– Невеста, видно, очень по душе пришлась…
– Может, и так, а может, просто из бахвальства…
На плече у Евангелины новое коромысло. На коромысле – одно спереди, другое за спиной – ведра, она получила их в приданое; ведра не лудили, не красили – пусть все видят, что они из чистой меди и совсем новые.
А полудят и пустят в дело уже после свадьбы. Сегодня нужно, чтобы все село узнало – невеста принесла в дом от родителей медные ведра, новые, а в том, что висит спереди, медный ковш с длинной ручкой. Ковш положен так, чтобы можно было рассмотреть его ручку, на которой городской мастер искусно выбил узоры.
Девушки и дружка ведут мою сестру за руки к колодцу, ведут торжественно, под музыку, чтобы и она тоже знала – отныне это и есть ее путь от дома до колодца, из этого колодца носить ей теперь воду домой, для своего хозяйства.
Берет сестра бадью и опускает колодезный журавль… Бадья коснулась дна; набрав воду, сестра вытягивает ее, наполняет одно ведро. Потом снова достает воду и наполняет второе.
Вот она, прислонив коромысло к колодезному срубу, поднимает ведра, на несколько шагов относит их от колодца. Ставит на землю. Играет музыка… Невеста, дружка, девушки и парни становятся в круг. Трижды обходят они ведра и расходятся. Сестра снова берет ведра, цепляет на коромысло, поднимает его на плечи. Гнется у нее спина. Тяжелы ведра, ведь из меди сделаны, у них толстые стенки, толстое дно, и к тому же они полны воды. Невеста должна знать: нелегко ей замужем-то придется. Пусть привыкает к бремени семейной жизни. Склонилась было Евангелина под тяжестью ведер, но собрала все силы и вот уже идет гордо и прямо. Доходит до дверей дома. На пороге Толстуха встречает ее с хлебом-солью. Сестра опускает ведра, откусывает хлеб, сперва обмакнув его в соль. И принимается плакать как глупенькая. Музыкант, что играет на цимбалах, поет:
Эй, невеста, горьких слез не лей,
Я сведу тебя к матушке твоей,
То ли сегодня, то ли в ту пору,
Когда речка-река потечет в гору.
Музыканты уходят. Идут к соседям за посажеными отцом и матерью, чтобы с песнями привести их в дом Альвицэ, моего свояка. Уходит с ними и дружка…
Накрыт праздничный стол. Сестру подсаживают на телегу. Влезаю и я – назойливым довеском.
– От тебя, видать, не отделаться…
– Поглядеть-то охота…
– Смотри уж, больше не доведется…
Телега с грохотом подкатывает к нашему дому. Мать выносит невестино приданое, грузит в телегу красного цвета сундук, купленный в городе, куда уложили все наряды Евангелины, сколько есть. Поверх сундука кладут перины, подушки, одеяла. Рядом с сестрой усаживается дружка. По краям телеги сели парни. Нашлось место и для двоих музыкантов. Музыканты наяривают так, что струны гудят. Телега разъезжает по селу. До самого обеда.
Солнце перевалило за полдень. Во дворе жениха собрались родственники, пришли все, кто хотел. Музыканты уж исходят потом. А хора все растет, все ширится… Дело к вечеру. И снова катают жениха и невесту… Целый поезд телег, одна за другой. Бренчат под дугами колокольцы, хлопают кнуты, гремят выстрелы. Процессия останавливается перед примерией. Жених с невестой и посаженые идут к примару. Примар делает запись в книге. Потом – в церковь. Вот уже и поп обвенчал их. Теперь домой.
Хора возле дома в самом разгаре. Музыканты начинают свадебную. В середине круга невеста, по правую руку жених, по левую дружка. Рядом посаженые с большими горящими свечами. Свечи белые, перевязанные красными лентами. Трижды обходит их хора.
Потом толпа, окружавшая хору, расступается. По образовавшемуся проходу валит целая ватага цыган с медведями на цепях. Перепуганные дети с визгом бросаются врассыпную. Проход становится еще шире. Разрывается я круг танцующих. Цыгане и их медведи теперь в центре, возле музыкантов. Я считаю медведей – их двенадцать… Цыгане водят медведей вокруг музыкантов, стуча в бубны. Медведи глухо рычат, топчутся в нерешительности; цыгане шепчут им на ухо какие-то чудные слова, подбадривают, толкают коленом, ласково почесывают палкой загривок и спину. Медведи смелеют, встают на задние лапы. Подают лапу друг другу, совсем как люди – руки… А музыканты все не прерывают игры. Вот запели цыгане. Кружится и кружится хора. Вновь плотной стеной сомкнулась вокруг танцующих толпа. Совсем как люди пляшут медведи. Не спуская с них глаз, бьют в свои бубны цыгане. Звенят цепи.
Но вот медведи остановились. Останавливается и хора.
Кто не знает Грую Дудэу, старого цыгана-медвежатника! Все прочие медвежатники – его ученики или зятья… В таборе двенадцать медведей. Медведицу Дидину Дудэу держит на цепи. Я уже знаю, какая она. Когти на ее лапах от долгого бродяжничества сточились, шерсть местами вытерлась и проглядывает желтая кожа, потерты и изъязвлены веки вокруг карих медвежьих глазок. Стара уже Дидина, но все еще крепка – старейшина таборских медведей. Остальные одиннадцать помельче, помоложе, попроворнее…
– Пусть счастлива будет эта свадьба! – провозглашает Груя Дудэу. Он стягивает с головы кэчулу и передает ее медведице. То же делают и другие цыгане. Медведи, стоя на задних лапах, протягивают хозяйские кэчулы зрителям. Те швыряют туда монетки. Медведи рычат. Но дети их уже не боятся. Подходят к ним вплотную и дергают из шкуры волоски. Медвежий волос – хорошее средство от испуга. Стоит его поджечь, окурить себя дымом – и ты уже не ведаешь страха.
– Пойдем в дом, Дидина, изобразим невесту!..
Груя Дудэу тянет медведицу за цепь и входит с нею в дом Альвицэ… Жених, невеста и гости следуют за медведицей. Любопытствующие прижимаются к окнам – так виднее. Медведица одним прыжком взбирается на постель невесты. Сворачивается клубком. Потом поднимает задние лапы. Передними закрывает морду. Она очень стыдлива. Груя что-то напевает. Гремит бубен. Бренчат бубенчики. Дидина вытягивается, рычит. Показывает свой облезлый живот, старые высохшие сосцы. Угодливо извивается, дрожа всем телом… Снова закрывает лапами морду. Чуть слышно урчит. Потом сползает вниз, ткнувшись мордой об пол.
– Родятся у тебя красивые и здоровые дети, невестушка, – объявляет цыган Евангелине. – Медведица благословила твое ложе.
Он ведет Дидину на скотный двор, к птичьему загону – надо отвратить болезни от животных. Потом в амбар – чтобы на полях жениха рос богатый урожай…
Бешку, один из гостей, ложится наземь возле дома.
– Кости ноют, Дудэу, пусть медведица помнет меня.
Взобравшись Бешку на спину, медведица разминает ему кости от затылка до пят. Наваливается всей своей тяжестью, кости лежащего трещат… Бешку поднимается, хрустя суставами…
– Как рукой сняло…
И бросает в цыганскую шапку монетку.
Толстуха, мать Альвицэ, наливает два корыта разведенных отрубей. Медведи суют в корыта морды и пожирают месиво. Цыгане из глиняных кружек потягивают вино…
На село опускаются сумерки. У Альвицэ, моего свояка, накрыт большущий стол, за столом полно родственников и друзей. Стол завален подарками. Люди едят и пьют, а как наедятся – выходят в сени или во двор вместе с музыкантами и пляшут, пока не свалятся с ног.