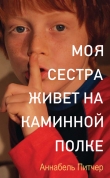Текст книги "Босой"
Автор книги: Захария Станку
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Летом, после дня жатвы, когда мне вместе с родителями и братьями приходилось передвигаться на четвереньках и от жгучего солнца горела спина, а руки и ноги были покрыты кровью, мне вдруг снилось, что пшеничное поле стоит нетронутое и мы под беспощадными плетями барских надсмотрщиков на заре повторяем всю жатву с самого начала. Мы просыпались перед рассветом, еще более слабые от усталости, чем когда ложились спать. Осенью мне снилось, как я всем телом наваливаюсь на ручки плуга, вонзая лемех в землю, и в то же время сам толкаю плуг вперед, помогая низкорослым и слабосильным волам.
Работаешь целыми днями скрепя сердце, зная, что трудишься не для себя, а ночью та же работа тебе спится, ложишься спать, разбитый после дня трудов, – и просыпаешься, измученный их повтореньем во сне! Вот так мы и жили… Не дай бог никому такой жизни…
Счастливы были те, кто видел во сне деда или прадеда, давно перешедших в лучший мир; предки являлись издалека серой призрачной тенью, ступая легкими шагами по лазурной тропке облаков. Старый призрак хватал за руку своего потомка и нежным, как у скрипки, голосом, говорил: «Подымайся, внук, пойдешь со мною…»
– И ты пошел за прадедом, тятя?
– Пошел.
– Далеко?
– Очень.
– И как там всё, тятя?
– Повсюду, насколько хватает глаз, – только зеленые кусты бузины, стоят, не шелохнутся, а надо всем – облака, тонкие, прозрачные, ровно из шелка, а за ними, словно в тумане, много больших сверкающих солнц, и звезды – желтые, красные, белые… Шел я шел. Так бы и шел без конца. Только чувствую, рука у дедушки холодная, замечаю, что вокруг – ни души, ни зверя, ни птицы; страшно мне стало… Спрашиваю:
«Дедушка, куда ты ведешь меня?»
«Туда, где нашел покой я сам, где успокоились все наши родные, все деды-прадеды, где нет ни радости, ни печали… Вспомнил я о вас… Как вы мучаетесь. И пришел за тобой, чтобы взять тебя и увести с собой. Избавить от несчастий. Когда закрылись мои глаза и вы скрестили мне руки на груди, ты был еще мальчишкой… Словно яблоня в цвету, стоял внук мой Тудор… А теперь вон как поредели твои волосы, согнулась спина, сколько морщин…»
«Отведи меня обратно на землю, дедушка… Десять душ детей у меня. Кто их за меня вырастит?»
Рассказывая мне свой сон, отец плакал. Плакала мать. Плакали сестры… Плакали чистыми светлыми слезами. Потому что, когда смутно на душе и больно телу, сквозь свет опечаленных глаз проливаются светлые слезы… Я искусал себе язык и губы, пока ощутил во рту вкус крови, соленый и неприятный, уже знакомый мне. И не заплакал… Проглотил свои слезы. И почувствовал, как они капают мне на сердце, изливаются в сердце… Это были ядовитые капли… Они сливались с другими, не выплаканными прежде слезами… «Копитесь, ядовитые капли, копитесь, – говорил я про себя. – Придет время, и я выплесну вас в лицо тем, кто повинен в наших слезах и страданиях».
В глазах старика вспыхнул огонь. В них не было ни слезинки… У мертвых не остается слез. Иногда их не хватает и живым… Поглядел дед на меня. Долгим и печальным взглядом… А потом вдруг взял да растаял, будто его и не было вовсе. Проснулся я весь в слезах, вся щека и ладошка мокры от слез. Не так уж плохо по ту сторону жизни. Красивый мне привиделся сон. Может, когда-нибудь и жизнь красивой станет…
– Почему когда-нибудь? Почему не сейчас?
– Вот подрастешь – поймешь…
Не надо было долго расти, чтоб понять. Кое-что я понимал, едва увидев свет… И когда спрашивал, понимал. А спросил лишь для того, чтобы проверить, не пропал ли у меня с тоски голос.
Я еще пошевелил огонь обломком топорища, подбросил хворосту. Когда красные языки пламени взметнулись раз и другой, подобно крыльям птицы, которая тщетно пытается взлететь и оторваться от земли, я прикрыл костер охапкой сырой травы. Может, и мне удастся уснуть. Но сон не шел. Сон не всегда приходит, когда его зовут. Я чувствовал, как он подходит все ближе, как кружит лисой, но вдруг пугается и бросается прочь, будто кто возле меня или внутри прогнал его – рыжего хищника с пушистым хвостом, – кинув камнем. Сон бежал моих мыслей. Мыслей… И лихорадочного возбуждения, владевшего мной.
В тот момент, когда я сел в лодку вместе с дядюшкой Лайошем Опришором и Павлом, когда лодка отошла от берега и заскользила по течению в ослепительном сиянии утра меж цветущих берегов и островов, я вдруг окончательно уверился, что не берег я покидаю, а расстаюсь с целым миром прошлого и жизнь моя отныне пойдет по новому пути. Куда он меня приведет? Что ждет меня на этом пути?
Пожалуй, лучше не задавать себе подобных вопросов…
– Шагай вперед, всегда вперед. И не оглядывайся… Придет день, когда ты, Дарие, ступишь на солнечный берег…
Чьи это были голоса? Возможно, это прошептал неподвижный камыш. А может – старая ива, под которой тлел непотушенный костер. Или воздух, а скорей всего, то был голос моего сердца. Конечно, голос сердца. Оно билось спокойно. Тик-так. Тик-так. Я явственно слышал его биенье. Когда я перестану слышать, как оно бьется, значит, я у конца пути… Но к чему думать о конце, подумаем лучше о самом пути.
С блекло-серого небосвода сорвалась звезда. И канула вниз с быстротой молнии, оставив за собой светящийся след, который был виден всего секунду. Спустя мгновенье свет погас. После того как звезда миллионы и миллионы лет блуждала в холодной пустыне, его не стало.
– Жизнь человека коротка, зато путь его пролегает среди людей. И путь этот должен быть отмечен делами.
– Какими? До сих пор я ползал по земле, чтоб заработать на пропитанье. Пресмыкался как червь. Меня хлестали кнутом, награждали тумаками и подзатыльниками, пинали ногами в живот… Так было до сих пор… А дальше что?
– Вроде ты не хотел задавать себе вопросов, а, лохматый?
– Тот не человек, кто не задает себе вопросов.
Полная луна, поднявшись к зениту, плыла по синевато-желтому небу, как круглый золотой корабль. Другая луна, упавшая на середину реки, разбилась о волны, и мелкие серебряные ее осколки, дробясь, доставали до прибрежных камышей.
Казалось, что сверху густой пеленой падает снег, мелкий, как пыль, и, когда снежинки опускаются на бескрайнюю речную гладь, вода вспыхивает тысячами странных искр – так может искриться лишь вода, ставшая льдом.
В такие вот ночи, только потемней, тысячи лет назад обитатели придунайских равнин, обутые в постолы, затянутые в белые зипуны, сдвинувши на ухо приплюснутые бараньи кэчулы, с копьями, саблями и луками в руках, крадучись, переходили по белому льду Дунай, нападали на сторожевые посты, охранявшие противоположный берег, истребляли или брали в плен широкоплечих римских солдат, которые прежде жгли их поселения, и в цепях отправляли в горы и на плоскогорья возводить по их наметкам каменные крепости и города.
Мы Дунаем плыли
По дороге без пыли…
Сколько уже повидал на своем веку Дунай и сколько еще увидит!
Песня Дуная, особенно ночью, была совсем не похожа на песню полей… Шептались воды, набегая на ровный берег, пробираясь меж тонкими пиками тростника и мягкими ноздреватыми стеблями рогоза, покачивая зеленые коврики ряски, задевая по пути опущенные ветви плакучих ив. Ухала выпь – словно гудел под водой большой барабан. Высунув из воды пучеглазые головы, обезумев от лунного света, лягушки окрестных заводей горланили, будто дикая орда, опьяненная радостью победы. Словно тысячи маленьких скрипок, нежным вздохом завершали последнюю трель соловьи, прятавшиеся в листве тополей и ив. Луна медленно склонялась к закату. Скоро-скоро залиловеет заря. Смолкнут соловьи, и серебряными колокольчиками, повиснув в небесах, зазвенят жаворонки. Соловьи воспевают красоту сумерек, волшебную мглу ночи. Жаворонки – торжество восходящего солнца.
Вокруг меня, шурша травой и листвою, шмыгали зеленые ящерицы с короткой мордочкой и выпуклыми глазами, ящерки помельче были более проворны, и я не успевал их разглядеть, но знал, что они землисто-серого цвета.
Истоньшился, сузился серебряный мост на реке…
Мы Дунаем плыли
По дороге без пыли…
Откуда течешь ты, Дунай, и куда стремишь свой путь? Где-то далеко, в черных тенистых лесах, журчит источник, пробившись из-под скалы. Протекая по многим странам, ты вбираешь в себя их родники и потоки, нетерпеливо стремясь на восток – широким веером излить свои воды в просторы огромного соленого моря. Как в зеркало, смотрятся небеса в твои желто-синие воды – безмятежные или растревоженные бурей. Глядятся в твои воды, чтоб увидеть свое точное подобие, горы и холмы, деревья и люди. Собрав их улыбки и слезы, ты бежишь дальше, не ведая сомнений, спешишь на восток, спешишь раствориться в огромном горьком море, сливая там свои воды с безбрежными водами мира.
Вот уже и ночь на исходе, а я так и не уснул, прислушиваясь к твоей немолкнущей жизни. Уж нет ли и во мне сходства с тобой? Маленькой льдинкой покинул я свой жалкий очаг и пошел в широкий мир, стремясь на восток, к свету. И там, куда я держу путь, меня тоже ждет огромное горькое море, в котором я постараюсь не потерять себя…
Прозрачные воды Дуная
Свой цвет на чернила сменяют…
Нет. Даже если ты, Дунай, поменяешь свой цвет на чернила, как поется в старой песне, а я, по примеру колдуна из легенды, сумею стянуть с неба широченное голубое покрывало, превратить его в листы книги и усядусь тут, на твоем берегу, чтоб хорошо сочинять, даже если бы я сочинял не отрываясь тысячу с лишком лет подряд, макая свое перо в твои чернила, я все равно бы не рассказал людям того, что хотел бы.
– А что ты хотел бы рассказать?
– О страданьях и тревогах, удачах и неудачах, испокон веков выпадавших на долю моих сородичей, которых били и истязали, принуждали работать до седьмого пота и жить на коленях.
– А кому же будет польза от твоего рассказа?
– Моим ближним. Я хочу, чтоб они научились избегать страданий. Научились жить, высоко подняв голову. Чтобы смогли наконец одержать самую большую победу.
Люди, спавшие около меня, то и дело ворочаясь во сне и вздыхая, жили возле воды. Их судьба была связана с водой. Наша жизнь, жизнь тружеников поля, была связана с землей. Жизнь эта, при всей ее широте, имела предел, и мы не смели его преступить. За эти пределы уходили лишь те, кого село отправляло служить в армию. Кое-кому удавалось повидать большие далекие города; другие, кому выпадало служить в пограничье, жили по нескольку лет у самой границы, в горах или возле Дуная. Остальные довольствовались тем, что могли пройти десять верст на север, к Руши-де-Веде, или десять верст на юг, в Турну.
– Вот вырастешь, Дарие, увидишь горы, а вернешься домой, расскажешь и нам, какие они…
– Да, мама, я обязательно поеду посмотреть горы.
– А потом поедешь на море и тоже дома расскажешь, какое из себя море…
– Да, мама, поеду посмотреть и на море.
– И на большие корабли.
– И на корабли…
– Говорят, будто бы горы высотой до неба.
– Да, как будто.
– А что на море другого берега и не видать, такое широкое.
– Да, даже берега не видать…
– А ты-то откуда знаешь?
– Читал.
– Ишь ты, читал! Одно дело читать, а другое – своими глазами поглядеть!..
– Обязательно поеду и погляжу своими глазами…
Пока что поехать не удалось. Обрушились на нас война с чужеземными армиями, кровью и смертью и такой страшный голод, какого мы прежде и не знавали. Только теперь я решил попытать счастья. Я не знал, как далеко уйду и смогу ли вернуться, чтоб рассказать об увиденном. Во всех нас, а во мне особенно, из-за моего характера, пытливого и легко возбудимого, горит страсть к постоянной перемене мест. Может, моими глазами хотели взглянуть на широкий мир мои родители, деды и прадеды, которые барским законом были прикреплены к тесному клочку земли и веками, поколение за поколением, обрабатывали его, так же как голосом моим, скорее озлобленным, чем злым, и столь же смелым, сколь и упрямым, хотели они громко возопить о страданиях, которые перенесли, и надеждах, которым при их жизни не суждено было сбыться…
Эта неутолимая жажда перемены мест постоянно толкает меня в дорогу. Я злился, что порой какая-то невидимая, но крепкая нить тянула меня назад, к месту рождения, к той земле, где я делал первые шаги, где играл, где, словно полевая трава, перегнили тела моих предков. Я клялся себе не поддаваться. Поэтому, быть может, и показалось мне в тот момент, когда наша лодка понеслась по Дунаю, что не к Джурджу она влечет меня, а в просторный широкий мир. Поэтому, верно, и представилось, что вместе со мной спешит в этот мир и Дунай, бегущий среди зеленеющих берегов и островов, благоухающих ароматами лета, неся свои воды в цветущий лиман – свое будущее…
Давно смолкли уставшие выпи, замолчали лягушки. Не слышно и соловьев. Угомонились, оцепенев от холода, ящерицы. Не заметно стремительных серых ящерок, свернувшихся у корней под прикрытием трав. Спустилась на край неба луна и, снова побледнев, как мел, повисла над полосой полей, где-то там, на западе. Теперь она похожа на огромный бумажный корабль, который отхлынувшие воды ночи оставили лежать на песчаном берегу…
Восточная часть неба посветлела.
Только неутомимый Дунай с журчанием-шепотом продолжал свой бег. Как всю эту ночь. Как вчера. Как сто лет назад. И тысячу лет. Как миллион лет до нас, когда он, потеснив землю и камни, в первый раз проложил себе путь меж этих берегов.
Я прикрыл лицо шляпой…
И ничего уже не видел и не слышал…
– А наш парень, Павел, спит как убитый. Дерни его за рукав, пора и честь знать.
Я поднялся, потянулся. Так, что затрещали кости.
– Что верно, то верно, дядюшка Опришор, сплю чуть ли не как убитый…
Мы собрали свои пожитки.
Влезли в лодку и отчалили.
Поднималось на горизонте солнце.
И опять нам попадались буксиры, тянувшие за собой караваны черных пузатых барж. Высокие волны, поднятые на середине реки, докатываются до нас. Лодку подбрасывает и качает, как ореховую скорлупу. Рыжебородый немец, стоящий на мостике одной из конвоирующих барж, таращит на нас глаза, потом поворачивается спиной, заходит в рубку и выходит обратно с подзорной трубой в руках. Он подносит ее к глазам и направляет в нашу сторону. Мы теперь совсем рядом – рукой подать. Я показываю немцу язык. Показываю кукиш. Рыжебородый опускает трубу, вытаскивает из кармана пистолет и стреляет. Пули свистят возле самых наших ушей. Хлюпают по воде. И тонут в Дунае. Рыжебородый чуть не лопается со смеху. Никто из нас даже ухом не повел.
– Черт тебя дернул язык ему показать! Он ведь и застрелить мог.
– Не мог. Баржа была далеко. Попасть трудно.
– Случайно мог задеть. Сколько раз бывало…
Завидев вдали другие буксиры, тяжело подымавшиеся вверх по течению, дядюшка Лайош Опришор правит ближе к берегу.
– Если нам все время будут попадаться немецкие пароходы и мы будем тащиться у самого берега, то и сегодня к вечеру до Джурджу не доберемся…
– Что ж поделаешь. Поживем – увидим…
К полудню поднялся ветер, по небу поползли черные тучи. Солнце село. Река покрылась рябью, забурлила, потемнела вода, и на гребнях расходившихся валов вскипела белая пена.
– Сильней загребай, Павел, надо скорей добраться до укрытия, сейчас дождь польет.
На болгарском берегу за туманом показался Шиштов, прилепившийся у подножия горы. Прямо перед нами выступили красные крыши домов Зимничи.
– Вот тут немецкие армии и перешли Дунай. Завязался бой с нашими резервистами. Взбешенные потерями, немцы сожгли город – так в старину разве что язычники поступали. Много мирных жителей погибло в огне…
Громыхает среди туч огненная колесница Ильи-пророка. Небо гудит и трещит по всем швам, как охваченный пламенем парусиновый верх дорожного фургона. Длинные молнии цвета раскаленного металла рассекают воздух.
– Прогневался святой. Дьявола ищет, чтоб стрелой поразить.
– А ну как дьявол от страха в нашей лодке спрятался? Что тогда, дядя Опришор?
– А зачем в нашей, лучше уж на барже у того немца, у рыжебородого…
Пока мы добрались до каменистого берега, пока привязали лодку, добежали до полуразрушенного сарая, дождь вымочил нас до нитки.
Неподалеку дымила труба дряхлого парохода. Ждали погрузки в пустые баржи стадо быков и коров, бесчисленное множество овец, запертых чуть подальше в загоне. Холодные струи дождя немилосердно хлестали по спинам скота, изможденного долгим путем и бескормицей. Мужики, пригнавшие эти стада и проделавшие вместе с ними длинный переход по проселочным дорогам, укрылись в другом углу сарая; босые, в драных рубахах, не мывшиеся много недель, с худыми, истощенными лицами и запавшими глазами, они сидели на корточках и молча глядели на воду, исхлестанную потоками налетевшего ливня.
Эти крестьяне, насколько можно было судить по их лохмотьям – шляпам и зипунам, наброшенным на плечи, – спустились с высокогорных лугов. Наверно, они впервые в жизни добрались до этих мест, до берегов Дуная. Их поражало такое обилие мутной воды. А мыслями они уносились в свои хижины, к тем, кого оставили там, снабдив пригоршней затхлой кукурузной муки на дне старого мешка…
Рядом с мужиками скорчились на своих ранцах, словно на скамеечках, четверо немецких солдат, скорее пожилых, чем молодых. Они конвоировали стада скота и крестьян-пастухов. Бесконечные пыльные проселки и ходьба по летней жаре измотали даже их, вояк, свыкшихся за эти годы со всеми тяготами и мерзостями войны. У конвоиров-солдат – длинные густые усы, большие запущенные бороды. И у всех четверых – глаза необыкновенно голубого цвета.
Пятый немец, почти мальчик, волоча увечную ногу, набрав на полу щепок, поломанных досок, хворосту, сохранившегося неизвестно с каких пор, соорудил костер. Над костром повесил котелок, в котором скоро забурлила черная горькая бурда ячменного кофе… Я рассматривал немцев в упор, с повышенным, почти напряженным вниманием. Если отложить в сторону ружья, ремни и патронные сумки, в них не оказалось бы ничего воинственного. Судя по всему, им обрыдла военная служба, которую они исполняли по принуждению, надоела жизнь, которую им, победителям, приходилось вести в чужих краях, среди чуждых побежденных, чей язык был им незнаком и непонятен. Когда разогретая кофейная жижа вскипела, они наполнили свои жестяные кружки, достали из ранцев черный хлеб и принялись за еду.
Нахохлившиеся, погруженные в свои думы крестьяне, заслышав жадное чавканье, пошарили в своих полосатых торбах и тоже начали есть, откусывая от мамалыги, которую пронесли на спине бог весть сколько верст. На мамалыгу сыпали соль с толченым красным перцем. И с аппетитом жевали. Один пригласил нас:
– Вы ить тоже странники, вроде как и мы. Не жалаити угоститца?
И он протянул нам кусок мамалыги – она была желтая, с толстой твердой коркой.
– Благодарствуем. У нас есть своя еда в лодке. Мы только вчера из дому, да и путь недальний.
– Недальний, баешь? По нонешним временам только и знай, кады за порог вышел, а кады назад воротишься, да и воротишься ли – того знать не дано. Нам-от примар сказал, что надоть скотину до Дуная спровадить, а там уж и домой возвернуться. А тута другой приказ вышел: скотину на баржу грузить и по Дунаю с ей вместе плыть, до самой до Германии. Одному богу ведомо, что еще по дороге приключится, увидим ли мы когда наших жен да пострелят. У меня дома семья голодная осталась. Летошний год хлеб не уродился, а что у мужика с прошлых годов сохранилось, все немцы позабирали. Даже мелкую живность со двора свели. Вот и сидим безо всего, хоть о голоду помирай…
– Это во всех местах так, куда немцы пришли. Что поделаешь, война…
– Вот и все так: война, дескать! А кто ее затеял, войну-то, и зачем? Вот, братец, дело-то в чем!
Пелена дождя становится все реже, отступая на запад вместе с едва слышными раскатами грома – они бьют, словно редкие орудийные залпы затихающего боя, и слабыми зарницами взблескивают у самого горизонта. Разорвав слабую дождевую завесу, от Шиштова к Зимниче напрямик пересекает реку болгарский пароходик, непрерывно издавая короткие хриплые гудки.
Когда он подошел к берегу, дождь уже перестал. Сквозь голубой просвет в облаках вновь сияет солнце – еще ярче и жарче, чем прежде.
Мы спешим выбраться из ветхого сарая, вот-вот готового рухнуть под напором шального ветра, и прямо на себе сушим мокрые одежды, в которых проторчали в сарае целый час, лязгая от холода зубами. Не всегда бывает теплым даже летний дождь.
Болгарский пароходик с потрескавшейся и облупившейся черной краской перестал хлопать лопатками своих огромных колес и прилепился к длинной низкой набережной, сложенной из каменных глыб. По деревянному трапу, который перекинули с пристани портовые рабочие, первым сошел немецкий офицер. Краснощекий и круглолицый. Сапоги у него начищены до блеска – хоть глядись, как в зеркало, и закручивай усы, если они есть и хочется их подкрутить, – а серый мундир помят, будто только что вынут из чемодана. Вся грудь в орденах, а в походке и взгляде сквозит самодовольство, высокомерие, господская спесь. За ним, боязливо и угодливо улыбаясь, поспешают двое молодых солдат. У одного левая щека обезображена застарелым шрамом от глубокой раны. Офицер и солдаты направились к зданию портового управления – оно тоже частично сожжено и разрушено. Мы проводили их взглядом, и вдруг с пароходика послышался крик:
– Эй, вы, на берегу, идите сюда, помогите вынести больных пленных. Это мамалыжники, из ваших…
Мы повернули головы. Кричал болгарский солдат, приземистый и коренастый, со смуглым лицом и большими черными бровями. Фуражка на нем сплющилась блином, красный околыш давно потерял свой первоначальный цвет, а козырек сломался у самого основания и болтался, будто крылышко подбитой птицы. Один рукав измызганного, в грязных пятнах мундира пуст и треплется на ветру. Сквозь рваные брюки просвечивают голые коленки. Ступни ног обмотаны портянками и всунуты в постолы. За спиной у солдата – большое старое ружье, какие были на вооружении у турок в войну семьдесят седьмого года. Ремнем служит толстая, вся в узлах веревка.
За спиной этого коротышки солдата, который позвал нас в надежде, что мы поднимемся на палубу и поможем снять заболевших пленных, стояло еще пять или шесть болгарских солдат, таких же оборванцев. Они выглядели глубокими стариками. Может, такими они были и на самом деле. Молодежь и крепких мужчин поубивали в войнах, которые здесь, на Балканах, следовали одна за другой.
– Эй вы, давай сюда! Чего ждать, или думаете, что вас с музыкой встретят? Музыки не будет… – Он было улыбнулся, но улыбка тотчас застыла на его сухих, потрескавшихся от ветра губах. И только добавил: – Давайте сюда, это румыны… из ваших…
– Айда, парни, надо пособить!
– Айда, дядюшка Опришор!
Вместе с нами на пароходик поднялись и полуголые пастухи, сидевшие в сарае.
– Румыны ведь, земляки. Да мы бы пришли и чужим пособить. Пленный – это пленный. В беде, значит. Так ведь, болгарин?
– Это уж точно, румын!
По железной винтовой лестнице один за другим мы спустились вниз, в полукруглое помещение.
На голом полу, тесно прижавшись друг к другу, словно пытаясь согреться в этой душной и смрадной плавучей камере, лежало человек тридцать солдат. Не люди – скелеты… Кожа да кости… Да глаза, блестевшие тускло-тускло, того и гляди потухнут. То, что некогда было военной формой, превратилось в полуистлевшие лохмотья.
Все, сколько нас было – семь-восемь человек, спустившихся в трюм, – прислонились к дощатой переборке. И замерли, потрясенные зрелищем; только губы у нас дрожали, выдавая сострадание. Мы смотрели на больных, а больные глядели на нас потухшим взором. Один из них проговорил голосом пришельца с того света, отрешенным и глухим:
– Неужели до родины добрались, братцы?
– Да, вы на родине.
– Где же мы?
– В Зимниче.
– Вот теперь и помереть можно…
– Раз уж добрались, не помрете.
– С голоду околеваем… Все время одной травой кормились да корой с дерева. В болгарских горах…
– Ну, взваливайте больных на спины и выносите с парохода, а то, неровен час, вернется немец офицер, тогда уж несдобровать ни вам, ни нам…
Это гаркнул однорукий. Он стоял на верхней ступеньке лестницы. Приказать-то легко, а вот попробуй выполнить. Мертвеца на спине тащить потяжелее, чем живого.
Я взвалил одного солдата на плечи и стал подыматься по лестнице. Страхи мои оказались напрасными. Человек был совсем легким – не человек, а кожаный мешок с громыхающими костями. Он обхватил меня за шею – руки у него желтые, как у мертвеца, с синими ногтями. Я догадался, что он еще жив, по горячечному дыханию, обжигавшему мне затылок.
Четыре раза спускался я в трюм. И четыре раза взбирался по винтовой лестнице, нащупывая ногой ступеньку за ступенькой – не дай бог споткнуться и сорваться вниз.
Мы уложили полумертвых пленных на сухое место под навесом сарая. Их было тридцать два человека. Немцы, сопровождавшие быков, стада коров и отары овец, тоже взглянули на пленных, но не выразили никакого удивления – откуда ему взяться у бывалых солдат, привыкших и к более страшным картинам? После стольких мучительных лет, проведенных среди мертвых и умирающих, чужая смерть уже не трогала их.
Лишь по лицу хромого пробежала тень. Он обратился с каким-то вопросом к своим товарищам, ему ответили, и он опять принялся собирать сухой хворост и обломки досок. Набрав порядочную кучу, раздул потухший было огонь и повесил над пламенем котелок с водой, бросив туда несколько больших комков цикория. Самый старый из немцев собрал на дне ранца пригоршню сахара и опустил его в черную жижу.
Пока разгорался огонь и в кипящем котелке варился цикорий, немцы сполоснули в дунайской воде свои серые жестяные кружки и вернулись в сарай; все пятеро, наполнив кружки, опускались на колени возле больных солдат и, приподняв им голову, подносили кружки к губам и давали отпить. Однорукий и другие болгары стояли в сторонке, голодными глазами наблюдая за этой процедурой. Немцы на них даже не взглянули.
– Эти немцы, наверно, считают нас виноватыми в том, что ваших земляков до такого непотребства довели… А в этом не нас винить надо, а наше начальство. В Болгарии-то голод. Нам и самим есть нечего. Дома семьи голодные остались. Чем тут тысячи оголодавших пленных накормишь? Этих мне приказали отвезти на родину. Вот я и привез. Ждал – появится кто-нибудь из ваших, заберет их, позаботится.
– Ты, болгарин, хорошо по-нашему говоришь. Жил, что ли, у нас?
– Нет, до этого дня бывать не приходилось.
– Значит, сам из румын?
– Да нет, сам-то болгарин, а вот старики из Румынии родом. Семья возле Плевны живет.
– Звать-то как?
– Михай Сперие-Вакэ.
– А дома у себя как разговариваете?
– То по-болгарски, то по-румынски, как язык повернется… Но больше по-румынски.
– А село ваше как называется?
– Мы его Гэурень называем, а болгары – Гаврено. В Болгарии много болгар вроде нас, которые по-румынски говорят.
– А я вот из тех румын, что в Румынии живут, а говорят по-болгарски, и нас тоже много таких. Меня вот Стоян Велчу зовут; сколько себя помню, родные возле Питешти проживали… Дома у нас обычно по-болгарски говорили. Такую привычку от стариков переняли…
Между болгарином Михаем Сперие-Вакэ и румыном Стояном Велчу завязывается разговор; говорят по-болгарски…
– В этом краю давно все племена перемешались… да ведь на каком бы языке ни говорить, все люди.
– Люди-то люди, а грыземся, как звери.
– И живем хуже птиц поднебесных.
– О птицах небесных господь бог заботится.
– А про нас вот забыл.
– Что поделаешь, война…
– Войну господа начинают…
– А мы на своих плечах выносим…
Пленные, лежащие под навесом сарая, как малые беспомощные дети, предоставили себя попечению немецких солдат. Хромой подбрасывает в костер хворост. От подвешенного над костром котелка вновь валит пар, это кипит цикорий, смешанный с перемолотым поджаренным ячменем, который отдаленно напоминает кофе.
– Ну, парни, пора отплывать, а то так и до вечера тут проторчим.
– Поехали, дядюшка Опришор.
Мы уже спустились на берег, и вдруг меня окликнули:
– Эй, парень с больной ногой, погоди!
Я обернулся. Один из пленных, с трудом приподнявшись на локте, просил меня подойти.
Я подошел.
– Это я тебя звал. Личность твоя мне вроде бы знакома. Ты случаем не из Омиды?
– Из Омиды.
– Тудора сын…
– Да.
– Дарие звать…
– Дарие.
– Стало быть, не ошибся я! Все к тебе приглядываюсь, как ты меня на спине с баржи вынес и сюда под навес перетащил. Вроде лицо знакомое… А вроде и нет, все сомнение брало…
Я разглядывал его восковое лицо, обросшее бородой, усы, брови, потухшие глаза. Не мог понять, кто это, как к нему обратиться. Он заметил мое недоумение. Попытался улыбнуться. Но улыбки не получилось.
– Вижу, не узнаешь. Переменился я за войну, да за то время, пока в лагере сидел…
– Стараюсь припомнить, да не могу…
– Драгомир я, младший сын Тэкицы Гэбуни из Мындры. Тебе двоюродный брат.
– Дядюшка Драгомир!..
Я погладил его руку с большими посиневшими ногтями. Руки были такие худые, что я не решился их пожать.
– Я и в самом деле так переменился, Дарие?
– Переменился, дядюшка Драгомир…
В последний раз я видел его года три назад, на его свадьбе. Тогда он был строен, как сосенка… Высокий… Крепкий… Глаза солнечно светились от полноты жизни. А теперь передо мной была кучка тряпья, под которым еще билось сердце…
– Все война… Лагерь… Не знаешь, как там у нас, в Мындре?.. А дома у меня… жена осталась… Сын… Когда я уходил, он еще грудь сосал…
Я ничего не знал о них. И соврал:
– Все здоровы, дядя Драгомир. Здоровы и ждут твоего возвращенья.
В остекленевших темных глазах на миг зажглась искорка света…
– Вот выздоровлю, Дарие, доберусь до дома…
– Обязательно, дядя Драгомир…
Надежда вдохнула в него бодрости. Но в лице не осталось ни кровинки, а если и осталось – то желтовато-белого цвета; такая кровь бывает у людей, умирающих после долгой болезни…
– Где вы в плен попали, дядюшка Драгомир?
– Возле Туртукая… Ужасная была бойня… Только горстка солдат уцелела… Меня в голову ранило… Зажила голова… Я еще поправлюсь… – На лице его выразилось вдруг удивление: – А ты чего здесь?
– В Бухарест еду.
– А когда назад?
Я соврал во второй раз:
– Через пару дней.
– И потом в Омиду?
– Да.
– Если попадешь туда раньше меня, передай привет Иоане, свояченице твоей, и всей семье. Скажи, что видел меня, что скоро я и сам домой прибуду. Уже здоровый.
– Конечно, дядя Драгомир.
И я распрощался с двоюродным братом. Знал, что уже никогда его не увижу. Больше двух-трех дней ему не протянуть.
Со стороны таможни к сараю шли люди с носилками – забрать больных в городской госпиталь.
– Эй, Дарие…
– Иду, иду, дядюшка Опришор!..
Мы горстями выкачали со дна лодки воду, набежавшую во время дождя. Потом все трое забрались внутрь, отвязали и поплыли дальше вниз по течению.
Воздух после дождя был напоен свежестью, ярко серебрилась на солнце вода.