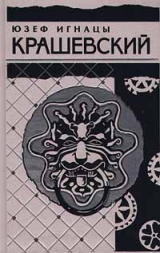
Текст книги "Чудаки"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
IX
Всякий из моих читателей знает, по крайней мере, несколько уездных городков в нашем краю. Этот элемент провинциальной жизни, за немногими поверхностными изменениями, везде представляется в одном и том же виде.
Каждый уездный город стоит обыкновенно над небольшой рекой, озером или прудом, в стране песчаной или болотистой и богат евреями. В нем вы увидите деревянные дома и даже каменные; иногда мостовая ведет в трактир, биллиард и в кондитерскую; имеет почту, учителя музыки, приходский костел, соборную церковь, чистую и красивую, заставу, у которой играют маленькие жиденки и сидят два еврея с железными прутьями, в соломенной или деревянной будке и смотрят, чтобы в город тайком не привозили вина. В каждом из них есть уездный и земский суд, предводитель дворянства, уездный начальник, казначей, несколько священников, несколько учителей уездной школы и, наконец, инвалидная команда под надзором господина городничего и несколько квартальных – вот каков состав здешнего общества.
К важнейшим личностям, о которых мы забыли упомянуть, принадлежат: секретарь предводителя, уездный врач, несколько вольно практикующих врачей, и проч., потому что список будет слишком длинен.
Главный состав здешнего народонаселения составляют евреи и мещане, в длинных сероватых и синих кафтанах, в высоких барашковых шапках, и в черных по колени сапогах, но этот костюм они носят только в праздники; а в будни ходят в тулупах и свитках, но босые. Один, два или больше постоялых дворов, из которых один назначен для принятия достойнейших лиц; кондитерская, плохой трактир (в котором помещики обедают только в отсутствии предводителя), лавочки с туземными и заграничными товарами; вот ресурсы уездного городка.
Ах, да! Мы забыли упомянуть, что во многих городках есть тоже… некоторые лавки, помещенные обыкновенно между двумя другими, в которых с одной стороны продают подошвы, а с другой книги. Это не книжная лавка, а просто библиотека, в которой купец, кроме книг варшавского изделия, продаст тоже другие изделия, как-то: варшавское накладное серебро, кожаные и соломенные изделия, занимается иногда торговлей хлебом; словом, здесь вы найдете всякую всячину, потому что книги не дадут насущного хлеба ни писателям, ни их продавцам.
В этой городской библиотеке первое место занимают переводы Сю, Дюма, Тьера (но последних жители города не покупают, потому что не привыкли к такой грубой пище), и переводы Поль-де-Кока; наконец, два или три романа и повести Лясковского, Богутского и проч. В каталоге книг вы найдете тоже двадцать томиков брюссельского издания французских новостей (выпущенных лет десять тому назад), которые постепенно, растрепываясь, заменяются подобными же новостями. Здесь «Парижские тайны» до сих пор в ходу. Ловкий и расторопный жидок, предупреждая желание покупателей, ежедневно посещает постоялые дворы и предлагает свои книги во всех дверях, под каждым окном.
Но оставим в покое бедную книжную лавку, а вернемся к нашим уездным городам, которые, несмотря на общие черты физиономии, не имеют, однако, такого однообразного вида, как нам кажется. Здесь, как и в человеческих лицах, длинных или коротких, широких и узких, раздутых и покрытых бородавками, носы, губы и глаза переменяют выражение, и представляют различие в лицах, состоящих из одних и тех же частей. Нет даже двух городов совершенно сходных, а каждый имеет свои приметы. Возьмем, например, город К…, отличающийся прекрасным садом при дороге, развалинами замка, великолепным постоялым двором, и наконец каретой предводителя. В уездном городе, о котором идет речь, находящемся вблизи Тужей-Горы и Румяной (которого ни на одной карте покуда найти нельзя), было все то, о чем мы выше упомянули, исчисляя составные части уездного города, а кроме того, еще много чего другого, ему свойственного. Во-первых, он стоял на месте прежнего древнего поселения, над довольно судоходной речкой и прудами, которые были бы прекрасны, если бы не окружали их жидовские избы и грязь; во-вторых, имел почти везде мостовые; в-третьих, в нем были для размышления и утешения археологов – валы древнего замка, каменная, величественная синагога XVI столетия, и старая ратуша с надломанной башней; кроме того, новая и чистая церковь, несколько старых и мрачных костелов, две довольно порядочные улицы, на которых можно было даже разъехаться, обширный рынок, довольно много деревянных, белых дворянских домов, и более десятка каменных. В центре города десять постоялых дворов раскрывали свою широкую и черную пасть. Ряды каменных лавок смотрели, как стоглазый Аргус на проходящих, а пустая гауптвахта, украшенная стройными тополями, отдыхала, служа пока местом игр для детей, а жене ближайшего будочника – сушильней для выстиранного белья. Напротив нее и так называемой ратуши, в которой скрывались только совы и воробьи, стоял самый лучший и первый в городе трактир, содержателем которого был, как водится, еврей. Местоположение этого трактира было самое заманчивое: ряды с лавками и кондитерская были очень близко, почти в нескольких шагах, уездный суд под боком, земский суд в каменном доме напротив. Приезжие имели перед глазами самое разнообразное зрелище: входящих и выходящих из трактира, подъезжающие к почте брички, идущих в суд чиновников, бродяг, которых вели из полиции в острог, и пьяных, качающихся перед знаменитым шинком, – весь этот сброд народа проходил мимо знаменитого трактира.
Хозяин, почтенный Авраам, с длинной бородой, в черном сюртуке по пятки, пользовался в околотке славой честнейшего и ничем незапятнанного хозяина; случалось, что старые, забытые в его доме конверты, дырявые тазы или истоптанные подметки от сапогов он возвращал по принадлежности, а брал только вдвое дороже других. Крашеные ставни давали ему на это право. Пятьдесят рублей серебром можно было смело ему поверить для размена, но за это он брал только по копейке с рубля. Дом Авраама недаром назывался гостиницей, между тем как остальные назывались только корчмами, или постоялыми дворами. На столбах стояли два фонаря, точь-в-точь такие, как у почты, и придавали дому торжественный вид; свечки никогда в них не горели, так как и на почте, но в таких фонарях никогда свечи не горят. Авраам не считал своей обязанностью давать пример, но сам готов был следовать ему. Он с гордостью повторял приезжему, что у него стояли три дивизионных генерала, один немецкий князь (он прибавлял заграничный), а два уездных графа только у него останавливались. Какая-нибудь бриченка, запачканная грязью, выстланная соломой и запряженная тощими лошаденками, с кучером в свитке, никогда не осмеливалась переступить порог отеля. Здесь только проскользали одни кареты, коляски и крытые рессорные нетычанки. Какой-нибудь оборванец не дерзнул бы почивать в этой гостинице, потому что привратник в бархатной шапке не пустил бы его. Между тем скажем, что этот привратник платил хозяину за право служения в его доме несколько десятков рублей; из этого можно судить, какое он занимал важное место.
С одной стороны коридора тянулись ряды гостиных, с другой в меньшем количестве менее парадные комнаты, а там биллиард и буфет, который местные знатоки предпочитали патентованной кондитерской швейцарца Карикато, находящейся на углу улицы с огромнейшей вывеской, расписанной пушками с мороженым, тортами, кренделями и шоколадницами; внутри эта кондитерская была разукрашена историей Вильгельма Телля и Аталы, но она не могла спорить с буфетом Авраама относительно славы и происходящей от нее прибыли. Авраам со своим семейством помешался тут же возле биллиарда и буфета. Он был чрезвычайно горд, а с приезжающими в нетычанке даже невежлив, с господами немного дерзок, со шляхтой невыносимо напыщен; но владетель такого великолепного дома мог ли быть иным?
Богатый, привилегированный фактор почти всех окрестных помещиков, который часто им дает взаймы деньги, или старается у других им занять, лучше всех знает историю целого уезда и дела своих клиентов. Их характеры, обычаи, наклонности, тайные сделки и страсти он читал, как по книге. Записки Авраама, без сомнения, были бы лучшей хроникой для уезда, но, увы! – он не думал их писать, а единственным в этом роде его произведением была расходная книга.
Пасмурный осенний вечер ложился над городом в описываемое нами время. Небо со всех сторон покрывалось облаками синего отлива, ветер свободно гулял по опустевшему рынку, в костелах раздавался вечерний колокол, по мостовой тянулись ряды бричек, колясок, нетычанок, возов, и своим движением объявляли городу о важной эпохе в его жизни.
Кондитерская была великолепно освещена четырьмя сальными свечами; у трактира висел красный фонарь, одна сторона которого была заклеена синей сахарной бумагой; в воротах постоялых дворов кричали факторы, приглашая приезжих; на рынке слышен был спор, брань между факторами; кучера с размаху хлопали бичами, а дом Авраама горел огнем. Все трактиры этого города были заняты приезжими. Город гудел со всех сторон: здесь слышится приветствие, крик жидов, там брань кучеров, бряканье бубенчиков на лошадях, хлопанье дверьми. Среди этого гула слышался фальшивый тон шарманки, разыгрывающей через всякие пять минут одну часть вальса, приписываемого то Бетховену, то Шуберту, которого, по всей вероятности, не сочинял ни тот, ни другой; по твердой и сухой мостовой шлепают туфли, стучат сапоги суетящихся жидков, и бренчат болты лавок, отпираемых с необыкновенною торопливостью, несмотря на позднюю пору.
Что делается в городе, лучше всего можно узнать у Авраама. В обыкновенное время в его биллиардной собирались канцеляристы земского и уездного судов и рассказывали свои дневные проказы с приезжей шляхтой, теперь же здесь заседали знатные гости, которые недавно приехали толпой из деревни.
Во главе их, если не головой и чином, то, по крайней мере, своим огромным брюхом отличается пан Иеремия Петрилло, бывший владетель трех деревень; но теперь у него остался только один небольшой, и то заложенный, участок. Он сидел с длинным чубуком во рту, попивая чай с ромом. Он то закрутит усы, то шлепнет себя по брюху, то пробормочет что-то под нос. Добряк, хлебосол, ему, как всем добрякам, под конец не хорошо жилось на свете. Три деревни улетучились вместе с дымом трубки и разгула, и хотя из его огромного имения осталась только небольшая часть, Петрилло не унывал и не сошел с ума. Прокутил имение! Что ж делать? Зато знакомые его любят. Иногда от заботы он наморщит лоб, потому что он оставляет двоих детей почти без куска хлеба, но мало ли есть на свете людей без хлеба? Нужно всячески утешать себя, – в стакане утопают воспоминания прошедшего, на его золотом дне тонет тоска. В молодости Петрилло служил в военной службе, где всего легче научиться всему доброму и дурному: из ее школы выходят ревностнейшие хозяева и величайшие лентяи. Случилось, что Петрилло вышел из нее с возбужденными страстями, а после смерти отца, когда ему досталось имение, спустил его скоро и весело с друзьями. Жена, кроткая женщина, не смела сопротивляться добрейшему мужу, у которого была одна только слабость: он был страшный волокита, сидел только дома, когда гостей принимал. Из любви она прощала ему этот порок. Он прокутил свое имение не вследствие одного лишь разгула и нерасчетливой жизни, но часть его пошла тоже на милостыню и добрые дела. Один Бог знает: чего было более в жизни Петриллы, добра или зла?
Далее за ним сидит пан Тыбурций-Калетынский. Это был сухой, прямой, худой, черный, с усами на загорелом лице шляхтич, который из пятидесяти тысяч нажил миллионное состояние. Он женился на богатой девушке, но лета и лицо его жены не нарушали его супружеского спокойствия. Он постоянно трудился и копил деньги; жил скромно, никому не делал добра, и таким образом вышел в паны. Не приведи Бог быть ему подвластным! Лучше быть лошадью или собакой, потому что он их кормит и жалеет, а людей не щадит. Но зато сколько у него наличных денег! Сколько скирд! Какие запасы! Все говорят: нет лучшего хозяина, как Калетынский, это образец для всех помещиков! Правда, что в нем мало совести, но много денег, а деньги – это фундамент. Калетынский мало говорит, саркастически улыбается, потому что знает, что ему будут поддакивать, но в каждом случае упорно и бесстыдно торгуется за грош, как цыган.
Что касается бедных, он всех вообще считает скрытыми богачами, которые просят милостыни из одной лишь алчности, лени и хитрости, а дают тайком капиталы на проценты. Всякий раз, когда бедный подойдет к его окну, он ему рассказывает анекдот про нищего, который носил в палке тысячу червонных злотых, и вследствие этого он никому ничего не дает. К счастью, он не изучил аксиомы, что не следует, давая милостыню, сопротивляться воле Божией, потому что, наверное, следовал бы ей.
За ним третий, пан Оголевич, известен своей лишь страстью к картам, которым посвятил всю свою жизнь. Веселый, но глупый, как пробка, уверенный в самом себе, неизвестно вследствие чего, с геркулесовским сложением, крикун, забияка, любитель лошадей и рюмки. Этот тип слишком известен, и потому не стоит его описывать. В каждом уезде есть свой Оголевич: mutatus mutandis.
Далее, в сером на вате кафтане, с коротко подстриженными седыми волосами, с бледным лицом сидит пожилой старичок. Он прихлебывает по капле чай, стоящий перед ним, кряхтит, все молчит и, только изредка возвышая голос, декламирует без конца, приискивая выражения, но без всякой логики. Он довольно зажиточный помещик, всю свою жизнь старался жениться, и теперь не прочь; но в напрасных поисках он потратил годы и потерпел тысячу неудач, очерствел, прокис и одичал. Улыбнется ли ему надежда, он весел, как дитя, и отличнейший болтун. В уезде его называют кавалером per excellentiam. Это пан М. Ржешицкий.
Возле него молодой его родственник, недавно возвратившийся из Берлина, Павел-Христофор Ржешицкий. Он докуривает сигару с чисто иностранной грацией и удивляет провинциалов своим необыкновенно длинным жилетом и чрезвычайно коротким сюртучком. Все время, назначенное для науки за границей, он прогулял; однако ж, у него что-то путается в голове из слышанных лекций, разговоров и отрывков прочитанных книг, и потому он влияет на невежд, между которыми он считается очень умным. В другом обществе он мрачен и молчалив, показывая, что он не так глуп, как кажется. Лень – его первая страсть.
Рядом уселся добрейший и бесценнейший Цинциранкевич, человек неизвестного происхождения, наинижайший слуга целого уезда, нахлебник и приятель всех домов, в которых можно хорошо поесть.
Цинциранкевич охотно садится играть по небольшой в преферансик, в вист, по три гроша, и в дьябелка по два злотых (когда немного навеселе), но с особеннейшим удовольствием он садится за стол в столовой. В глаза он всех чрезвычайно хвалит, а в чужом доме ловко злословит с участием, то есть сожалея, кивая головой и вздыхая. Если его пригласят на обед, он поддакивает всем и во всем без исключения, а имея много талантов, он всю ночь готов играть мазурку на фортепьяне, настраивать инструмент, выезжать лошадей, смотреть за стрижкою овец, барышням рисовать узоры, переписывать поварские кушанья, даже ухаживать за старыми девами. Еще не испытано, умеет ли он чистить сапоги, но, судя по его собственной обуви, можно предполагать, что и этот талант ему не чужд, и что он глубоко изучил тайны природы и употребления ваксы. По всей вероятности, он хотел бы жениться на ком попало, лишь бы на богатой; и ожидает случая, кому бы мог послужить ширмой и пожертвовать собой.
У него есть заложенный участок в какой-то деревне, который он получил по разделу, и эта деревня уже десять лет находится в опеке; у него есть тоже тройка лошадей, из которых одна явно слепа, другая скрытно, а последняя падает на ноги, но незаметно; есть кучер, который вместе и лакей; пенковая трубка, обшитая в штопанную перчатку; двуствольное ружье и шкатулка, полная секретов.
Он никогда ни съест, ни выпьет на свои деньги, но зато на чужие с величайшим удовольствием; призванный в свидетели, он никогда не дорожит собой. Цинциранкевича все толкают, а он всем кланяется, всех обнимает и, вытолканный в двери, неожиданно возвращается в окно, без гнева, без желчи – такая прекрасная душа!
На стульчике, возле печки, подобрав ноги под себя (по восточному обычаю, кому не известно, что мы восточного происхождения? А эта привычка может служить доказательством генеалогии), расселся уездный предводитель – глава уезда.
Невдалеке от него стоит неотлучный секретарь Шеренетка, полный, обросший черными волосами, огромного роста мужчина, с большим перстнем на пальце, в зеленом вицмундире, с пряжкою за пятнадцатилетнюю службу.
Предводитель тоже полный, в черном вытертом сюртуке, говорит очень громко о том, о чем не стоило бы даже тихо говорить.
Он добрый человек, но был бы еще лучше, если бы не любил более всего денег. Он готов даже сделать добро, если в этом видит свою пользу. Кроме своей выгоды и пользы, его ум не в состоянии ничего понять, а потому он ни на минуту не может обойтись без секретаря. Голова, которую он держит на плечах только для формы, полна плоских острот, шуток, пустой болтовни, но не в состоянии связать даже двух серьезных мыслей, и потому он везде и всегда имеет неизбежную надобность в секретаре, за исключением контрактов с евреями, – с этим народом предводитель сам сладит. Если случится дело, касающееся службы или опеки, то предводитель никогда не заботится узнать о его развязке и медлит ответом, пока не придет его секретарь, при котором снова начинается разговор. Один из трех условных знаков управляет обещанием благоприятного успеха, решительного отказа, или отсрочкой дела. Если секретарь покачает головой, то напрасно помещику доказывать, что его имение несправедливо остается в опеке; если склонит ее на грудь, предводитель радуется, что это дело можно скоро решить с успехом; если сложит руки на живот, то дело отлагается до дальнейшего размышления. Вдобавок, клиенту обыкновенно является необходимость поговорить наедине с секретарем. Неизвестно, по какой причине секретарь привык складывать руки на живот, и постоянно он держал их в таком положении. В городе приписывали эту привычку опасению холеры и потребностью согреть этот важный орган жизни.
Кроме упомянутых особ, здесь находим еще капитана из Куриловки, с которым мы уже немного знакомы, всегда невзрачно одетого, с гадким своим табаком, портящим в комнате воздух, щедро наделяющего всех поклонами и объятиями; пана Самурского, громко спорящего с выражением скорее солдата, нежели дипломата; и молодого Паливоду, который метит занять достойное предводительское кресло, имея на него претензию, по крайней мере, за свой открытый стол и трехлетнее потчиванье господ избирателей.
Нам нужно еще упомянуть о Паливоде; этот тип, хотя часто встречается у нас, но характеристичен, а потому его нельзя не представить читателям.
Это был высокого роста блондин, здоровый, крепкий и сильный мужчина; черты его лица были бы прекрасны, если бы он не коверкал их разными кривляньями: то щурит глаза, отдувая верхнюю губу, то опять открывает их и поднимает вверх; иногда моргнет только одной половиной глаза, а другая остается неподвижна, или хмурит и подымает брови, как будто они у него на ниточках. Руки, ноги, голова, плечи и все члены тела у него в сильнейшем движении без всякой причины; никогда он не станет естественно, не сядет спокойно, не подойдет по-человечески; стоя, он качается, так что боишься за него; садясь, он падает и выворачивается на стуле; идя, прыгает, крутится и вытягивается, точно в конвульсиях. И таким образом, даже ничего не делая, ведет жизнь очень деятельную.
Длинные светлые усы спускаются по выбритому лицу; на голове образовалась преждевременная плешь, остальные волосы он зачесывает назад. Носит обыкновенно короткую шубку или казачку, подшитую зимой простым барашком; шаровары необъятной ширины, вышитые кожей, кавказский пояс, набитый серебром, а на шее платочек светло-пунцового, или голубого цвета, небрежно завязанный. На мизинце у него блестит маленькое колечко. Прекрасная легавая собака лежит у его ног, потряхивая бронзовым ошейником. Его окружает молодежь; он рассказывает чудеса о своих гнедых лошадях с самоуверенностью, на которую дает право кулак, молодость и деньги. Он был бы смешон, если бы не был страшен; иной и не прочь бы посмеяться над ним, или противоречить похождениям лошадей, собак и двустволок, но не посмеет, страшась кулака, сабли, пистолетов и всех последствий, которые грозят тому, кто заденет Паливоду. Но, несмотря на недостатки его характера, или, лучше сказать, воспитания, нельзя не признать в нем благородства, душевной доброты, даже честности; между тем, он делает ежедневно страшнейшие глупости, которые бросают тень на его характер. По наущению товарищей, он в ссоре с матерью, прекраснейшей женщиной. За то, что она упрекала его в пустой и праздной жизни – он сказал ей: «Эх, что эти бабы понимают!» С тех пор, хотя он не видится с справедливо обиженною матерью, однако ж питает к ней должную признательность и издали помнит о всех ее нуждах. Несмотря на благородство, он по рассеянности не исполняет иногда данного слова еврею.
– Что такое жид? Пиявка, которая сосет нас! – кричит он, оправдываясь перед самим собою, а сам не видит, что чернота еврея нисколько не оправдывает его собственной копоти. Легкомыслие и страсть к лени – вот главные источники его пороков.
Смолоду он не привык считать обязанностей главным основанием своих действий, а в зрелом возрасте удовольствия жизни ему мешают их заметить; его принцип – наслаждаться!
Как много мы находим подобных людей в разных сословиях и в разных странах, которые сомневаются в будущем, а из настоящего стараются выжать все соки для себя.
У Паливоды нет более серьезного занятия, как охотиться, играть в карты, пить для того, чтобы выиграть пари. Он ищет ухаживанья, которое легко дается; избегает общества, для которого нужно надеть фрак и белые перчатки; стреляет в цель; ездит верхом; любит свободную беседу и проч. Оставшись один, он скучает. По этому можно судить о человеке: кто скучает с собою наедине, у того нет основания; рано ли, поздно ли, принужденный вести уединенную жизнь – он предается гадким страстям, чтобы избегнуть самого себя. Он утонет в пьянстве или в разврате. Но пока на звук золота, побрякивающего в кошельке, откликаются голоса друзей Паливоды, он не станет жаловаться на жизнь. Нет дня, в который он не находил бы общества, готового повеселиться.
В описываемый нами день круг мнимых друзей шумно совещается выбрать в предводители Паливоду. Иногда, среди общего гула, то послышится сильный голос, доказывающий необходимость решительного действия; то опять монолог уступает место диалогу. Самурский, глава союза, шепчет на ухо советы кандидату, и тихо рассказывает ему о своем визите пану Грабу. Молодежь приближается и любопытно прислушивается.
– Увидим! – кричат смельчаки. – Пускай только покажется, мы дадим ему славный урок.
– Оставьте его в покое, лучше не затрагивайте его, – возразил Паливода, задумавшись.
– Как, лучше не затрагивать! – закричал молодой человек с черными усами. – Что? Не лучше ли позволить водить себя за нос? Какой-нибудь старый педант станет читать тебе мораль и проповеди, а ты еще ему кланяйся за это? Нет, нет! Хочет получить урок – получит!
– Тише, тише, пан Юзеф! Не горячитесь, а то надорветесь! – сказал Паливода. – Когда увидите его, я ручаюсь, что остынете. Я не в претензии за то, то он говорил, потому что отчасти он прав, а затрагивать его, ей-Богу, вредно.
– Увидим!
– Увидим!
И громкий разговор снова перешел в шепот, возгласы и ропот.
Конюший Сумин приехал тоже в город, не столько для выборов, сколько для того, чтобы узнать о торговле хлебом. Из экономии он остановился в плохом и грязном еврейском доме, у родных своего арендатора. Его не было на предварительном съезде в гостинице «Авраама»; не было тоже обоих Грабов, ни молодого Сумина, потому что они только что приехали и предпочли, после разборки вещей, предаться лучше отдыху, чем идти в город.
Между тем, около биллиарда завязался оживленный разговор; главным предметом его были выборы нового предводителя. Прежний предводитель очень желал остаться на своем месте. Паливода и другие усердно старались сменить его, не перестав, впрочем, уверять его, что будут держать его сторону. Тихая партия выводила в предводители пана Калетынского, который, высчитав вперед все выгоды и потери, извлекаемые из предводительства на будущих съездах, и приняв в соображение безнаказанность во многих, необходимых для него злоупотреблениях, все еще колебался, соглашаться ли ему принять предводительский титул вместе с его выгодами и бременем службы из уважения к дворянам.
Многие, как, например, капитан, по скрытности своего характера, Цинциранкевич, по привычной своей учтивости, не обнаруживали, кому они обещали свои голоса. Цинциранкевич осторожно разбирал у кого были бы самые вкусные и богатые обеды, если бы его выбрали в предводители. Чувствуя, что самый плохой обед лучше совершенного голода, он ни в ком не хотел нажить себе врага.
Присутствие предводителя, сидящего возле печки, препятствовало громко совещаться, как партии Паливоды, так и другим; но как только предводитель с секретарем вышли за дверь, разговор принял самый оживленный тон.
Капитан, после долгого размышления, тщательно вычистил трубку, рассмотрел ее при свечке до самого дна; выдул, выскоблил ее щипцами от сальной свечи (он вовсе не был брюзглив в выборе средств); завязав старательно кисет, обмотал его около пуговицы, подумал и тогда только отправился к партии, которая, не присоединясь к друзьям Паливоды, потихоньку совещалась в углу. Он остановился и, наконец, с осторожностью втерся между совещающимися, и улучив момент, стал с покорностью говорить в таком роде:
– Позвольте, почтеннейшие господа!
– А, и господин капитан к нам! – отозвался Цинциранкевич, который рад был считаться чем-то важным.
– Речь идет о будущем предводителе.
– Точно так, – ответил кто-то со стороны.
– Позволите ли вы, господа, подать вам одну мысль? – спросил капитан.
– Даже две! – сказал, громко смеясь, так что затряслось у него брюхо, добрейший пан Петрилло, довольный своею остротой.
– Но пусть это останется между нами, – тихо прибавил капитан, осторожно оглядываясь, и втиснувшись в середину кружка, – чтобы только не узнали, что я первый подал эту мысль.
– Ну, ну! Стреляй, капитан, стреляй только смело!
– Скажу коротко, да метко: отчего нам не избрать в кандидаты пана конюшего Сумина?
– В своем ли вы уме?
– В своем ли я уме? – повторил, обидясь, капитан. – Выслушайте только меня!
– Слушаем.
– Он стар, богат, свободен, отчего ему не послужить уезду и дворянам? Повар у него хороший, я это знаю, а если теперь еще не такой, какого следует иметь предводителю, потому что предводитель держится секретарем и поваром, то ему ничего не стоит иметь отличного повара. Секретарь будет за него все делать, как водится, а повар будет стряпать, потому что у него есть на что купить и из чего сварить. Вдобавок, он человек добросовестный, честный, не тронет ни магазинных, ни других денег, это верно, и не позволит взять!
– В самом деле, мысль недурная, – сказал Петрилло. – Например, в свободные дни он может сделать облаву для целого уезда, с завтраком и шампанским.
Все громко расхохотались; капитан продолжал:
– Ну, ну! Смейтесь, смейтесь! Смех – смехом, но я не вижу повода, почему бы его не избрать.
– Домосед! – отозвался один.
– Старик – прибавил другой.
– И скучный, ворчун! – сказал третий.
– Но честный и богатый человек! – перебил еще кто-то.
– И дичи у него до пес plus ultra! – шепнул Цинциранкевич. – Дикие козы у него обыкновенное блюдо.
– И старое вино, – прибавил тихо Петрилло. – Правда, что он его бережет, но если его единодушно выберут дворяне на первое и достойнейшее место в уезде, кто знает, может быть, ключом от сердца мы доберемся до его погреба.
– Я знаю, – продолжал с горячностью капитан, – что он ничего не пожалеет. Но, тсс! Ни слова! Если он узнает о проекте, то вперед запротестует; итак – язык за зубами; увидим, что будет в губернском городе. Я берусь сделать его кандидатом. Вся суть – убедить всех секретным образом, что лучше всего избрать конюшего. А почтеннейшему предводителю нашему, которого я люблю и уважаю…
– Ценю и почитаю! – прибавил Цинциранкевич, не пропуская случая заявить свои чувства.
– Дистиллирую и препарирую, – тихо парадировал Петрилло.
– Которого уважаю, – закончил капитан, – сознайтесь сами, господа, пора ему уже на покой. Я не отрицаю достоинств и любезнейшего Паливоды… (который стоял в стороне и не был замечен).
– Достойнейший молодой человек, подающий надежды, – сказал важно Цинциранкевич, – у него даже в полночь стол накрыт.
– Ну! Паливода может подождать, – говорил капитан, – конюший – хороший человек.
– Прекраснейший из всех людей! – вторил ему блюдолиз.
– Конюший будет достойным представителем уезда, нечего об этом говорить! – отозвались некоторые.
Новая мысль, брошенная капитаном, скоро распространилась, а виновник ее бочком высунулся из трактира Авраама, самодовольно улыбаясь.
Рядом с домом Авраама, около каменного дома Ицка, на другой день поутру несколько лакеев в ливреях, в синих фраках суетились, бегали от одних дверей к другим. Прекрасная венская карета, обвешанная коробками и коробочками, знак, что в ней приехали женщины, стояли около дома, а резвые служанки, разговаривающие с лакеями, все зачем-то бегали к ней.
– Ян! – кричала одна. – Воды для барыни!
– Павел! – выбегая кричала другая. – Сварена ли кашка для барыни?
– Чаю для барыни! – отозвалась третья.
– Ян! Из окна дует, нужно завесить ковром, – прибавила первая спустя минуту, и выбегая опять из комнаты.
На кухне, в сенях, повар в белом переднике и два поваренка в курточках варили, жарили, суетились и трудились, несмотря на то, что было только девять часов.
В комнатах, выходящих на улицу, исчез запах, свойственный евреям: везде разносился чудный аромат. Стены были украшены коврами и различными безделушками, без которых женщины высокого тона не могут обойтись. Мебель расставлена со вкусом, прикрыта чехлами, так что нельзя было узнать ее прежнего происхождения. Из всего можно было догадаться, что «знатная пани», как выражались жиды, прибыла в уездный город, вероятно, в надежде найти развлечения, которые готовились молодыми людьми. Свита этой знатной пани занимала другую половину дома. Хозяева забились в уголок и только потихоньку переступали порог собственного дома.








